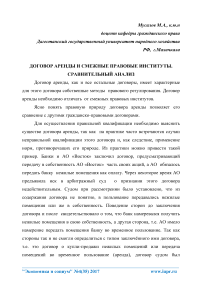Договор аренды и смежные правовые институты. Сравнительный анализ
Автор: Мусалов М.А.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Актуальные вопросы политики и права
Статья в выпуске: 4 (35), 2017 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140123221
IDR: 140123221
Текст статьи Договор аренды и смежные правовые институты. Сравнительный анализ
Договор аренды, как и все остальные договоры, имеет характерные для этого договора собственные методы правового регулирования. Договор аренды необходимо отличать от смежных правовых институтов.
Ясно понять правовую природу договора аренды позволяет его сравнение с другими гражданско-правовыми договорами.
Для осуществления правильной квалификации необходимо выяснить существо договора аренды, так как на практике часто встречаются случаи неправильной квалификации этого договора и, как следствие, применение норм, противоречащих его природе. Из практики можно привести такой пример. Банки и АО «Восток» заключил договор, предусматривающий передачу в собственность АО «Восток» часть своих акций, а АО обязалось передать банку нежилые помещения как оплату. Через некоторое время АО предъявила иск в арбитражный суд о признании этого договора недействительным. Судом при рассмотрении было установлено, что из содержания договора не понятно, в пользование передавались нежилые помещения или же в собственность. Поведение сторон до заключения договора и после свидетельствовало о том, что банк намеревался получить нежилые помещения в свою собственность, а другая сторона, т.е. АО имело намерение передать помещения банку во временное пользование. Так как стороны так и не смогли определиться с типом заключённого ими договора, т.е. это договор о купли-продажи нежилых помещений или передача помещений во временное пользование (аренда), договор судом был обоснованно признан незаключённым.
Сравнивать договор аренды возможно и с другими правовыми категориями (т.е. не только с договорами). Например, если знаки дорожного движения или другая, общественно полезная информация размещены на земельных участках или же на обочинах полей квалифицироваться это должно как ограничение публичного характера согласно п. 2 ст. 209 ГК РФ, а не как аренда и не сервитут.
Пользование поверхностным водным объектом в г. Махачкала оформлялось договором по форме, утверждённой Правительством Республики Дагестан. Серьёзный анализ содержания позволил утверждать, что здесь речь идет не о классической аренде и не каком-либо пользовании, а о публичном сервитуте, как о способе организации между субъектами взаимоотношений по пользованию водными ресурсами канала Октябрьской революции. Наличие или отсутствие правил уже урегулированных нормами экологического, уголовного, водного и других правовых отраслей, а так же содержание самой формы договора сомнительны. Также сомнения вызывает и субъектный состав договора так как Правительство Республики Дагестан не может быть стороной договора по водопользованию канала, оно не вправе и не уполномочен представлять Российскую Федерацию.
Договоры аренды часто обозначают по всяким причинам как «договоры пользования» чем-либо.
Например, если размещается реклама (указатели рекламные, щиты и прочие), то для заключения договора нужно руководствоваться не положениями о договоре аренды (субаренды). В п. 1 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой говорится, что договор, предусматривающий использование отдельных конструктивных элементов здания (в данном случае имеется в виду крыша здания) в целях рекламы, не может быть договором аренды. Президиум ВАС РФ указывает, что нужно вести речь в таких случаях о специальной квалификации возникающих отношений из-за иного объекта отношений, и, нельзя исключить, что такой договор может быть определен как непоименованный ГК РФ (то есть руководствоваться общими правилами об обязательствах и договорах, а не арендой)[1].
Если анализировать позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ к данным конкретным случаям, то мы думаем, что это правильная позиция. Но если не учитывать то, что мы рассматриваем не договор аренды здания, а его конструктивного элемента (крыша). При этом, конечно же, сохраняется возможность в подобных случаях иной квалификации отношений, но требуется, исходя из существа соглашения, тщательная оценка и правильное толкование, так как крыша может быть арендована не только для названных целей, но и для других. Если даже рассмотреть случаи использования в рекламных целях конкретных вещей, то и здесь могут быть отношения квалифицированы как договор оказания рекламных услуг. Например, если лицо, владеющее рекламным щитом, не только рекламу размещает, но и для других организаций создает рекламу, и может быть квалифицирован как договор оказания возмездных услуг. Например, если на рекламном щите только размещается реклама, а если он только всего лишь разрешает поместить рекламу, то, как договор непоименованный ГК РФ.
Если рассмотреть договор хостинга, то его, по моему мнению, как договор аренды нельзя квалифицировать, т.е. договор с некой организацией, которая обеспечивает свободный доступ в ресурсы (сайта) Интернет для работы с уже созданной базой данных. Для таких организаций (провайдеров) более характерным является не предоставления какого - либо объекта во временное пользование, а оказание услуг, так как они и размещают и передают информацию. Внешнее сходство в элементах, конечно же, имеется: свободное дисковое пространство базового сетевого компьютера пользователю провайдер предоставляет за плату. Суть отношений в данном случае не в предоставлении пространства сервера, а в том, что провайдером обслуживается информационный поток, он может вмешиваться и будет вмешиваться в процесс подготовки и подачи информации, это предусматривается самим договором между субъектами и в различных странах практикуется. Правоведы к изучению значительной части этих отношений только приступили. Эти отношения в основном представляют собой связи разного рода, которые характеризуются признаками разнообразных договорных институтов. А некоторые из них очень своеобразны и могут проявить себя как непоименованные гражданско -правовые договоры.
Очень часто трудности возникают и в проведении границы между договором аренды и иным договорным институтом. Например, серьёзные разногласия возникают при квалификации договора, возникающего при хранении вещи в автоматической камере хранения, при заключении договора чартера. Причиной разнотолков в таких случаях является отсутствие у договора аренды системных признаков.
В первом случае можно заметить три точки зрения. Первая точка зрения - это представление данного договора как договор хранения, например, Цыбуленко З.И. данный договор признает обычным договором хранения [3, с. 15]. Вторая точка зрения - признание данного договора разновидностью договора аренды. Например, Садиков О.Н. объясняет своё мнение тем, что названные отношения больше приближены к договору имущественной аренды (найма), так как организация (арендодатель) предоставляет ячейку автоматической камеры (место) для хранения вещи, а не принимает вещь от гражданина на хранение [2, с.43]. Это объясняется и тем, что ГК тоже рассматривает это как договор аренды, когда речь идёт о хранении в банковском индивидуальном сейфе ценностей. Транспортной организацией не принимаются вещи на хранение, она только может предоставить ячейку для краткосрочного помещения и хранения в ней ручной клади.
Пегов С.И., например, данный договор квалифицирует как один из разновидностей договора аренды[4, с. 80]. Позиция судебной практики несколько раньше совпадала с позицией, относящей этот договор к разновидностям аренды. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 1989 г. «О практике рассмотрения судами РСФСР дел по спорам, связанных с обслуживанием населения» этот договор отнесен однозначно к арендному; те лица, которые помещают вещь в автоматическую камеру хранения признавались арендаторами ячейки. Также Ю.В. Романец имеет такое же мнение при решении данного вопроса, ссылаясь на то, что транспортная организация по обеспечению сохранности имущества не несет обязанности, она несёт ответственность только в случае неисправности автоматической камеры. Но у него замечаются две нескоординированные позиции: с одной стороны, он отмечает отсутствие у железной дороги функций поклажедателя, а, с другой, указывает, что «направленность обязательства как нормообразующий признак выражается не в основном действии обязанного лица как таковом, а в экономическом и юридическом результатах, на достижение которых направленно это действие». Это означает, что цель договора именно определяет права и обязанности сторон. «Цель обязательства - это удовлетворение известного интереса». Рассматриваемый договор именно с такой позиции может и должен быть признан договором хранения, потому что конечной целью лица, который воспользовался автоматической камерой хранения транспортной организации, результат, который это лицо хочет достигать -это и именно является возможность хранения в автоматической камере вещи, а не возможность пользоваться самой камерой хранения. Его цель -сохранить свою вещь, а сама вещь и её свойства и характеристики его абсолютно не интересуют. Для арендатора существенное значение имеет сам объект договора, и его цель - это возможность пользования объектом. Тому лицу, который сдаёт имущество на хранение в автоматическую камеру, объект совершенно безразличен. Кроме того, автоматические камеры хранения создаются для достижения определённой, конкретной цели -хранения вещи. Но для того, чтобы дать такую оценку, надо определить чей же интерес преобладает и является квалифицирующим, а мы же привыкли полагать, что автоматические камеры хранения именно для того и существуют, и потому так называются, что предназначены для хранения.
Если сравнить с данным договором договор фрахтования, то законодатель договор фрахтования однозначно относит к договору перевозки, не смотря на то, что фрахтовщик предоставляет всю или некоторую часть вместимости одного или нескольких транспортных средств для перевозки грузов, пассажиров и багажа, то есть так же, как железная дорога предоставляет пространство камеры хранения. Соответственно те, которые относят договор о предоставлении камер хранения в транспортных организациях к договору хранении правы: «На наш взгляд, толкование ст. 923 ГК позволяет склониться к тому, что законодатель охватил ею и деятельность, связанную с эксплуатацией автоматических камер хранения».
Именно поэтому, часто в правовой действительности мы сталкиваемся с проблемой правильной квалификации договора аренды. Отсутствуют четко сформулированные признаки договора, что позволяет злоупотреблять правом участниками гражданского оборота; существующие размытые границы, которые разграничивают договора, позволяют , выбирать для себя наиболее выгодный вид договора с целью ловко уходить от различных платежей: таможенных, налоговых и иных. Можно ли решить эту проблему? На мой взгляд, можно только в том случае, если чётко определимся с квалификационными признаками договора аренды, иначе верная оценка и квалификация договора в каждом отдельном и конкретном случае и применение к нему норм права, предназначенных для правового регулирования не возможны.
Никаких затруднений обычно не вызывает, например, разграничение договоров аренды и купли-продажи, это легко делается, выяснив сохраняется у отчуждающего лица право собственности или не сохраняется. Точно также осуществляется и разграничение договоров аренды и ренты (см. п. 1 ст. 583 ГК РФ), мены (п. 1 ст. 567 ГК РФ) и дарения (см. п. 1 ст. 572 ГКРФ).
Если рассмотреть франшизу (коммерческая концессия), то здесь мы наблюдаем, что согласно нормам гл. 54 ГК РФ предмет этого договора чётко ограничен исключительным правом, не допускается передача вещи по этому же (п. 1 ст. 1027 ГК РФ); возможность передачи некоторых вещей вместе с исключительными правами не влияет на квалификацию основного договора коммерческой концессии. В таких случаях, надо полагать, что заключен дополнительно еще и договор аренды этих вещных объектов помимо коммерческой концессии.
Если соотносить договоры аренды и ссуды то ГК РФ рассматривает их как однотипные, т.е. как договора, направленные на передачу объектов гражданских прав во временное пользование. На сходство цивилистическая литература указывает издавна. Д.И. Мейер в своём учебнике указывает: «ссуда подходит очень близко к договору найма имущества»[5]. Ссуда отличается от аренды только тем, что представляется договором безвозмездным, так что подходит от части под понятие дарения и не требует определения о сроке договора. Но право, устанавливаемое по договору ссуды, совершенно то же, что и право по договору найма, - право пользования вещью сообразно ее назначению, без повреждения ее существа». Особая близость этих договоров отмечается и современной правовой наукой. Некоторые пытаются даже признать ссуду одной из разновидностей имущественного найма. Но фактор безвозмездности, что является конструкцией договора безвозмездного пользования, не даёт нам права согласиться с этим утверждением. Фактор безвозмездности как раз и является основанием для того, чтобы выделить ее в отдельный договорной тип, отличный от аренды. Отличия двух этих договоров - возмездность аренды и безвозмездность ссуды. Этим объясняется и отличный друг от друга подход в правовом регулировании этих отношений.
Тем не менее, одинаковое направление двух названных договоров позволяет нам пользоваться унифицированными общими положениями, в частности ст. 689 ГК РФ, содержащей арендные правила, применимые к безвозмездному пользованию.
Другим отличием этих договоров является предметы договоров: согласно ст. 689 ГК РФ по договору ссуды имущество передается в пользование, и тем самым ссудополучатель лишён вещно-правовой защиты.
Другие отличия заключаются в субъектном составе. В состав ссудополучателей не входят ссудодатели, а к аренде такие ограничения не применяются.
Если сопоставить договор аренды с последующим выкупом с договором купли-продажи с рассрочкой платежа то мы здесь наблюдаем некоторое внешнее сходство, связанное с обладанием имуществом до его полной оплаты. Их объединяет конечная экономическая цель, которая заключается, поэтапно внеся выкупную цену, приобрести право собственности. Цели едины, но, несмотря на это, они относятся к отличающимся друг от друга договорным институтам. Причина в том, что не совпадают некоторые конструктивные признаки: а) цель общая, но средства достижения их различаются, б) предмет договоров не сопоставимы, в) различны юридические и экономические цели обязательств, г) договор аренды выкупом арендованного имущества, заключается при приватизации муниципальных и государственных предприятий, характеризуется наличием не только частноправовых, но и публично-правовых элементов.
Если соотнести договор найма жилого помещения и договор аренды, то здесь мы наблюдаем единые родовые признаки, то есть возмездную передачу имущества во временное пользование. Хотя общность признаков существует, законодатель исходил из специфики обязательства по договору найма жилого помещения, которая исключает применение к нему родовых арендных норм. Этот договор законодатель выделил в отдельный тип договоров, который отличается от института аренды и регулируется нормами главы 35 ГК РФ. Ярко выраженный социальный характер договора найма жилого помещения, возможность удовлетворять главную потребность нанимателя в жилом помещении, предоставленная гл. 35-й ГК максимальная защищённость в отличие от арендатора и являются основной целью законодателя. Пристальное внимание уделяют авторы многих исследовательских работ, определению места договора найма жилого помещения в системе Российского гражданского права, ищут ответ на вопрос к какому типу договоров отнести этот договор, как самостоятельный или как разновидность арендных договоров.
Действующим законодательством зарубежных стран отношения связанные с арендой жилого помещения регулируются как один з видов договоров аренды. Гражданским кодексом Квебека, который вступил в силу 1.01.1994 г. правовые нормы, которые регулируют отношения, связанные с наймом жилого помещения отнесены к арендным отношениям и содержатся в отдельном разделе. А если рассмотреть нормы Французского ГК, принятого в 1804 г., то там нет нормы, предусматривающие и обеспечивающие особенное регулирование найма жилого помещения. В исследованиях таких авторов как Грибанов С.Н., Э.Л. Лаасика, Братуся, О.С. Иоффе и других обсуждается степень самостоятельности договора найма жилого помещения, но на сегодняшний день предпочтение отдаётся точке зрения, совпадающей с мнением законодателя: «Специфика предмета и субъекта, «наложившись» на общность цели правоотношения, привела к тому, что правила аренды стали применимы к жилищному найму лишь в «преломленном» виде, т.е. с учетом особенностей отношений найма».
Какими же квалифицирующими признаками выделяется договор найма жилого помещения? Во-первых, если рассмотреть позицию арендодателя, то конечная цель договора аренды - извлечение выгоды, а договор найма жилого помещения преследует конечную цель предоставить возможность нанимателю для удовлетворения основной потребности любого человека в жилом помещении. Во-вторых, единственно возможным способом пользования жилым помещением является проживание в помещении. В третьих, к договору найма жилого помещения возможно применение соответствующих норм закона о защите прав потребителя, так он носит потребительский, как раз по этой причине юридические лица-арендаторы не имеют права заключать договор субаренды с гражданами-пользователями, чтобы избежать ущемления жилищных прав граждан по сравнению с жилищными правами нанимателя. В четвёртых, договор найма жилого помещения имеет особенный субъектный состав в соответствии с п.1 ст. 677 ГК РФ.
Другие признаки, как объект договора (жилое помещение) нельзя считать квалифицирующими, так как этот признак присутствует и при договоре аренды, а если рассмотреть социальную направленность, то здесь нет ясной и четкой картины самого признака.
Определяющим является здесь целевая направленность названных нами институтов. Целью обязательства по договору хранения является обеспечение сохранности имущества. Основное направление данного института заключается в оказании услуг по обеспечению сохранности объекта договора хранения. В обязанности арендатора и так входит обеспечение сохранности арендованного имущества. Целевая направленность этих договоров различна, на что и мы обращаем внимание. По договору аренды арендатор обязан обеспечивать сохранность предмета договора, но цель его - использовать арендованное имущество, а обеспечивать сохранность предмета договора - не цель договора, а необходимое условие по возвращению переданной ему вещи по окончании срока договора аренды. Целью договора хранения является только деятельность хранителя по обеспечению сохранности вещи. Цель поклажедателя - получить свою вещь в целости и сохранности, т.е. заинтересован в конечном результате, а процесс этой услуги его не интересует, тогда как по конечный результат договора аренды -предоставлять арендатору возможность пользоваться вещью, извлекать посредством этого конкретную материальную выгоду.
Список литературы Договор аренды и смежные правовые институты. Сравнительный анализ
- Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой. Информационное письмо № 66 от 11 января 2002 г. http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/2986.html
- Гражданское право России. Обязательственное право: Курс лекций/Под ред. О.Н. Садикова. М., 2004. С. 43.
- Цыбуленко З.И. Обязательства хранения в советском гражданском праве. Саратов, 1980. С. 15
- Пегов П.В. Регистрация договора аренды и права аренды //Главбух. -2008. -№ 15. -С. 80.
- Мейер Д.И. Русское гражданское право. -М., Статут. 2000. -678 с. С. 12