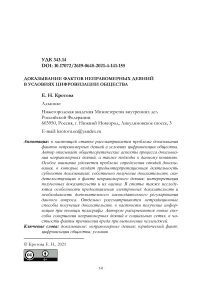Доказывание фактов неправомерных деяний в условиях цифровизации общества
Автор: Кротова Е.Н.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье рассматривается проблема доказывания фактов неправомерных деяний в условиях цифровизации общества. Автор описывает общетеоретические аспекты процесса доказывания неправомерных деяний, а также подходы к данному понятию. Особое внимание уделяется проблеме определения стадий доказывания, в которые входит предынтерпретационная деятельность субъектов доказывания; собственно получение доказательств, свидетельствующих о факте неправомерного деяния; интерпретация полученных доказательств и их оценка. В статье также исследуются особенности предоставления электронных доказательств и необходимость дополнительного законодательного регулирования данного вопроса. Отдельно рассматриваются нетрадиционные способы получения доказательств, в частности получение информации при помощи полиграфа. Автором раскрываются новые способы совершения неправомерных деяний в социальных сетях, в частности факты причинения вреда при выполнении челленджей.
Доказывание, неправомерные деяния, юридический факт, цифровизация общества, условия
Короткий адрес: https://sciup.org/147236818
IDR: 147236818 | УДК: 343.14 | DOI: 10.17072/2619-0648-2021-4-141-155
Текст научной статьи Доказывание фактов неправомерных деяний в условиях цифровизации общества
В современной юридической науке проблема доказывания фактов неправомерных деяний все более актуализируется. Причиной столь пристального внимания служит то обстоятельство, что способы совершения и формы выражения неправомерных деяний с каждым годом становятся изощреннее, на что прежде всего влияет повсеместная цифровизация общества. Граница с правомерным поведением, в свою очередь, становится более размытой, в связи с чем показатели выявляемости фактов неправомерных деяний остаются на среднем уровне. Между тем процесс доказывания представляет собой не линейно выстроенную последовательность действий, а многообразную систему установленных законодательством процедур по фиксации и распознаванию всех обстоятельств дела. Вне всякого сомнения, эффективность мероприятий по доказыванию фактов неправомерных деяний напрямую зависит от полноты и правильности действий уполномоченных субъектов на первоначальных этапах их выявления, а именно при предварительном установлении неправомерного характера совершённых действий или бездей- ствий лица на основании собранной информации и последующей квалификации анализируемого факта в качестве неправомерного.
Непосредственно после установления и квалификации фактов неправомерных деяний следует стадия их доказывания. Сущность данного процесса заключается в том, что факты прошлого и настоящего анализируются с точки зрения наличия оставленных ими «следов», свидетельствующих о неправомерном характере совершённого деяния. В ходе процесса доказывания воплощаются в жизнь те глобальные идеи, которые заложены законодателем в праве. В этом случае юридический факт является «проекцией» некого эмпирического образа конкретной ситуации либо определенным обобщением юридически значимых обстоятельств1.
Доказывание факта совершения неправомерного деяния происходит прежде всего на основании имеющейся совокупности аргументов, указывающих на неправомерность поведения субъекта. При этом приводимые аргументы непосредственно связаны с теми фактами, которые необходимо в последующем доказать, и располагаются определенным образом, демонстрируя хронологию совершения того или иного неправомерного деяния2. Здесь следует отметить, что для каждой разновидности неправомерных деяний характерны свои особенности доказывания, однако данным обстоятельством не отменяется наличие ряда общих черт и этапов доказывания, свойственных всем видам неправомерных деяний.
Так, традиционно процесс доказывания заканчивается оценкой приведенных уполномоченными органами фактов о неправомерности действий или бездействий субъекта. Как правило, оценка представленных данных охватывает все этапы выявления факта неправомерного деяния, начиная с установления и квалификации и заканчивая доказыванием последнего. При всем при этом особое внимание уделяется оценке представленных доказательств (вещественных и личных), на основании чего делается общий вывод о достаточности доказательств, а значит, о том, что лицо может быть привлечено к ответственности либо, наоборот, оправдано. К такому выводу можно прийти путем сопоставления имеющихся сведений о факте совершения неправомерного деяния с их нормативно закрепленной юридической моделью. По сути, это та же квалификация, только уже конкретного состава правонарушения, а не общая оценка деяния в качестве неправомерного. Здесь следует указать на важность вышеописанных процессов для эффективного выявления фактов неправомерных деяний. В случае ошибочного предписывания анализируемым фактам несвойственного им значения невиновные лица могут быть привлечены к ответственности, а виновные, наоборот, избегут наказания. Это свидетельствует о необходимости внесения ясности в процесс доказывания такого непростого явления теории права, как неправомерное деяние.
Категорию доказывания можно рассматривать с разных точек зрения. Например, А. Ф. Клейнман и Ю. С. Гамбаров полагали, что юридическое понятие доказательства может интерпретироваться как: 1) средство убеждения, 2) основание убеждения, 3) процесс доказывания3. Применительно к неправомерным деяниям, по мнению авторов, вышеозначенные подходы к доказыванию сливаются воедино и в большинстве своем осуществляются параллельно, что прямым образом связано с возможностью отнесения некоторых фактов неправомерных деяний одновременно к нескольким разновидностям. Так, в определенных случаях одно и то же действие можно сразу отнести и к уголовным, и к гражданским правонарушениям (например, когда одним из последствий совершения преступления является причинение имущественного вреда, субъект неправомерного деяния будет одновременно нести и гражданско-правовую, и уголовную ответственность). Стоит отметить, что А. Ф. Клейнман и Ю. С. Гамбаров под неправомерными действиями понимали только разновидности правонарушений (административные, гражданские, уголовные и др.), без учета иных нетипичных форм их выражения – злоупотребления правом и объективно противоправного поведения. По этой причине, с нашей точки зрения, подобный подход к процессу доказывания неправомерных деяний может применяться исключительно к правонарушениям, поскольку особенности иных разновидностей в данном случае не учитываются.
В. Н. Синюков, в свою очередь, рассматривает процесс доказывания более широко и основной акцент делает на взаимосвязи реальных явлений и соответствующих им юридических фактов. По мнению правоведа, указанные категории имеют между собой множество отличий, главные из которых – несовпадение по времени и относительная самостоятельность существования4. В связи с этим доказывание факта неправомерного деяния также осложняется, поскольку в ряде случаев реальное явление может возникнуть в одно время, а факт его существования устанавливается гораздо позднее путем сбора соответствующей доказательственной базы5. На основании этого можно сделать вывод, что процесс доказывания нарушений прав и законных интересов субъектов права требует своевременной оценки истинности или ложности тех явлений реальной действительности, которые свидетельствуют о наличии факта неправомерного деяния.
Однако доказывание факта неправомерного деяния представляет собой не оценку по отдельности юридически значимых явлений, а анализ всей совокупности взаимосвязанных между собой действий, которые в результате образуют состав неправомерного деяния, о чем писал О. А. Красавчиков. Нельзя не согласиться с мнением правоведа о том, что только при нахождении в составе, который и порождает юридические последствия, факт начинает обретать свою юридическую оценку (поскольку он не является самостоя-тельным)6. Именно в элементах состава неправомерного деяния уполномоченные органы обнаруживают доказательственные факты. При этом доказывание фактов неправомерных деяний не следует смешивать с процессом доказывания правонарушения или преступления. В первом случае содержание доказательств наполняется прежде всего фактами, которые имеют свои специфические черты в зависимости от разновидности неправомерного деяния, во втором случае содержание формируют уже признаки и характеристики конкретного противоправного поведения.
Не менее важным вопросом, непроизвольно возникающим при определении сущности доказывания, является следующий: возможно ли сами доказательства рассматривать в качестве юридических фактов? Здесь можно наблюдать весьма противоречивые подходы к решению данного вопроса. С одной стороны, доказательства можно отождествлять с юридическими фактами, но не в традиционном понимании. Речь идет только о тех доказательствах, которые непосредственным образом уже вовлечены в юридический процесс и на основании которых можно установить хронологию наступления тех или иных правовых последствий (при доказывании фактов неправомерных деяний устанавливаются неблагоприятные последствия). С другой стороны, доказательства и юридические факты отражают разные аспекты одного процесса, связанного в данном случае с выявлением факта неправомерного деяния. Если юридические факты наполняют содержанием состав неправомерного деяния, то доказательства выступают в качестве подтверждения, что указанные факты повлекли конкретные неблагоприятные последствия. При этом нельзя смешивать юридические факты, из которых состоит неправомерное деяние, и юридические факты, составляющие предмет доказывания по делу7, поскольку из первого далеко не всегда вытекает второе. Таким образом, не следует рассматривать доказательства в качестве юридических фактов. В процессе установления того или иного факта неправомерного деяния данные явления выполняют разные функции.
Впрочем, для всех разновидностей неправомерных деяний содержание доказывания обусловливается системой тех мировоззренческих идей, которые заложены в праве. Из чего можно заключить, что отдельно взятый юридический факт, предположительно носящий неправомерный характер, будет выступать и в качестве эмпирического образа конкретной ситуации, и как простейшее обобщенное определение правовых ситуаций8. Если рассматривать процесс доказывания фактов неправомерных деяний с данной точки зрения, то в нем отчетливо выделяются три универсальные стадии, свойственные любой разновидности неправомерных деяний:
– предынтерпретационная деятельность субъектов доказывания. Сущность указанной стадии заключается в том, что уполномоченные субъекты подготавливаются к получению сведений о совершении неправомерного деяния, которые удалось добыть при его установлении и квалификации. В рамках подготовительных мероприятий субъекты доказывания устанавливают цели и создают соответствующие условия для исследования ранее известных фактов. В создание условий входит определение конкретного субъекта, который займется доказыванием, обеспечение последнего материальнотехнической базой, «ввод» субъекта в курс дела и раскрытие установленных ранее обстоятельств совершения неправомерного деяния;
– собственно получение доказательств, свидетельствующих о факте неправомерного деяния. После определения целей, объекта и субъекта доказывания деятельность последнего на втором этапе доказывания направлена непосредственно на собирание при помощи комплекса методов познания таких эмпирических данных, на основании которых возможен однозначный вывод о неправомерности анализируемого поведения. Стоит отметить, что на данном этапе субъект доказывания получает вещественные доказательства (конкретные предметы и вещи материального мира), а также личные доказательства (показания самого субъекта неправомерного деяния, лица́ , чьи права в той или иной мере пострадали и были нарушены, свидетелей и иных задействованных в разбирательстве лиц), собранные путем проведения ряда процессуальных действий. Причем для установления вины лица в совершённом деянии необходимо наличие доказательств того и другого вида;
-
- интерпретация полученных доказательств и их оценка. На третьем этапе субъект доказывания обрабатывает все ранее собранные (при установлении и квалификации, на двух предшествующих этапах доказывания) данные о факте неправомерного деяния, после чего приходит к окончательному решению о принадлежности совершённого деяния к той или иной разновидности неправомерных деяний (правонарушение, злоупотребление правом или объективно противоправное поведение). При этом если в собранных доказательствах усматривается конкретный состав правонарушения, субъект доказывания одновременно проводит дополнительную квалификацию деяния, но уже не с точки зрения правомерности/неправомерности поведения, а со стороны соответствия элементов состава неправомерного деяния отдельному составу правонарушения. Если же в процессе доказывания выявится, что поведение лица не содержит в себе какой-либо состав правонарушения, но обладает элементами состава неправомерного деяния, то анализируемое поведение будет относиться к другим разновидностям неправомерных деяний (при отсутствии вины лица - к объективно противоправному поведению, при нарушении принципа добросовестности - к злоупотреблению правом).
Содержание доказательств основывается на доказательственных фактах, совокупность которых порождает образ события прошлого - собственно юридический факт (предполагаемый факт неправомерного деяния). Множество таких образов позволяет прийти к определенному результату доказывания - проектированию ситуации, в которой был совершен факт неправомерного деяния, и ее окончательной квалификации в соответствии с действующим законодательством9. Безусловно, на протяжении всего доказательственного процесса субъективная и объективная интерпретации произошедших событий связаны между собой диалектическим единством. Сведения о факте неправомерного деяния объективно исходят из какого-то источника информации, однако то, каким образом будет толковать полученные сведения конкретный субъект доказывания, носит сугубо субъективный характер. Вне всякого сомнения, на оценку представленных доказательств влияет личность самого субъекта доказывания, ее представления о добре и зле, должном и недолжном поведении (в особенности это значимо при оценивании такой разновидности неправомерных деяний, как злоупотребление правом, поскольку зачастую анализируемый поступок лица находится на границе с правомерным поведением).
Завершается любой доказательственный процесс формулированием судьей выводов о правомерности либо неправомерности совершённых действий или бездействий, при этом в полном объеме анализируются все доказательства, представленные каждой из сторон.
Следует отметить, что в условиях цифровизации общества распространенной проблемой при доказывании фактов неправомерных деяний является использование электронных доказательств. Основные трудности в данном случае связаны с наличием двух составляющих: 1) каковы правовые основания сбора электронных доказательств; 2) являются ли представленные доказательства допустимыми с позиции процессуального права. Решить эти задачи весьма проблематично, поскольку однозначного пояснения, как использовать подобного рода доказательства, на сегодняшний день нет. Так, в статье 75 АПК РФ сказано, что документы, полученные с использованием сети Интернет, допускаются в качестве письменных доказательств10; УПК РФ, в свою очередь, не дает разъяснений относительно того, каким именно образом представлять электронные доказательства в суд.
Если исходить из положений АПК РФ, то для понимания того, можно ли признать электронное доказательство в качестве допустимого, необходимо установить, представлено оно в письменной форме или нет11. Следует, однако, заметить, что и по поводу отнесения электронных доказательств к письменным мнения процессуалистов разделились. Одни полагают, что их можно рассматривать как письменные доказательства на том основании, что электронные документы служат определенным выражением человеческой мысли, имеющей доказательственное значение и воспринимаемой путем прочтения письменных знаков12. По мнению других исследователей, электронные доказательства не являются письменными в чистом виде, так как у них не выражен один из важнейших признаков доказательства – письменная форма13. Безусловно, оба подхода имеют право на существование, однако, как показывает практика, для подтверждения тех или иных фактов наличие доказательств только в электронной форме недостаточно и предоставление соответствующей заверенной копии (например, скриншота с сайта сети Интернет) является обязательным условием для признания доказательства допустимым.
Стоит отметить, что проблемы с использованием электронных доказательств встречаются во всех отраслях законодательства. Так, суд признал увольнение гражданина М. незаконным, поскольку представленное ответчиком ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» доказательство (заявление от имени М. о предоставлении очередного отпуска с последующим увольнением по собственному желанию, поступившее на электронную почту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») не было признано достоверным и допустимым. В соответствии со статьей 80 Трудового кодекса РФ заявление об увольнении должно быть оформлено в письменном виде. Документ, который представил ответчик, суд не стал расценивать как полноценное письменное доказательство о намерении работника расторгнуть трудовой договор, поскольку тот не был заверен собственноручной подписью работника. По мнению суда, иные доказательства (показание свидетеля Т., который пояснил, что перед получением электронного заявления об увольнении по собственному желанию от гражданина М. от последнего поступали телефонные звонки с сообщением о желании уволиться, в связи с чем достоверность отправленного заявления не вызывала сомнений) не могут послужить основанием для признания законности увольнения гражданина М. из-за отсутствия факта подачи им письменного заявления об увольнении14.
В настоящее время при выявлении фактов неправомерных деяний довольно широко используются нетрадиционные методы их доказывания (гипноз, обращение к услугам экстрасенсов и др.). Наиболее распространенным нетрадиционным способом сбора доказательств стало использование полиграфа, результаты которого зачастую облекаются в форму особого следственного действия либо психофизиологической экспертизы. Получение информации при помощи полиграфа беспрепятственно применяется вне сферы уголовного процесса – при осуществлении оперативно-розыскной работы, отборе кадров системы МВД. Однако в ходе производства процессуальных действий в рамках конкретного уголовного дела признание сведений, полученных путем использования полиграфа, в качестве допустимых доказательств вызывает определенные сложности, что, в свою очередь, влияет на выявление фактов неправомерных деяний.
К основным проблемам применения результатов полиграфа относятся:
– низкая квалификация либо отсутствие специального образования у полиграфологов, что серьезно снижает качество проводимых полиграфических исследований;
-
14 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Коми от 13.02.2012 по делу № 33-679/2012 // Архив решений Арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
– распространенность частнопрактикующих специалистов-полиграфологов, не владеющих необходимыми знаниями в области юриспруденции;
– неправильная постановка вопросов, выход за пределы компетенции специалистов-полиграфологов;
– отсутствие единой методики проведения полиграфических исследо-ваний15.
Несмотря на то что подавляющее большинство ученых-процессуалистов придерживаются мнения о недопустимости применения результатов полиграфа в качестве доказательств того или иного факта неправомерного деяния, случаи их использования для формирования доказательственной базы по делу на практике встречаются. Например, в 2010 году был судебный процесс по резонансному «делу Макарова», в рамках которого чиновник В. Макаров обвинялся в развратных действиях по отношению к своей семилетней дочери. Обвинительный приговор был построен только на косвенных доказательствах (заключение детского психолога, заключение полиграфолога), на основании которых В. Макарова приговорили по части 3 статьи 135 УК РФ к пяти годам лишения свободы. Неоднозначность собранных по делу доказательств не вызывает сомнений: при медицинском обследовании ребенка повреждения наружных половых органов не обнаружены, а при повторной экспертизе одежды и мочи девочки следы сперматозоидов не выявлены. Достоверность результатов полиграфического исследования тоже неоднозначна, поскольку В. Макаров по собственной инициативе обратился к частному полиграфологу, однако для получения результатов последний запросил бо́ льшую сумму и проведение дополнительного исследования, от чего В. Макаров отказался. После данного факта полиграфолог самостоятельно обратился в правоохранительные органы и представил заключение о результатах полиграфического исследования, в ходе которого было выявлено совершение сексуальных действий В. Макаровым по отношению к дочери. Вышеописанные данные о факте вымогательства со стороны полиграфолога были подтверждены в суде, однако заключение о проведенном полиграфическом исследовании было судом принято и представлено как одно из доказательств вины В. Макарова.
Приведенный пример наглядно демонстрирует недопустимость использования результатов полиграфа как доказательства факта неправомерного деяния. Выводы, к которым приходит полиграфолог в своем заключении, носят вероятностный характер, поскольку объектом исследования яв-
-
15 Шейфер С. А. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства, теории и практики: моногр. М.: Норма, 2020. С. 75–77.
__________________________________________________ УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС ляется память человека, в частности наличие реакции сознания на конкретные вопросы, задаваемые по поводу факта неправомерного деяния16. Однозначное утверждение ложности или правдивости полученных реакций на вопросы, заданные полиграфологом, представляется не совсем верным. Зачастую на результаты влияет множество субъективных факторов (обстановка, в которой проводится исследование, волнение опрашиваемого, компетентность самого полиграфолога и др.), а возникновение тех или иных реакций на заданные вопросы свидетельствует о наличии в памяти человека следов изучаемого обстоятельства, совсем не обязательно носящего неправомерный характер.
Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что в эпоху цифровизации и увеличения количества информации, получаемой через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, необходимость внесения в действующее законодательство таких дополнений, которые отвечали бы современным реалиям, налицо. Причем данная потребность касается не только электронных доказательств и нетрадиционных способов получения информации (в частности, урегулирования вопросов, связанных с формой их представления в суд), но и отношений, возникающих при использовании различных мобильных приложений, которые зачастую становятся площадкой для осуществления неправомерных деяний.
На этой почве ярким примером может послужить популяризация среди молодежи так называемых челленджей (от англ. сhallenge – вызов). Под челленджем понимается разновидность флешмоба, когда один участник, совершивший то или иное действие, бросает вызов другому17. Свое распространение челленджи получили в некоторых социальных сетях, видеохостинге YouTube, а также в мобильном приложении TikTok – сервисе для просмотра и создания коротких видео. Безусловно, выполняя челленджи, можно приобрести полезные навыки или информацию (как пример – «йога челлендж»), однако отмечается и негативное влияние данной разновидности флешмоба, в особенности на подростковую аудиторию. Приведем примеры наиболее опасных челленджей, которые были распространены в TikTok за последнее время:
– Челлендж SkullBreaker (в переводе на русский «Проломи череп»). Суть его в следующем: разыгрываемый человек стоит между двух людей, прямо посередине, ему предлагается подпрыгнуть, а во время прыжка соседями по бо- кам ставится подножка. На первый взгляд челлендж может показаться забавным, однако выявлено немало пострадавших из-за подобной шутки: тринадцатилетний мальчик из Нью-Джерси попал в больницу с сотрясением мозга, а подросток из Алабамы – с переломами конечностей и др.18
– «Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет». Автор данного челленджа бросает зрителям вызов, предлагая выпить одновременно 40 таблеток спазмолитика. В результате по всему миру были зафиксированы факты тяжелых последствий от подобных действий. Например, две несовершеннолетние девочки из города Боярки во время нахождения в лицее решили снять в туалете подобный челлендж на телефон. После 40-й таблетки одна из девочек скончалась на месте, другая попала в реанимацию19.
– «Соль и лёд». Суть челленджа в том, чтобы как можно дольше удерживать на любой части своего тела одновременно соль и лёд. Однако в результате такого взаимодействия происходит химическая реакция, способная привести к обморожению. Итог – участники челленджа получают ожоги второй и третьей степени20.
– Fire Challenge. Для выполнения этого челленджа предлагается облить горючей жидкостью части своего тела и поджечь, после чего быстро потушить огонь. Вне всякого сомнения, после выполнения предложенных действий у участников были сильные ожоги, вплоть до летального исхода.
Следует отметить, что описанные выше челленджи лишь очень небольшая часть того контента, законность распространения которого ставится под вопрос. Основные разногласия в данном случае вызывает несоизмеримость того вреда жизни человека и его здоровью, который может быть причинен в результате копирования действий, предлагаемых в рамках какого-либо челленджа, и ответственности, которую в итоге несут разработчики указанных флешмобов. В настоящее время для предупреждения подобных ситуаций используются два инструмента: первый – сами разработчики TikTok при выявлении распространения запрещенного контента вносят аккаунт в теневой бан (то есть временно блокируют его); второй – сами страны, специальные службы которых выявили факт нарушения их законодательства, выдвигают к разработчикам приложения требование об удалении недопустимого видео.
Однако оба способа предупреждения распространения видео, пропагандирующих выполнение опасных для жизни и здоровья действий, имеют свои недостатки. Так, внесение аккаунта в теневой бан ограничено по времени (иногда может длиться всего несколько дней), а вариантов выйти из него досрочно довольно много21. Что касается отправки запросов на удаление конкретных видео странами, чье законодательство в той или иной мере было нарушено, данный способ еще менее эффективен: процент удаления видео таким образом крайне мал, при этом запрос обрабатывается не сразу. Согласно данным, представленным разработчиками TikTok, за первое полугодие 2020 года было удалено около 104 млн видео, что составляет менее 1 % от всего объема. Наиболее частыми причинами удаления были следующие: нагота и сексуальная активность взрослых (30,9 %); безопасность несовершеннолетних (22,3 %); нелегальные действия и регламентированные товары (19,6 %); суицид, причинение вреда себе и опасные действия (13,4 %); жестокость и шокирующий контент (8,7 %); другое (5,1 %)22.
Безусловно, интерес несовершеннолетних к информации, от которой в обычной жизни их пытаются оградить родители и близкие, может быть компенсирован за счет социальных сетей и других приложений, выступающих в качестве источника ограниченных сведений. В результате растет количество фактов неправомерных деяний, причем такое нарастание происходит, как правило, двухсторонне. С одной стороны, становится больше создателей видео, которые воспроизводят опасные действия и предлагают их выполнить другим; с другой – увеличивается число лиц, соглашающихся выполнить описанные в челлендже действия и в итоге причиняющих вред себе, а в ряде случаев – третьим лицам. Между тем механизм доказывания подобных фактов не разработан до сих пор. Выявить тех, кто изначально «выложил в Сеть» потенциально опасный для жизни и здоровья челлендж, практически невозможно: данные видео легко удаляются, а местонахождение владельца аккаунта, с которого оно выкладывалось, без привлечения соответствующих специальных служб установить нелегко, что, вне всякого сомнения, требует дополнительного нормативного регулирования.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в условиях повсеместной цифровизации общества процесс доказывания фактов неправомерных деяний в значительной степени усложняется. Причина – в усложнении старых и появлении новых форм и способов совершения про- тивоправных действий. Указанное обстоятельство ставит перед субъектом доказывания ряд задач, решение которых позволит повысить уровень выяв-ляемости неправомерных деяний и, как результат, снизить уровень преступности в целом.
Список литературы Доказывание фактов неправомерных деяний в условиях цифровизации общества
- Балашов А. Н., Балашова И. Н.Электронные доказательства в системе правосудия по гражданским делам // Администратор суда. 2015. № 3. С. 23-29.
- Боруленков Ю. П. Юридическое познание как фундаментальная категория правоведения // Юридический мир. 2009. № 12. С. 52-56.
- Вершинин А. П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде: учеб.-практ. пособие. М.: Изд. дом «Городец», 2000. 247 с.
- Голубцов В. Г. Судебное решение как юридический факт в гражданском праве: доктринальный дискурс и проблема легальных формулировок // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2021. Вып. 52. С. 240-262. DOI: 10.17072/1995-4190-2021-52-240-262.
- Гражданский процесс: учеб. / А. А. Демичев, О. С. Грачева, А. М. Ху-жин [и др.]; под ред. А. А. Демичева. Москва: ИНФРА-М, 2021. 404 с.
- Долова А. 3. Юридические факты в трудовом праве: дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2009. 381 с.
- Исаков В. Б. Юридические факты в российском праве: учеб. пособие. М.: Юрид. дом «Юстицинформ», 1998. 48 с.
- Клейнман А. Ф. Основные вопросы теории доказательства в советском гражданском процессе. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1950. 72 с.
- Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958. 184 с.
- Медведев И. Г. Письменные доказательства в частном праве России и Франции. СПб.: Юрид. центр - Пресс, 2004. 405 с.
- Новоселова О. В., Курбанова Э. Д. Challenges как инструмент международной массовой коммуникации // Научный альманах. 2017. Т. 6, № 1 (32). С. 284-287.
- Орлов Ю. К., Холодный Ю. И. Процессуальные проблемы применения полиграфа при расследовании уголовных дел // Уголовный процесс. 2013. № 3 (99). С. 28-35.
- Синюков В. Н. О понятии юридического факта в общей теории права // Вопросы теории государства и права: межвуз. науч. сб. Вып. 7: Актуальные проблемы социалистического государства и права, законности и правопорядка. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1986. С. 107-121.
- Цыпленков Е. А., Шиндяпин А. В. Юридические факты: актуальные аспекты содержания и толкования // Вестник Костромского государственного университета. 2017. Т. 23, № 2. С. 201-203.
- Шейфер С. А. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства, теории и практики: моногр. М.: Норма, 2020. 112 с.