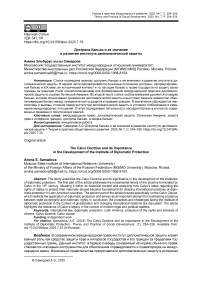Доктрина Кальво и ее значение в развитии института дипломатической защиты
Автор: Самедова А.Э.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу доктрины Кальво и ее значению в развитии института дипломатической защиты. В первой части рассматриваются основные положения доктрины, сформулированной Кальво в XIX веке, ее исторический контекст и то, как идеи Кальво о праве государств на защиту своих граждан за границей стали основополагающими для формирования международной практики дипломатической защиты в странах Латинской Америки. Во второй части статьи особое внимание уделяется оговорке Кальво, которая ограничивает применение дипломатической защиты и выступает важным элементом, обеспечивающим баланс между суверенитетом государств и правами граждан. В заключении обсуждаются перспективы и вызовы, стоящие перед институтом дипломатической защиты в условиях глобализации и изменения международных отношений. Статья подчеркивает актуальность наследия Кальво в контексте современных правовых и политических реалий.
Международное право, дипломатическая защита, латинская америка, защита прав и интересов граждан, доктрина кальво, оговорка кальво
Короткий адрес: https://sciup.org/149148960
IDR: 149148960 | УДК: 341.1/8 | DOI: 10.24158/tipor.2025.7.33
Текст научной статьи Доктрина Кальво и ее значение в развитии института дипломатической защиты
Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России), Москва, Россия, ,
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University), Moscow, Russia, ,
своих граждан за рубежом, основываясь на принципе вежливости (Dunn, 1932: 54). Тем не менее, по мере развития правоприменительной практики, данный вопрос приобрел законную силу.
Концепции стран Латинской Америки, которые способствовали формированию международно-правовых норм на протяжении многих лет, внесли значительный вклад в развитие института дипломатической защиты. Эти доктрины были разработаны в ответ на частые вмешательства ведущих европейских держав, оправдывающих свои военные интервенции защитой подданных. Латинская Америка выступала против таких оправданий, разработав правовую аргументацию, основанную на принципах равного суверенитета и отказе от правовых претензий, навязанных иностранцами. Одной из таких правовых концепций, сформировавшихся к концу XIX ‒ началу XX в. в Латинской Америке как вызов доминирующим западным интерпретациям международного права, была доктрина, выдвинутая аргентинским юристом Карлосом Кальво.
Доктрина Кальво представляет собой уникальный подход к вопросам дипломатической защиты и защиты прав государств. Ее основная идея заключается в том, что дипломатическая защита может быть предоставлена государством только в случае явного нарушения прав, что обеспечивает правовую защиту от произвола и самовольного вмешательства. Кальво отстаивал принцип справедливости и защиты прав сторон при урегулировании споров между государствами, что оказало влияние на формирование современного понимания дипломатической защиты.
Целью данной статьи является анализ ключевых положений доктрины Кальво, их роль в развитии международных норм и практик, а также правовая оценка значимости этих концепций в современном контексте. Анализ идей Кальво и их влияния на правоприменительную практику позволяет лучше понять, как теоретические разработки в области международного права воплощаются в практические инструменты защиты прав и интересов государств и их граждан в международном обществе.
Правовая природа и сущность доктрины Кальво . Дружественные отношения между европейскими державами и США, с одной стороны, и странами Латинской Америки ‒ с другой, часто нарушались дипломатическими вмешательствами первой группы государств. Великие державы заявляли о своей обязанности предоставлять дипломатическую защиту своим гражданам, где бы они ни находились. Такая защита считалась необходимой для развития международной торговли и сотрудничества. Отсутствие такой защиты повлекло бы за собой риски иностранных инвестиций и усиление эксплуатации, что стало бы препятствием для взаимовыгодных отношений.
Исторически доктрина Кальво была распространена на страны Латинской Америки, когда Наполеон III отправил экспедицию в Мексику в 1861 г., чтобы удовлетворить некоторые претензии французских граждан к мексиканскому правительству (Nussbaum, 1947: 211-212).
Подобные вмешательства крупных держав под предлогом защиты своих граждан часто были незаконными. Более того, европейские страны и США злоупотребляли различными международно-правовыми инструментами. К примеру, они обеспечивали чрезмерную защиту своих граждан, требуя возмещения ущерба, причиненного гражданскими войнами, и ограничивая латиноамериканские государства для того, чтобы они могли восстановить свои предполагаемые нарушенные интересы.
Страны Латинской Америки выражали обеспокоенность по поводу возможной предвзятости международных судов. Они считали, что решения принимались в интересах развитых западных стран, которые подрывали доверие к международной судебной системе, и что такая дипломатическая защита не учитывала реальные интересы развивающихся стран. Это вызывало серьезные опасения относительно справедливости и объективности судебных процессов. В результате Латинская Америка была крайне возмущена этим положением, поскольку такая дипломатическая защита приводила к фактической экстерриториальности иностранцев, даже когда местные нормы правосудия были вполне приемлемыми.
Для противостояния усилившимся злоупотреблениям страны Латинской Америки попытались создать сильный механизм правовой защиты и впоследствии выработали принцип, согласно которому государство не несет ответственности за ущерб, причиненный иностранцам во время гражданской войны, обосновав этим справедливость и законность их сопротивления институту дипломатической защиты и вооруженному вмешательству. Кроме этого, они утверждали, что их международная ответственность не затрагивается и в других случаях, если только пострадавший иностранец не обратился в местные суды и не получил там отказа в правосудии (Summers, 1933: 460).
Доктрина Кальво основана на суверенном равенстве государств и вытекающей из этого территориальной юрисдикции. Концепция суверенного равенства означает, что ни одно государство не должно вмешиваться во внутренние дела другого, в то время как концепция территориальной юрисдикции означает, что требования иностранных инвесторов подчиняются исключительно внутреннему законодательству и юрисдикции принимающего государства. Согласно этой доктрине, если бы иностранные инвесторы могли претендовать на статус, отличный от статуса граждан принимающего государства, это дало бы им огромную привилегию. Следовательно, док- трина Кальво сводилась к равному отношению резидентов и нерезидентов. Тем не менее стоит отметить, что сторонники этой доктрины не настаивают на полном равенстве, поскольку иностранцы не всегда имеют тот объем прав, что и граждане. Например, иностранцам не будут предоставлены все политические права и доступ ко всем сферам экономической деятельности, у них будут ограничения в отношении того, какую собственность они могут приобрести и какую деятельность могут вести (Garibaldi, 2006). Таким образом, основная идея доктрины Кальво заключается не в том, что с иностранцами следует обращаться так же, как с гражданами, а в том, что с ними не следует обращаться лучше, чем с гражданами (Garibaldi, 2006).
Важно отметить, что доктрина Кальво состоит из двух частей: полное отсутствие международной ответственности государства за ущерб, причиненный во время гражданской войны, и ограниченная международная ответственность государства за другие правонарушения, в результате которых граждане других государств понесли ущерб (Borchard, 1915: 793). Первая идея содержится в статье 2 Панамериканской конвенции, подписанной в Мехико в 1902 г. всеми представленными там государствами, за исключением Соединенных Штатов и Гаити. В соответствии с данной статьей, государства не несут ответственности за ущерб, причиненный иностранным гражданам в результате действий мятежников или отдельных лиц, и в целом за ущерб, причиненный иными обстоятельствами, включая военные действия, будь то гражданские или национальные, за исключением случаев неисполнения государственными органами своих обязанностей1.
Положения этой конвенции также поддерживают идею об ограниченной ответственности государства за иной ущерб, понесенный иностранцем. В частности, в статье 3 данной Конвенции устанавливается, что иностранец имеет право подавать иски гражданского, уголовного или административного характера против государства или его граждан только в компетентный национальный суд, и такие иски не должны подаваться по дипломатическим каналам, за исключением случаев явного отказа в правосудии либо необоснованной задержки или очевидного нарушения принципов международного права2.
Согласно доктрине Кальво, иностранные государства не могут применять принудительные меры, такие как разрыв дипломатических или консульских отношений, применение силы против государства-должника с целью получения компенсации за причиненный ущерб3. Доктрина Кальво гарантировала, что государство пребывания будет защищать иностранных кредиторов и инвесторов так же, как и собственных граждан, используя всевозможные средства правовой защиты, предусмотренные национальным законодательством этих государств (государств пребывания), не допуская тем самым злоупотребления властью со стороны европейских держав в отношении развивающихся стран. Несмотря на свои намерения, доктрина Кальво не была признана в качестве универсальной теории международного права.
Страны Латинской Америки пытались закрепить ее в международных договорах и национальных правовых системах, однако их усилия часто сталкивались с трудностями из-за отсутствия поддержки со стороны ведущих стран-экспортеров капитала, таких как США и европейские государства. Эти страны не только активно инвестировали в развивающиеся страны, но и использовали свои экономические и политические ресурсы для защиты своих интересов, что часто приводило к игнорированию принципов, провозглашенных Кальво. Так, в 1873 г., в первые годы применения доктрины Кальво, министр иностранных дел Мексики Х.М. Лафрагуа направил послу США гну Фостеру ноту, в которой он, ссылаясь на эту доктрину, заявил, что Мексика не несет ответственности за ущерб, причиненный иностранным инвесторам во время гражданской войны. В ответ посол отметил, что Кальво был «молодым юристом», чьи теории еще не получили широкого признания. Это стало первым из многих отказов Соединенных Штатов признать доктрину Кальво (Langer, Viñuales, 2011: 324).
Международные арбитражи также нередко отклоняли доводы, основанные на доктрине Кальво, что отражало конфликт интересов между развивающимися странами и странами-экспортерами. Данный фактор подчеркивает сложность и неравенство в международных отношениях, где экономическая мощь и политическое влияние зачастую играют более значительную роль, чем теоретические принципы, направленные на защиту суверенитета и равенства стран.
Идея латиноамериканских государств об освобождении от ответственности за причиненный ущерб, которая лежит в основе доктрины Кальво, не была одобрена и резолюцией Института международного права 1900 г., в которой государствам рекомендуется воздерживаться от включения в договоры положений о взаимном отказе от ответственности, поскольку такие положения освобождают государства от выполнения их обязанностей защищать своих граждан за рубежом и иностранцев на своей территории (Summers, 1933: 464).
Таким образом, доктрина Кальво, можно сказать, была отвергнута за пределами Латинской Америки и в итоге утратила свою практическую значимость. Хотя доктрина Кальво не была признана в качестве принципа международного права, она стала основой для разработки оговорки Кальво.
Оговорка Кальво1 и особенности ее практического применения . Доктрина Кальво, предоставляя одинаковый уровень правовой защиты как иностранным, так и национальным инвесторам, стремилась устранить вмешательство со стороны государств-экспортеров капитала, что привело к рискам для иностранных инвесторов и снизило привлекательность развивающихся стран для иностранных капиталовложений (Subedi, 2012: 31). Так, обращение к местным судам имело эффект сдерживания иностранных инвесторов, поскольку зачастую они не доверяли внутренней судебной системе государства пребывания. Таким образом, данный факт оказал негативное влияние на развитие этих государств, поскольку иностранные инвесторы проявляли осторожность к вложению средств в страны, которые, по их мнению, не обеспечивали адекватную защиту их инвестиций.
Несмотря на критику государств-экспортеров капитала о том, что доктрина Кальво была слишком экстремальной (Subedi, 2012: 31), развивающиеся страны все же включили оговорку Кальво в инвестиционные контракты с иностранными инвесторами. Эта оговорка, включаемая в договор-концессию между латиноамериканским правительством и иностранным физическим или юридическим лицом, предполагает отказ иностранца от дипломатической защиты в пользу местных средств правовой защиты. Данный пункт был включен в договор для сохранения суверенитета и независимой власти над инвестиционными интересами страны (Nabalende, 2020: 170). К примеру, данная оговорка была закреплена в концессионном договоре дела Orinoco Steamship Company следующим образом: «Споры и разногласия, которые могут возникнуть в отношении толкования или исполнения договора, будут разрешаться национальными судами в соответствии с законами страны и ни в коем случае не должны служить основанием для предъявления претензий в международные суды»2. Очевидно, что доктрина Кальво и оговорка Кальво существенно различаются: реализация доктрины была односторонним актом, тогда как в случае оговорки физическое лицо добровольно согласилось на отказ от дипломатической защиты (Summers, 1933: 465).
Данная оговорка стала встречаться не только в контрактах между государством и инвесторами, но также в национальном законодательстве, в том числе в конституциях стран Латинской Америки, международных соглашениях и документах.
Анализируя взгляды исследователей на значение и особенности применения оговорки Кальво, можно заметить отсутствие единого мнения о ее сфере действия и толковании. Согласно одной из точек зрения, оговорка Кальво имеет ограниченное применение и касается только споров, вытекающих из договоров между иностранцем и принимающим государством, включающих эту оговорку. Данное мнение предполагает, что оговорка применима только к частным спорам, связанным с договорными обязательствами, но не охватывает случаи нарушения международного права. Такое толкование, однако, кажется противоречащим основной цели оговорки Кальво, которая заключается в полном исключении возможности дипломатической защиты.
Но для того, чтобы сделать оговорку более совместимой с общепризнанными принципами международного права, ее иногда толковали в узком понимании, как ограничивающую право на дипломатическое вмешательство до исчерпания всех местных средств правовой защиты и отказа в правосудии (Shea, 1955: 31). Важность этого принципа заключается в следующем: прежде чем иностранный гражданин может обратиться в своем государстве с просьбой о дипломатической защите, он должен сначала использовать все доступные внутренние средства правовой защиты в принимающем государстве. Тем не менее некоторые специалисты считают, что это ограниченное толкование излишне, так как оно, по сути, подтверждает существующее правило об исчерпании местных средств правовой защиты и не добавляет нового содержания в международное право (Eagleton, 1928: 168).
Данные положения клаузулы Кальво подтверждают приоритет внутреннего права в международных отношениях. Этот аспект ‒ соотношение национального законодательства и международных норм в регулировании международных отношений ‒ является сущностью доктрины Кальво и, в конечном счете, представляет собой вклад латиноамериканского правосознания в развитие различных институтов и принципов международного права (Голубева, 2023: 67).
Мнения исследователей по поводу эффективности и актуальности оговорки Кальво разнятся. Некоторые ученые считают, что она оказалась эффективным инструментом, а другие рассматривают ее как абсолютно бесполезную. Так, выдающийся исследователь и сторонник доктрины Кальво Дональд Ши отмечал: «Оговорка Кальво как метод реализации принципов Кальво оказалась наиболее успешным методом ограничения осуществления дипломатической защиты» (Shea, 1955: 31). Однако другой исследователь, Дениз Мэннинг-Каброль, придерживался противоположного мнения, считая, что, несмотря на включение оговорки Кальво во многие конституции стран Латинской Америки, национальное законодательство и контракты с инвесторами, этот инструмент является малоэффективным, неспособным реально препятствовать дипломатическому вмешательству (Manning-Cabrol, 1995: 1181). По этой причине как Соединенные Штаты, так и государства Латинской Америки продолжают разрешать споры посредством дипломатического вмешательства, причем Латинская Америка применяет данный механизм под предлогом предоставления «добрых услуг» (Manning-Cabrol, 1995: 1181).
Утверждать, что оговорка Кальво становится менее актуальной, поскольку тот же результат может быть достигнут с помощью применения правила местных средств правовой защиты, значит полностью игнорировать то, что латиноамериканские страны должны избегать постоянного вмешательства в их систему правосудия на чисто дискреционных основаниях (Jessup, 1948: 111). Правило местных средств правовой защиты не всегда является достаточно эффективным средством для предотвращения иностранного вмешательства. Это объясняет, почему латиноамериканские государства предпочли заключение договора, который с правовой точки зрения обладает большей силой, чем доктрина местных средств правовой защиты. Последняя не включает механизма принудительного исполнения и представляет собой неопределенное обещание использовать местные суды в случае споров по договору, без четкого обязательства. Оговорка Кальво ограничила применение международного права, так как иностранцы не могут обратиться к своему правительству в нарушение договорных обязательств, если не будет установлен явный отказ в правосудии.
Исследовав теоретические и практические аспекты применения доктрины Кальво, можно задаться вопросом: актуальны ли идеи Кальво или утратили свою значимость? Дональд Ши полагал, что будущее клаузулы Кальво определяется развитием межамериканской дипломатии и международного права, которые, в свою очередь, зависят от степени интеграции и гармонизации мирового сообщества (Shea, 1955: 281). Академик Вэньхуа Шань утверждал, что доктрина Кальво претерпела значительные изменения и в определенной степени «деактивирована», но еще окончательно не исчезла. По его мнению, при благоприятных политических и экономических условиях она может вновь обрести актуальность (Shan, 2007: 163). Таким образом, несмотря на вышеуказанные аргументы исследователей, идеи Кальво продолжают существовать, однако их дальнейшая судьба в качестве правовой нормы в международном праве остается неопределенной.
Заключение . Доктрина Кальво, безусловно, сыграла ключевую роль в развитии института дипломатической защиты, заложив основы для формирования современных норм и принципов, направленных на защиту прав граждан и поддержание суверенитета государств. Принятие доктрины Кальво предотвратило бы злоупотребления дипломатической защитой, но также устранило бы сам институт, не заменив его приемлемой альтернативой. Отмена дипломатического вмешательства для устранения его злоупотреблений оставила бы гражданина за границей полностью во власти местного правосудия, и возможные злоупотребления, присущие такой ситуации, были бы значительно больше, чем те, которые существуют сейчас. Это нанесло бы ущерб не только гражданам стран-инвесторов, но и гражданам слаборазвитых стран, поскольку вполне могло бы положить конец взаимовыгодным инвестиционным и развивающимся отношениям или значительно их замедлить.
Несмотря на критику и вызовы, связанные с практической реализацией доктрины, ее значение остается актуальным в условиях глобализированного мира, где сложные международные отношения требуют справедливых и эффективных механизмов разрешения споров и защиты прав граждан.