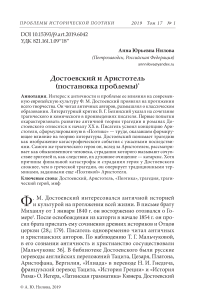Достоевский и Аристотель (постановка проблемы)
Автор: Нилова Анна Юрьевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.17, 2019 года.
Бесплатный доступ
Интерес к античности и проблеме ее влияния на современную европейскую культуру Ф. М. Достоевский проявлял на протяжении всего творчества. Он читал античных авторов, размышлял о классическом образовании. Литературный критик В. Г. Белинский указал на сочетание трагического и комического в произведениях писателя. Первые попытки охарактеризовать развитие античной теории трагедии в романах Достоевского относятся к началу XX в. Писатель усвоил концепцию Аристотеля, сформулированную в «Поэтике» - труде, оказавшем формирующее влияние на теорию литературы. Достоевский понимает трагедию как изображение катастрофического события с ужасными последствиями. Самого же трагического героя он, вслед за Аристотелем, рассматривает как обыкновенного человека, страдания которого вызывают сочувствие зрителей и, как следствие, их духовное очищение - катарсис. Хотя причины финальной катастрофы и страдания героя у Достоевского сложнее, чем в греческой трагедии, он оперирует традиционными терминами, заданными еще «Поэтикой» Аристотеля.
Достоевский, аристотель, "поэтика", трагедия, трагический герой, миф
Короткий адрес: https://sciup.org/147226190
IDR: 147226190 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2019.6042
Текст научной статьи Достоевский и Аристотель (постановка проблемы)
Ф. М. Достоевский интересовался античной историей и культурой на протяжении всей жизни. В письме брату Михаилу от 1 января 1840 г. он восторженно отозвался о Го-мере1. После освобождения из каторги в начале 1854 г. он просил брата прислать ему сочинения древних историков и Отцов церкви (281; 179). Писатель одновременно читал античных и христианских авторов. По наблюдению Т. Г. Мальчуковой, в его сознании античность и христианство сосуществовали [Мальчукова: 36]. В библиотеке Достоевского были русские переводы английских переложений Тацита, Цезаря, Платона, Аристофана, Вергилия, «Илиада» в переводе Н. И. Гнедича, французский перевод Тацита, «История Греции» и «История Рима» О. Иегера, «Латинская грамматика» Кюнера. Достоевский неоднократно упоминал в письмах и публицистике произведения Платона, Тацита, цитировал Вергилия и других классических авторов, благосклонно отзывался о статьях П. А. Лавровского и Б. И. Ордынского, оспаривавших трактовку «гомеровского вопроса» Ф.-А. Вольфом [Библиотека: 60]. В каллиграфии Достоевского встречаются имена римских императоров Нерона, Калигулы, Клавдия, Гальбы, Веспасиана, Виттелия, Цезаря. В записных тетрадях писатель пытался осмыслить влияние античной культуры на последующую европейскую цивилизацию и, в частности, упомянул Аристотеля:
«Там, где образование начиналось с техники (у нас реформа Петра), никогда не появлялось Аристотеля. Напротив, замечалось необычайное суживание и скудость мысли. Там же, где начиналось с Аристотеля (Renaissance, 15-е столетие), тотчас же дело сопровождалось великими техническими открытиями (книгопечатания, пороха) [астро] и расширением человеческой мысли (открытие Америки, Реформация, открытия астрономические и проч.)» (21; 268).
Второй раз он обратился к трудам греческого философа в «Дневнике писателя», рассуждая о монархической форме правления:
«Аристотель. «Русск<ий> вестник». Статья Куторги. Ноябрь. Тирания есть монархия, имеющая в виду только пользу монарха (в противоположность монархии, имеющей в виду пользу всеобщую), олигархия есть правление, имеющее в виду лишь пользу богатых (в противоположность правления аристократов, в смысле лучших людей), и наконец, демократия есть правление, имеющее в виду лишь пользу неимущих ([в противополо] об общественной же пользе не заботится никто из них)» (24; 85).
Достоевский проявлял интерес и к проблемам классического образования, размышляя о его соотношении с образованием реальным. Вслед за Пушкиным писатель пришел к мысли о формирующем влиянии классического образования на европейскую и русскую культуру [Мальчукова], [Захаров, 2016].
В. Г. Белинский отметил наличие в ранних произведениях Достоевского «трагического элемента» и его сочетание с комическим. В «Петербургском сборнике» критик писал:
«Судя по “Бедным людям”, мы заключили было, что глубоко человечественный и патетический элемент, в слиянии с юмористическим, составляет особенную черту в характере его таланта; но прочтя “Двойника”, мы увидели, что подобное заключение было бы слишком поспешно. Правда, только нравственно слепые и глухие не могут не видеть и не слышать в “Двойнике” глубоко патетического, глубоко трагического колорита и тона; но, во-первых, этот колорит и тон в “Двойнике” спрятались, так сказать, за юмор, замаскировались им, как в “Записках сумасшедшего” Гоголя…» [Белинский: 69].
То же сказано Белинским и по поводу «Бедных людей»:
«Вообще трагический элемент глубоко проникает собою весь этот роман. И этот элемент тем поразительнее, что он передается читателю не только словами, но и понятиями Макара Алексеевича. Смешить и глубоко потрясать душу читателя в одно и то же время, заставить его улыбаться сквозь слезы, — какое уменье, какой талант! И никаких мелодраматических пружин, ничего похожего на театральные эффекты! Все так просто и обыкновенно, как та будничная, повседневная жизнь, которая кишит вокруг каждого из нас и пошлость которой нарушается только неожиданным появлением смерти то к тому, то к другому!.. Все лица обрисованы так полно, так ярко, не исключая ни лица господина Быкова, только на минуту появляющегося в романе собственною особою, ни лица Анны Федоровны, ни разу не появляющейся в романе собственною особою» [Белинский: 72].
Проблема усвоения Достоевским античной концепции трагедии была поставлена философами и критиками Серебряного века во время полемики о наличии или отсутствии трагического начала в произведениях писателя и возможности определения их как романов-трагедий. Философской основой для этих рассуждений стали третья речь о Достоевском Вл. Соловьева и статья В. Розанова «О Достоевском», в которых была впервые представлена «картина трагического мифа Достоевского в цельности его триадической структуры»
[Сызранов: 181]. Вяч. Иванов определил романы Достоевского как романы-трагедии. Критик заметил, что «идея вины и возмездия, эта центральная идея трагедии, есть и центральная идея Достоевского» [Иванов: 429], а сам роман-трагедия — это «не искажение чисто эпического жанра, а его обогащение и восстановление в полноте присущих ему прав» [Иванов: 408]. К признакам, позволяющим определить роман Достоевского как роман-трагедию, критик относил трагичность замысла [Иванов: 409], катастрофичность развязки, «ужас и мучительное сострадание», поднимаемые со дна души «жестокой музой» писателя, которые вызывают «целительное освобождение души от хаотической смуты <…> аффектов», т. е. катарсис [Иванов: 410]. Отмечая глубочайший реализм трагедий, изображаемых писателем, Иванов писал: «Трагедия Достоевского разыгрывается между человеком и Богом и повторяется, удвоенная и утроенная, в отношениях между реальностями человеческих душ; и, вследствие слепоты оторванного от Бога человеческого познания, возникает трагедия жизни, и зачинается трагедия борьбы между божественным началом человека, погруженного в материю, и законом отпавшей от Бога тварности» [Иванов: 425]. Продолжением этих размышлений В. Иванова стали работы «Экскурс: основной миф в романе “Бесы”», «Лик и личины России (к исследованию идеологии Достоевского)».
В начатой Вяч. Ивановым дискуссии так или иначе участвовали такие значимые деятели русской культуры 1910–1920-х гг., как Л. Шестов, Д. Мережковский, И. Анненский, В. Розанов, Л. Пумпянский и др. Если Вяч. Иванов видел в романе-трагедии возвращение к исходному синкретизму эпоса [Иванов: 408], то Л. Шестов говорил о философии трагедии, соглашаясь с ним в том, что истоки трагизма произведений Достоевского находятся в потустороннем, недоступном обычному человеку опыте автора, полученном во время ожидания смертной казни и пребывания в «Мертвом доме» — в подземном мире и «области трагедии, откуда нет уже возврата в мир обыденности» [Шестов: 460]. По мысли критика, «философия трагедии находится в принципиальной вражде с философией обыденности. Там, где обыденность произносит слово «конец» и отворачивается, там Ницше и Достоевский видят начало и ищут» [Шестов: 462]. Л. Пумпянский согласился со своими предшественниками в том, что роман Достоевского «есть результат катастрофы трагического сознания» [Пумпянский: 33], однако настаивал, что поэзия автора «далека от сферы трагедии». Последняя, по мысли критика, «есть всегда память о событии, никогда пророчество о нем. <…> Трагедия есть последняя волна события, уже не реальная, а вполне фиктивная. Поэзия же Достоевского есть волна еще не бывшего события; вторая и следующие будут уже не в поэзии, а в реальности. Тема трагедии — некоторые фиванские средние века; тема Достоевского — некоторое еще не бывшее время. Одним словом, организованной памяти трагедии поэзия Достоевского противопоставляет организованное пророчество. Из этого неопровержимо следует, что Достоевский не есть трагический поэт: его слово не именует, не вспоминает, а предваряет» [Пумпянский: 40].
Эта дискуссия первых десятилетий XX в. повлияла на М. Бахтина. Исследователь критикует исходную формулу Вяч. Иванова «роман-трагедия» на том основании, что трагедия при формальной диалогичности однопланова: «Герои <драмы> диалогически сходятся в едином кругозоре автора, режиссера, зрителя на четком фоне односоставного мира. Концепция драматического действия, разрешающего все диалогические противостояния, чисто монологическая» [Бахтин: 26]. Полифонический же роман Достоевского многопланов, он диалогичен по сути, объективно принимает «в себя другие сознания» [Бахтин: 27]. В качестве источников романа Достоевского Бахтин выделяет сократический диалог, менип-пову сатиру и средневековую мистерию, отмечая, что именно карнавальная свобода «сделала возможным создание открытой структуры большого диалога» [Бахтин: 270–271].
В современном литературоведении к различным аспектам отражения античности и влияния трагедии в творчестве Достоевского обращались Т. Г. Мальчукова [Мальчукова], В. В. Дудкин [Дудкин, 2004, 2016], О. В. Захарова [Захарова], И. А. Есаулов [Есаулов], А. А. Асоян [Асоян], С. В. Сызранов [Сызранов]. Понимание же самим Достоевским жанра трагедии (именно трагедии, а не трагического как эстетической категории) не получило должного освещения в науке.
Трагедия как жанр впервые была описана в «Поэтике» Аристотеля, которая имеет исключительное значение в теории литературы: «“Поэтика” Аристотеля во многом предопределила тезаурус и круг проблем традиционного литературоведения» [Захаров, 1992: 2]. Аристотель охарактеризовал трагедию как «подражание действию важному и законченному, имеющему [определенный] объем, [производимое] речью, услащенной по-разному в различных ее частях, [производимое] в действии, а не в повествовании, и совершающее посредством сострадания и страха очищение (katharsis) подобных страстей» [Аристотель: 651]. Кроме того, «[трагедия] есть подражание действию не только законченному, но и [внушающему] сострадание и страх, а это чаще всего бывает, когда что-то одно неожиданно оказывается следствием другого» [Аристотель: 656]. Среди обозначенных шести частей трагедии наиболее важными он считал сказание (μῦθος)2 и характеры3. В мифе Аристотель выделил перипетию, узнавание и страдание и считал важным, «чтобы хорошо составленное сказание было скорее простым, чем <…> двойным, и чтобы перемена в нем происходила не от несчастья к счастью, а, наоборот, от счастья к несчастью и не из-за порочности, а из-за большой ошибки [человека] такого, как сказано, а [если не такого], то скорее лучшего, чем худшего» [Аристотель: 659]. Героем трагедии, по мысли философа, должен быть «такой человек, который не отличается ни добродетелью, ни праведностью, и в несчастье попадает не из-за порочности и подлости, а в силу какой-то ошибки (hamartia), быв до этого в великой славе и счастье, как Эдип, Фиест и другие видные мужи подобных родов». При этом желательно, чтобы страдать друг друга заставляли близкие люди: брат, сын, мать [Аристотель: 658–659], только в этом случае страдания героя вызовут сострадание, жалость и страх, которые — есть «очищение страстей», т. е. катарсис. Рецепция этой категории в европейской литературе подробно описана в научных работах (см., напр.: [Лосев, Шестаков: 85–99], [Позд-нев]).
Достоевский употребляет слово «трагедия» в прямом смысле — как обозначение театрального представления в жанре трагедии:
«А между тем для меня его игра действительно оказалась чем-то невиданным и неслыханным. Да, я не видал до сих пор в трагедии (здесь и далее в цитатах курсив мой. — А. Н .) актера, подобно<го> Васильеву» (20; 148).
«Это, конечно, русская деревня, а лицо — простая баба, которая грамотно и говорить не умеет, но, ей-богу, этот монолог о стертых коленках, “если б тут умолить было можно”, стоит многих высоких мест в иных трагедиях в этом роде» (21; 102).
В художественных произведениях, записных книжках и публицистических произведениях Достоевский характеризовал как трагедию ужасное событие или происшествие, которое может иметь губительные последствия. В «Ряде статей о русской литературе» он писал о Гоголе и называл трагедией историю с кражей шинели у бедного чиновника, имея в виду катастрофические последствия этого:
«Он постиг назначение поручика Пирогова; он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию » (18; 59).
В «Братьях Карамазовых» госпожа Хохлакова испуганно отзывается о сидящей в гостиной Катерине Ивановне и опасается, что визит последней может вызвать непредсказуемые и губительные результаты:
«И там эта трагедия теперь в гостиной, которую я не могу перенести, не могу, я вам заранее объявляю, что не могу. Комедия, может быть, а не трагедия. Скажите, старец Зосима еще проживет до завтра, проживет?» (14; 165).
В очерке «Пушкин» («Дневник Писателя» за 1889 г.) Достоевский характеризовал как трагедию отношения Онегина и Татьяны:
«…она прошла в его жизни мимо него не узнанная и не оцененная им; в том и трагедия их романа» (26; 140).
Писатель употреблял в переносном значении не только слово «трагедия», но и «роман», используя жанровое обозначение для описания взаимоотношений героев.
В статье за 15 июня «Петербургской летописи» Достоевский так описывал мечтателя:
«А знаете ли вы, что такое мечтатель, господа? Это кошмар петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия , безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками, — и мы говорим это вовсе не в шутку» (18; 32).
Писатель охарактеризовал структуру трагедии, выделил в ней составные части и отмеченную еще Аристотелем перипетию. Кроме того, он писал о грехе как источнике страданий главного героя. В этой же статье Достоевский еще раз сопоставляет трагедию и грех, описывая тип счастливого мечтателя: «И не трагедия такая жизнь! Не грех и не ужас! Не карикатура!» (18; 34).
В «Дневнике писателя» за 1877 г. (сентябрь‒декабрь) Достоевский отозвался на трагическую гибель мужа старшей дочери А. С. Пушкина, генерал-майора Леонида Гартунга, обвиненного в хищении векселей и других документов купца первой гильдии В. К. Зантфлебена, душеприказчиком которого он являлся. Заседание Московского окружного суда с участием присяжных заседателей проходило 7 – 14 октября 1877 г. Не дожидаясь приговора, Гартунг застрелился, оставив записку о своей невиновности. Достоевский пишет по поводу гибели обвиняемого:
«Гартунга жалко, но тут скорее трагедия (преглубокая), фатум русской жизни, чем с которой-нибудь стороны ошибка. Или, лучше сказать, тут все виноваты: и нравы, и обычаи нашего интеллигентного общества, и характеры, в этом обществе выровнявшиеся и создавшиеся, наконец, нравы и обычаи наших заимствованных и недостаточно обрусевших молодых судов» (26; 46)
и далее продолжает:
«…мне кажется, в деле Гартунга нечего ни стыдить суд, ни стыдиться суду. Тут ведь фатум, трагедия: генерал Гартунг до самой последней минуты своей считал себя не виновным и оставил записку… <…> Гартунг умер в сознании совершенной своей личной невинности, но и ошибки… судебной ошибки, в строгом смысле, никакой не было. Был фатум, случилась трагедия: слепая сила почему-то выбрала одного Гартунга, чтоб наказать его за пороки, столь распространенные в его обществе. Таких, как он, может быть, 10 000, но погиб один Гартунг. Невинный и высоко честный этот человек, с своей трагической развязкой, конечно, мог возбудить наибольшую симпатию, из всех этих десяти тысяч, а суд над ним приобрести наибольшую огласку по России для предупреждения «порочных»; но вряд ли судьба, слепая богиня, на это именно рассчитывала, поражая его» (26; 49–50).
Достоевский, вслед за Аристотелем, воспринимает героя трагедии как невиновного человека, такого же, как все («таких, как он, 10 000»), который страдает не из-за своей крайней порочности, а из-за случайности, гибель этого человека должна возбудить сочувствие зрителей и вызвать катарсис. Наличие этой категории в произведениях Достоевского и ее значимость для поэтики писателя отмечены О. В. Захаровой [Захарова]. Аристотель называет причиной страдания ошибку (ἁμαρτία). У Достоевского причины сложнее, хотя он и использует традиционный тезаурус: несчастье, судьба, фатум. Так, воздействием судьбы Достоевский объясняет трагическую катастрофу в драме Кошанского «Пить до дна — не видать добра», на постановку которой он отзывается в «Дневнике писателя» за 1873 г. (статья «По поводу одной драмы»):
«Сюжет налицо, и мы его подробно излагать не будем. Мысль серьезная и глубокая. Это вполне трагедия, и fatum ее — водка; водка все связала, заполонила, направила и погубила» (21; 96).
Водка здесь понимается как тот самый «олицетворенный грех», ведущий к катастрофе.
«Поэтика» Аристотеля была основой любого учения о поэтике. Достоевский воспринял в концепции трагедии многое из того, о чем писал греческий философ. Так же, как и Аристотель, писатель понимал структуру трагедии, ее основные элементы, характеризовал трагического героя, чьи страдания должны вызывать сочувствие и сострадание зрителя.
Примечания
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-90037.
-
1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. / АН СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом); редкол.: В. Г. Базанов, Г. М. Фридлендер, В. В. Виноградов и др. Л.: Наука, 1985. Т. 28 1 . С. 69. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием тома, книги (нижний индекс), страницы в круглых скобках.
-
2 Аристотель в поэтике использовал слово μῦθος (миф: «Ἀνάγκη οὖν πάσης τῆς τραγῳδίας μέρη εἶναι ἕξ, καθ᾽ ὃ ποιά τις ἐστὶν ἡ τραγῳδία·ταῦτα δ᾽ ἐστὶ μῦθος») [Αριςτοτελης: 94]). В латинских переводах употребляемое Аристотелем слово «миф» перевели как «фабула», и этот термин стал использоваться в последующих поэтиках, затуманивая изначальную мысль греческого философа [Захаров, 1984: 132].
-
3 О статусе категории «характер» в поэтике Достоевского в связи с учением Аристотеля см.: [Захаров, 1983: 64, 72].
Список литературы Достоевский и Аристотель (постановка проблемы)
- Аристотель. Поэтика / пер. М. Л. Гаспарова // Аристотель. Сочинения: в 4 т. - М.: Мысль, 1983. - Т. 4. - С. 645-680.
- Асоян А. А. К проблеме семиозиса «Эллинского слова» в русской литературной классике // Критика и семиотика. - 2015. - № 1. - С. 9-100.
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. - 416 с.
- Белинский В. Г. Петербургский сборник // Белинский В. Г. Собр. соч.: в 3 т. / под ред. Ф. М. Головченко. - М.: ОГИЗ, 1948. - Т. 3. - С. 61-100.
- Библиотека Ф. М. Достоевского: Опыт реконструкции. Научное описание / отв. ред. Н. Ф. Буданова. - СПб.: Наука, 2005. - 338 с.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. / АН СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом); редкол.: В. Г. Базанов, Г. М. Фридлендер, В. В. Виноградов и др. - Л.: Наука, 1972-1990.
- Дудкин В. В. Достоевский и Софокл: Сходное в несходном («Эдип-Царь», «Эдип в Колоне» Софокла и «Преступление и наказание» Достоевского) // Достоевский: Материалы и исследования. - СПб.: Нестор-История, 2016. - Т. 21. - С. 3-16.
- Дудкин В. В. Античные предвестники «Бесов» Достоевского (Аристофан) // Достоевский и современность: материалы XVIII Международных Старорусских чтений 2003 года. - Великий Новгород, 2004. - С. 278-285.
- Есаулов И. А. «Родное» и «Вселенское» в романе «Идиот» // Достоевский: Материалы и исследования. - СПб.: Наука, 2005. - Т. 17. - С. 92-101.
- Захаров В. Н. Поэтические принципы изображения характеров у Достоевского // Русская литература 1870-1890 годов: проблема характера: межвуз. сб. - Свердловск: УрГУ, 1983. - С. 64-72.
- Захаров В. Н. О сюжете и фабуле литературного произведения // Принципы анализа литературного произведения: сб. ст. / под ред. П. А. Николаева, А. Я. Эсалнек. - М.: МГУ, 1984. - С. 130-136.
- Захаров В. Н. Историческая поэтика и ее категории // Проблемы исторической поэтики. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1992. - Т. 2. - С. 3-9 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2355 (15.01.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.1992.2355
- Захаров В. Н. Идея Достоевского: Усиленное познание России как задача образования // Неизвестный Достоевский. - 2016. - № 3. - С. 3-13 [Электронный ресурс]. - URL: http://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1477920447.pdf (15.01.2019).
- DOI: 10.15393/j10.art.2016.2781
- Захарова О. В. Проблема катарсиса у Достоевского: из газетной полемики 1873 года // Проблемы исторической поэтики. - Петрозаводск: ПетрГУ, 2013. - Вып. 11. - С. 219-229 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1431516511.pdf (15.01.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.2013.381
- Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия // Иванов Вяч. Борозды и мрежи. Опыты критические и эстетические. - М.: Мусагет, 1916. - С. 400-436.
- Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. - М.: Искусство, 1965. - 372 с.
- Мальчукова Т. Г. Достоевский и Гомер // Новые аспекты в изучении Достоевского. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ. - 1994. - С. 3-36.
- Позднев М. М. Психология искусства. Учение Аристотеля. - М.; СПб.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. - 816 с.
- Пумпянский Л. В. Достоевский и античность. - Петербург: Замыслы, 1922. - 48 с.
- Сызранов С. В. Трагический миф Ф. М. Достоевского в истолковании русской философской критики конца XIX - первой трети XX века // Соловьевские исследования. - 2018. - Вып. 3 (59). - С. 175-193.
- Шестов Л. Достоевский и Ницше (Философия трагедии) // Шестов Л. Сочинения: в 2 т. - Томск: Водолей, 1996. - Т. 1. - 512 с.
- Αριςτοτελης Περἱ Ποιητικῆς // Απαντα. - Αθήνα, 1995. - Т. 34. - 418 σ.