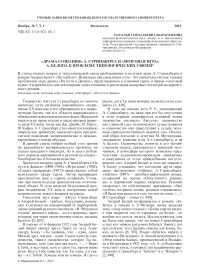«Драма сознания» А. Стриндберга и «Мозговая игра» А. Белого. К проблеме типологических связей
Автор: Шарапенкова Наталья Геннадьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (128) т.1, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье поднят вопрос о типологической связи проблематики и поэтики драм А. Стриндберга и романа Андрея Белого «Петербург». Выявлены два смысловых узла - богоискательство как главное проблемное поле драмы «На пути в Дамаск», представленное в сознании героя, и прием «мозговой игры» Андрея Белого как воплощение игры сознания и реализация жанровых потенций модернистского романа.
Мозговая игра, сознание, "петербург", "на пути в дамаск"
Короткий адрес: https://sciup.org/14750239
IDR: 14750239 | УДК: 821.113.6+821.161.1
Текст статьи «Драма сознания» А. Стриндберга и «Мозговая игра» А. Белого. К проблеме типологических связей
Творчество Августа Стриндберга во многом наметило пути развития европейского модернизма ХХ века как в его обращенности к перво-истокам бытия, так и в области кардинального обновления повествовательных форм. Шведский писатель по праву входит в число авторов первого ряда ХХ века, таких как Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка. А. Стриндберг стал известен в первую очередь как драматург, пьесы которого предвосхитили появление экспрессионизма и западноевропейского театра абсурда.
В данной статье избран особый угол зрения на важнейшую метафизическую проблему не только шведского писателя, но и всего рубежного периода европейской и русской культуры – богоборчество и богоискательство.
Хронотоп поздних драм А. Стриндберга («На пути в Дамаск» (1898–1904), «Игра снов» (1902), «Соната призраков» (1907)) представляет собой ментальную сферу героя. Автор превращает пространство пьес в «драму сознания». Сознание при таком подходе трактуется как эстетический объект. В этом видится безусловный прорыв модернизма ХХ века в построении новой антропологии, нового видения человека.
Типология двух имен – Август Стриндберг и Андрей Белый – требует, безусловно, пояснения. Сошлемся на комментарий Н. Берберовой, лично знавшей русского писателя: «В “Исповеди глупца” великого шведа… есть страницы, через которые, как через таинственное стекло, видишь Белого» [5; 205].
В письме от 6 февраля 1912 года Андрей Белый пишет своему другу, брату по духу Александру Блоку: «Ты пишешь, что – один, один. Милый друг, мы все – одни. Самое чувство одиночества, такого одиночества, которое Ты испытываешь, есть уже светлая весть. <…> Верю в Тебя, и все-таки, хоть и один Ты, протягиваю руки. Пусть Тебе кажется, что Ты один, а я скажу – я с Тобой. Хочешь или не хочешь. Я где-то рядом, хотя Ты меня можешь не видеть и не слышать» [1; 440].
В этом же письме есть P. S., посвященный А. Стриндбергу, но даже при его бы отсутствии в этом отрывке дешифруется основной мотив творчества «великого Августа»: одиночество как главный удел человеческого существования и одиночество как присутствие в судьбе человека сверхъестественных высших сил. Последний образ восходит к эстетике М. Метерлинка, оказавшего влияние и на А. Стриндберга, и на А. Белого. Одиночество, понятое в его бытий-ственном модусе, связывается с тишиной, молчанием, в атмосфере которого возможно предчувствие художником-провидцем невидимых и кажущихся от этого враждебными потусторонних сил. Андрей Белый в этом же письме к А. Блоку угадывает, что состояние друга окрашено настроением «Inferno» А. Стриндберга. «Inferno» (1897) – автобиографический роман, созданный на основе «Оккультного дневника» в парижский период творчества. Русский символист, по собственному признанию, «был глубоко потрясен своим, родным страданием». «И была мне радость в том, что вот не один. <…> И Стриндберг – тоже» [1; 440].
Андрей Белый возвращается к роману «In-ferno» в письме к Э. Метнеру, вновь выделяя тему «оккультного сыска»: «Блока еще не видел, с ним творится что-то странное: он болен – но вообще его нельзя видеть. Все изумляются, сам же Блок мне пишет, что он понял Стриндберга и под его знаком (разумею Inferno). Значит, его преследуют ; это страшно, опасно для Блока, боюсь за него» [6; 391]. Роман «Inferno» наряду с романом «На шхерах» А. Белый вспоминает и в «Речи памяти Блока», произнесенной в Вольфи-ле в Петрограде в 1921 году: «А. А. субъективно чувствует ноты, о которых так несравненно рассказывал Стриндберг в “Inferno” и в “Шхерах”» [2; 490].
Мировосприятие героя «Inferno», глубоко трагическое, болезненное, когда мир мыслится как враждебная сила, как «скопище невидимых и таинственных сил зла» [1; 441], было близко всему русскому символизму, и в особенности А. Блоку и Андрею Белому.
Автобиографическое начало творчества и шведского, и русского писателей видится в осознаваемой ими жизнетворческой модели поведения. Романы «Inferno», «Легенды», поздняя драма «На пути в Дамаск», роман «Одинокий», продолжающий автобиографическую эпопею, – этапы духовной биографии великого шведа. Тернистый путь к духовному возрождению А. Стриндберга пролегал через кризис, сходный во многом с проявлением болезни (К. Ясперс).
Андрей Белый не случайно увидел «родственное» в страданиях А. Стриндберга, поскольку страдание имело природу не психологического толка. Шведский писатель, находясь в Париже (после развода с Сири фон Эссен), обращается к изучению оккультных наук, алхимии, переживает религиозный и мистический опыт, который будет художественно трансформирован в поздние драмы («На пути в Дамаск», «Пасха», «Соната призраков»).
Подобный опыт переживает и русский писатель. Воззрения Андрея Белого 1910–20-х годов обусловлены влиянием антропософии: с 1912 по 1916 год писатель вместе с А. Тургеневой находится в общине Р. Штайнера в Дорнахе, где строит храм-театр «Гётеанум».
В учение Р. Штайнера как в «точную науку о мистическом» писатель трансформировал близкую ему со времен «аргонавтизма» идею жиз-нетворчества. Образная, мотивная структура романов Андрея Белого («Петербург», «Котик Летаев», «Москва») формировалась под воздействием антропософского учения Р. Штайнера.
И Стриндберг, персонифицирующий себя как в героя «Inferno», так и Неизвестного («На пути в Дамаск»), и Андрей Белый пройдут путь паломничества, духовного обращения, оба они – на пути к посвящению . Даже разделенные пространственно (Швеция – Россия) и во времени (А. Стриндберг родился в 1849 году, А. Белый – в 1880-м), писатели принадлежали одной художественной и мировоззренческой парадигме, испытали влияние идей «властителей дум» Ф. Ницше, Э. Сведенборга, Г. Ибсена.
В текстах модернистов воссоздается неготовый, становящийся мир образов. Одной из характерных примет искусства модернизма следует считать сведение представления об объективном мире к бытию субъективного сознания, использование техники «потока сознания».
Сознательные и бессознательные импульсы становятся «содержательным» планом и драм А. Стриндберга («На пути в Дамаск», «Игра снов», «Соната призраков»), и романов Андрея
Белого (особенно «Петербург», «Котик Летаев» и «Москва»). Такие произведения являются выражением особого типа художественного сознания, нацеленного скорее не на принцип изображения, а на принцип выражения.
«На пути в Дамаск» – это путь сотворения, жизнетворчества себя в поисках Бога. Фигура Неизвестного, главного героя драмы, полностью доминирует над остальными персонажами, по словам А. А. Мацевича, «заполняя все драматургическое пространство» [7; 5]. Герои, с которыми вступает в диалог Неизвестный (Нищий, Дама, Доминиканец, Доктор, сумасшедший Цезарь, Мать), лишены психологической нагрузки и вне связи с главным героем уходят в «театральное небытие».
В драме изменен театральный характер. В тексте выстроена целая галерея героев-двойников, которые зеркально отражают разные стороны богоборчества и богоискательства Неизвестного. Главная драматургическая коллизия разворачивается не между героями, которые являются порождением возбужденного сознания Неизвестного, а между человеком и Богом, становясь притчей о духовном пути человечества.
Герой Неизвестный в драме Стриндберга, лишенный личностного начала – имени, обращает свой взор в небеса, откуда Савл услышал голос. История обращения Савла, гонителя христиан, в ярого приверженца веры и первоапостола Павла – библейский семиотический код драмы Стриндберга, причем обозначенный в самом «читаемом» отрезке текста – в заголовке. Богоборчество заявлено с первых строк драмы. Неизвестный, как Иов, поднял «руки на небеса», «когда церковный совет вздумал забрать» у него детей [8; 145]. Библейский контекст драмы широк – история Иова, Моисея, путь обращения апостола Павла. Неизвестный в драме шведского драматурга жаждет спасения (в любви Дамы, в монастыре, в смерти).
Неизвестный мыслит как Создатель всего сущего, он готов вылепить идеальный мир, мир без зла и насилия: «И мне хочется взять в руки всю эту массу и вымесить ее во что-то более совершенное, прочное, прекрасное… хочется, чтобы все сущее и все создания были счастливыми: рождались без боли, жили без горя и умирали в тихой радости» [8; 164]. Неизвестный берет на себя миссию «сверхчеловека», герой ратует за равенство со Всевышним, во многом заостряя и отчасти пародируя как идею Ницше, так и комплекс идей немецких поэтов-романтиков. Герой не в силах смириться с существованием высшей силы, неподвластной человеку, и в то же время везде ощущает ее присутствие. Героиня призывает Неизвестного покориться, смириться: «Откуда в тебе этот дьявольский бунтарский дух?»
А. Стриндберг передоверяет своему герою свой духовный опыт. Находясь в Париже, переживая мировоззренческий кризис, автор обра- тился к Книгам Моисея. «Это чтение оставило след в моей драме» (из «Оккультного дневника» Стриндберга). Герой, уподобляя себя Иову и Моисею, передавшему человечеству Скрижали Завета, не утрачивает стремления «потягаться с Богом»:
«…Взойди я на Синай и встреть Вечного, и не подумал бы закрывать лицо!» [8; 187].
Герой переживает акт очищения. В сознании Неизвестного совершается мучительная битва, исход которой не предрешен. Двойственность намерений зафиксирована в диалоге героя и некой инстанции сознания, именуемой Мать Дамы.
«Мать: На колени перед Распятым!
Неизвестный: Нет, только не перед Ним!» [8; 190].
В финале герой в монашеском одеянии стоит перед Распятием. Вслед за этой сценой дается внутренний спор Неизвестного, муки героя, искушаемого Сатаной. Вместе с тем герой осознает всю обреченность этих борений, справедливо трактуя битву Иова в двойственном ключе против Бога и против Сатаны: «Я слышал, человек способен бороться с Богом, и не без успеха, но бороться с Сатаной было не под силу даже Иову» [8; 179].
Духовный путь, паломничество, путь от ве-роутраты к богообретению – главный нерв символистских драм шведского писателя – является отражением и предощущением главного вопроса эпохи рубежа XIX–XX веков, утратившей Бога и взыскующей Его благодати. В финале драмы звучит мольба к Богу:
«Исповедник: Господи, дай ему вечный покой!
Хор: И да светит ему вечный свет!» [8; 311].
Искусство модернизма сделало эстетическим объектом процесс рождения мыслеформ, ярким доказательством этого выступает драма шведского писателя.
Структурные схемы романов Андрея Белого могут быть представлены через мотивы духовной смерти и последующего возрождения, через связанность пути инициации героев с подвигом Спасителя и с «религией страдающего бога» Диониса Ф. Ницше.
События, герои, топонимика в романе «Петербург» – результат «мозговой игры» автора.
Андрей Белый определил главный прием, претворенный в романе, как «превращенье сознания в бытие» [3; 323]. Один из вариантов названия романа – «Мозговая игра» [3; 323]. А. Белый выстраивает сознание своих героев по модели, близкой авторскому сознанию. Творческая мысль в художественном мире «Петербурга» обладает своим бытием, своей энергией, она порождает реально существующий мир: «Каждая праздная мысль развивалась упорно в пространственновременной образ, продолжая свои – теперь уже бесконтрольные – действия вне сенаторской головы» [4; 35].
«Петербург» Андрея Белого вписан в жанровую традицию романа «потока сознания». Автор реализует в архитектонике текста процесс онтологизации человеческой мысли, превращая роман в историю его написания (созидания образов, героев, места действия, «призрачного» и «фантасмагорического» Петербурга). В романе возникает целая иерархия сознаний: революционер – сенатор – Петербург – повествователь. Подлинной реальностью художественного пространства романа становится всеобъемлющее сознание творца-демиурга, способного порождать мир оформленных образов.
«Мозговая игра» становится в тексте Андрея Белого и объектом размышлений автора, и процессом сотворения образов, событий, самого города, тем самым лишая его укорененности в бытии (отменяя статус достоверности и «оседлости бытия»), и воплощением игры сознания, и реализацией жанровых потенций модернистского романа.
Ментальный пласт романа реализует подлинную мистерию сотворения себя и переживания себя как «стремительного отхода к хаосу» и «повторением космогонии». Восприятие миссии поэта как провидца, сжигаемого на костре, людском или внутреннем, теургическое понимание творчества были близки обоим писателям.
Мучительный и трагедийный путь обретения веры в поисках справедливого Провидения, путь к Богу оказывается в драме «На пути в Дамаск» Стриндберга и романе «Петербург» А. Белого-путем обретения высшего «Я».
* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
Список литературы «Драма сознания» А. Стриндберга и «Мозговая игра» А. Белого. К проблеме типологических связей
- Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903-1919. М.: Прогресс-Плеяда, 2001. 608 с.
- Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма/Под ред. А. Л. Казина. М.: Искусство, 1994. Т. II. 571 с.
- Белый А. Мастерство Гоголя. М.: МАЛП, 1996. 351 с.
- Белый А. Петербург. СПб.: Наука, 2004. 699 с.
- Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. М.: АСТ: Астрель, 2010. 765 с.
- Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М.: Наука, 1980-1993. Кн. 3.
- Мацевич А. А. Август Стриндберг -драматург-новатор//Стриндберг А. Пьесы. М.: Индрик, 2002. С. 4-10.
- Стриндберг А. На пути в Дамаск//Стриндберг А. Пьесы. М.: Индрик, 2002. 312 с.
- Шарапенкова Н. Г. Онейросфера романа «Петербург» Андрея Белого (миф о жизнетворчестве)//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Общественные и гуманитарные науки». 2011. № 7 (120). Т. 1. С. 68-73.