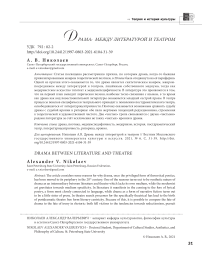Драма: между литературой и театром
Автор: Николаев А. В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 6 (104), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению причин, по которым драма, когда-то бывшая привилегированным жанром теоретической поэтики, в 20 веке была отодвинута на её периферию. Одной из причин этого оказывается то, что драма является синтетическим жанром, жанром- посредником между литературой и театром, лишённым собственного медиума, тогда как модернистское искусство тяготеет к медиумспецифичности. В литературе это проявляется в том, что на первый план выходит лирическая поэзия, наиболее тесно связанная с языком, в то время как драма как вид повествовательной литературы оказывается младшей сестрой прозы. В театре процессы поисков специфически театрального приводят к появлению постдраматического театра, освободившегося от литературоцентричности. Поэтому оказывается возможным сравнить судьбу драмы с судьбой иронии в риторике: обе пали жертвами тенденций редукционизма, стремления к теоретической и художественной чистоте. Два «чистых» тропа связываются с двумя «чистыми» родами литературы за счёт исключения не таких «чистых» иронии и драмы.
Драма, поэтика, медиумспецифичность, модернизм, история, постдраматический театр, литературоцентричность, риторика, ирония
Короткий адрес: https://sciup.org/144162370
IDR: 144162370 | УДК: 792 | DOI: 10.24412/1997-0803-2021-6104-31-39
Текст научной статьи Драма: между литературой и театром
Нам может казаться естественным деление литературы на три основных рода – эпос, лирику и драму, – а следовательно, и то, что они обладают определёнными «естественными правами», автономностью, равноправием друг с другом и независимостью друг от друга. Тем не менее, как показал Жерар Женетт [3, Т. 2, с. 283–341], незыблемость такой системы является не более чем «ретроспективной иллюзией», а сама эта система – изобретением романтизма. Только тогда лирическая поэзия вошла в пространство литературы на равных правах; в предшествовавшей классической поэтике, начиная с Платона и Аристотеля, она игнорировалась, а центральное положение, благодаря авторитету последнего, занимала драма. В наше же время ситуация, кажется, обратная: эпос и лирика, ставшие синонимами прозы и поэзии, fictio и dictio, делят между собой пространство литературы практически поровну, а драма вытеснена на периферию – или как специфичный подвид прозы, или как промежуточная форма между эпосом и лирикой. Однако это промежуточное положение драмы внутри литературы – только одно из конститутивных для драмы таких положений; другим является её положение в пространстве между литературой и театром. И здесь высвечивается проблема со статусом пьесы как произведения искусства, заключающаяся в том, что пьеса является произведением не вполне полноценным: это «произведение-полуфабрикат». Положение драмы в пространстве литературы и в литературной теории, уделить внимание которому здесь мы не имеем возможности, должно стать предметом собственного исследования; в этой же статье мы рассмотрим драму как литературное произведение для театра с двух сторон: литературы и театра.
Очевидно, что для того, чтобы пьеса могла быть поставлена на сцене (хотя некоторые пьесы и пишутся безо всякого расчёта на это), то есть чтобы она могла быть разыграна актёрами, она должна соответствовать ряду формальных требований, природа которых прояснится, если сравнить несколько версий одного и того же произведения – приспособленную для постановки и предназначенную только для чтения. Это могут быть сценическая и литературная редакции одной пьесы, но можно вспомнить и примеры превращения «полноценных» литературных произведений в драмы или в киносценарии, и тогда придётся признать, что главная трансформация, которой требует приспособление текста под сцену, – это его урезание. Некоторые части исходного произведения, которым не нашлось места в драме, – описания, повествования о действиях персонажей – будут, как это предполагается, восстановлены при постановке актёрской игрой и декорациями, внутренние речи могут быть скомпенсированы монологами. Тем не менее, драматическое повествование требует значительной перекомпоновки первоисточника – избавления и от лишнего объёма (сюжетных линий), и от наполнения (деталей). В радикальных случаях – таких, например, как либретто П. И. Чайковского и К. С. Шиловского для оперы «Евгений Онегин» – произведение для нужд сцены (учитывая дополнительные ограничения, накладываемые оперой, более строгие, чем у простого спектакля) изменяется так сильно, что оказывается связанным с оригиналом только самыми общими местами сюжета. Романное единство формы и содержания оказывается разрушено, а драматическое требует изменить содержание, и благодаря этому изменению обнажаются ключевые места истории.
Это даёт основания для того, чтобы сравнить драму с мифом. Широко известно, что Аристотель советовал использовать для сочинения трагедий мифические сюжеты («…лучшие трагедии держатся в кругу немногочисленных родов…» (1453a) [2, с. 810])1. Но здесь важно отметить то, что из всех составных частей трагедии он считает приоритетным именно сказание, т. е. мифологическую фабулу (1450a) [2, с. 803] – и это привилегированное положение «альфы и омеги театра» история сохранит вплоть до эпического театра Брехта [5, с. 53]. В качестве параллели приведём следующее высказывание Клода Леви-Стросса: «Миф можно определить как такой вид высказываний, при котором известное выражение „traduttore – traditore“ совершенно несправедливо. С этой точки зрения место, которое занимает миф в ряду других видов языковых высказываний, прямо противоположно поэзии, каково бы ни было их сходство. Поэзия необычайно трудно поддается переводу на другой язык, и любой перевод влечет за собой многочисленные искажения. Напротив, ценность мифа, как такового, нельзя уничтож ить даже сам ым плохим переводом. <...>
-
1 Важность мифа для Аристотеля отмечает и Гаспаров: «…для Аристотеля „фабула“ – не свободно вымышленный сюжет, а именно „сказание“, миф из традиционного фонда трагических преданий» [2, с. 802].
Дело в том, что сущность мифа составляют не стиль, не форма повествования, не синтаксис, а рассказанная в нем история. Миф – это язык, но этот язык работает на самом высоком уровне, на котором смыслу удается, если можно так выразиться, отделиться от языковой основы, на которой он сложился» [4, с. 243]2.
Получается, что для драмы миф является чем-то большим, чем простым источником сюжетов3. Более того, сложность соотнести драму с каким-либо одним из трёх времён (по примеру Якобсона: эпопея = прошлое, лирика = настоящее [12, с. 326–327; 3, Т. 2, с. 313– 315]) можно сравнить с положением мифа, как пишет Леви-Стросс, одновременно историческим и внеисторическим, связанным и с речью, и с языком [4, с. 242–243]. Использовав это сравнение, можно заметить, что устройство пьесы – представление законченной истории, разворачивающейся в настоящем и при этом в действии, а не в рассказе о действии (речь героев тоже является действием, а не цитирующим пересказом рассказчика) – ставит драму в некотором смысле «вне языка», позволяет ей «отделиться от языковой основы». Не является ли это причиной её сложного положения относительно литературы, особенно в двадцатом веке, когда литература, по замечанию Мишеля Фуко, становится «очарована бытием
-
2 Отметим, что возможное возражение, заключающееся в том, что для драмы (прежде всего, традиционных жанров трагедии и комедии) важна игра слов и основанная на ней трагическая ошибка или комическое недоразумение, также не осталось без внимания: см. [4, с. 466].
-
3 Ср. также из аннотации современного учебника по драматургии Чехова: «В основу пособия положен анализ отдельных элементов поэтической структуры четырех последних драматургических шедевров писателя („Чайка“, „Дядя Ваня“, „Три сестры“, „Вишневый сад“), которые существуют в современном культурном пространстве практически как «вечные» тексты типа мифов и преданий, из которых потомками черпаются сюжеты, образы, цитаты, вдохновение…» [6].
языка», «обречена языку», и стремится зайти скорее «под» язык, к его основам (в том числе и в театре – Фуко пишет про Арто и Русселя), чем воспарить «над» ним [11, с. 401]? И именно поэзия является наиболее глубоко связанным с языком родом литературы; более того, можно вспомнить о той роли, которую тема языка играла для философии 20 века, и о том, что Ален Бадью окрестил «веком поэтов» [1]. Независимость истории от языка делает драму, подобно мифу, противоположностью поэзии.
Ирене Беренс, рассматривая вопрос о причине отсутствия лирической поэзии в качестве обособленного рода литературы у Аристотеля, приходит к выводу о том, что она заключается «…в тесной связи греческой лирики с музыкой, в силу которой лирика и оказывалась вне сферы поэтики»; как показал Женетт, это объяснение неудовлетворительно, ведь «…с музыкой была связана и трагедия, причём ничуть не меньше» [3, Т. 2, с. 283]. Однако эта ошибка показательна не только потому, что является примером «рестроспективной иллюзии», нашего натурализованного представления о трёх родах литературы и стремления приписать (или удивления от невозможности это сделать) это «естественное» деление античности. Объяснение Беренс – смешанным жанрам, вроде греческой лирической поэзии, не место среди жанров чисто литературных – можно опрокинуть и на современность; но тогда речь пойдёт об исключении не лирики, давно ставшей чистым искусством языка, а драмы. Отодвигая драму на периферию, отказываясь от прав на неё, точнее, разделяя их с театроведением, литературоведение повторяет ход, который оно ошибочно приписывало Аристотелю. Особенно ярко это проявляется тогда, когда признают, что невозможно изучать историю драмы (в отличие от истории романа или лирики), оставаясь в пределах только литературы, и что даже на уровне текста некоторые аспекты пьесы (например, построение сценической редакции в противоположность литературной) принадлежат истории и теории театра [9, с. 210, 213].
Со стороны же театра драма является одним из материалов, составляющих целое спектакля, одним из его ингредиентов. Любая, даже самая консервативная постановка является интерпретацией текста пьесы так же, как исполнение музыки является интерпретацией нотного текста: декорации и костюмы, подбор актёров и их игра, музыкальное сопровождение и архитектура театра и всё то, что краткость авторских ремарок оставляет на волю режиссёра, способны наделить один и тот же текст противоположными смыслами; но гораздо более важное место в жизни театрального искусства занимают смелые, радикальные интерпретации, противопоставленные консервативным так же, как галерея современного искусства противопоставлена музею. Режиссёр же как автор спектакля в целом занимает более важное место чем драматург, являющийся автором только одной из его составных частей; можно также отметить разницу в воспринимаемой иерархии между премиями Американской академии кинематографических искусств и наук за лучшую режиссуру и за лучший сценарий (даже оригинальный и тем более адаптированный).
Сравнение литературы с музыкой1 не ново: Нельсон Гудмен сближал эти виды искусства на почве того, что он назвал алло-графичностью – того факта, что музыкальные и литературные произведения существуют в виде потенциально бесконечно тиражи-
-
1 Дополнительное основание для более близкого сравнения с музыкой именно драмы даёт использование в обоих искусствах слова «пьеса» в схожих смыслах (текст для исполнения), лирической поэзии – немиме-тичность этих искусств.
руемых текстов и исполнений этих текстов, ни один из которых не имеет приоритета над другими копиями, в том числе и оригинальной рукописью; в противоположность этому автографические искусства – например, живопись – оперируют понятиями подлинника и копий, репродукций и подделок с безусловно признаваемым приоритетом оригинальной работы [14]. На тот факт, что два исполнения одного и того же нотного текста могут заметно отличаться друг от друга даже при строгом следовании нотации и потому сложно установить между ними равенство подобное тому, которое существует между двумя экземплярами одной книги, уже обращали внимание [15; 17; 16]. Но если из этого можно сделать вывод о том, что существует некоторая неоднородность внутри категории аллографичности или спектр возможных переходных состояний между аллографичностью и автографичностью, то драму стоит поместить скорее ближе к музыке, чем к другим литературным жанрам. Текст драмы, как и нотная запись симфонии, могут быть воплощены в исполнения самого разного эстетического качества, за которыми поэтому нужно признать определённую эстетическую автономность друг от друга и от изначального текста.
Конечно, воспринимать пьесу и судить о её качестве можно и «в оригинале», без посредства какой-либо интерпретирующей постановки, так же, как судить о качестве музыкального произведения можно не слушая его, а просто читая ноты. В двадцатом веке особую актуальность приобретает скорее даже обратное: наряду с нотами без исполнения появляется исполнение без нот, а рядом с драмой без спектакля – спектакль без драмы. И то и другое являются основными формами музыки и театра в большинстве мировых культур, но не на Западе, где они были переоткрыты – зачастую не без очевидного влияния не-европейских образцов – не так уж и давно. Собственно история постдраматического театра отсчитывается только с 1970-х годов, а предыстория – с театра Брехта, Арто и Гротовского. В 1925-м году в своей книге «Теория литературы. Поэтика» Борис Томашевский писал, что «драматургия не поспевает за режиссером. Не так давно Ибсен, Чехов, Метерлинк шли рука об руку с реформой сцены, режиссер едва поспевал за автором. Теперь автор отстал от режиссера. Мы имеем новую сцену и не имеем новой драматургии» [9, с. 215] – сложно не увидеть в этом определённого предсказания судьбы театра.
«Новая драматургия» появилась, но она была не вполне «драматургией». Отход от драмы в классическом смысле, начавшийся примерно в то же самое время, привёл усилиями Брехта к «эпизации» театра [5, с. 47–49]; театру словно стало тесно в рамках драмы и поэтому первым очевидным решением стало обратиться к тому роду литературы, подвидом которого она начинает считаться – к эпосу. Но хотя эта линия развития театра является одной из наиболее заметных, она не является единственной: приобрела большую актуальность также лирическая драма, а творчество Беккета, Жене и Ионеско некоторые исследователи (например, Ричард Шехнер) определяют как «постдраматическую драму» [5, с. 43].
В определённом смысле закономерности развития театра в 20 веке совпадают с закономерностями развития других видов искусств; на смену романтической ценности синтеза пришёл пуризм модернизма1 – «медиумспец-ифичность», согласно определению Клемента
-
1 Конечно, нужно отметить, что отношения между ними были более сложными, чем смена одного другим. Можно сказать, что они были диалектическими: синтез или Gesamtkunstwerk был далёкой целью, а «чистое» искусство – средством.
Гринберга. Так же, как живопись модернизма отошла от фигуративности, то есть «скульптурности», литература стала литературой языка (а не истории), а театр отошёл от литературы, точнее, от литературоцентричности, перестал быть простой постановкой текстов, пусть даже полностью текст из театра не исчез. Нас может смутить определённое несовпадение хронологических рамок (театр становится истинно модернистским только к самому концу модернизма), но стоит обратить внимание на то, с каким недоверием ведущий теоретик постдраматического театра Ханс-Тис Леман пишет об идее постмодернизма: «Многие черты современной практики, которые называются постмодернистскими… ещё никоим образом не вскрывают для нас существенного поворота прочь от модернизма» [5, с. 44]. (См. также его сравнение современного театра с живописью модернизма [5, с. 30].)
Таким образом, драма, являясь промежуточным жанром между литературой и театром, оказывается на практике жертвой их тенденций к медиумспецифичности, точно так же, как в теории она стала жертвой спецификации поэтик прозы и поэзии. Иронично, что поэтому её судьба напоминает судьбу тропа, с которым драма (в своих стандартных жанрах трагедии и комедии) наиболее тесно связана – с иронией. Сделаем небольшой экскурс в риторику – классицистскую предшественницу романтической эстетики [8, с. 137], чтобы посмотреть, как связаны происходящие в них процессы. Квинтилиан разделяет иронию-троп, состоящую из одного или нескольких слов, и иронию-фигуру, высказывание, составленное из ироний-тропов так же, как аллегория составлена из метафор (Institutio Oratoria IX, 2, 45–46) [18]. Фоссиус и Дюмарсе, упорядочивая список тропов, называют иронию в числе четырёх основных тропов, так как в ней два члена связаны отношением контраста (в метафоре – сходством, в метонимии и синекдохе – соотнесённостью, по Дюмарсе, что даёт ему основание объединить их) [3, Т. 2, с. 21]. Но уже Никола Бозе исключает контраст и оставляет только три возможных вида отношений: подобие (метафора), соответствие (метонимия) и коннексия (синекдоха) [8, с. 109–110]. Вслед за ним Фонтанье также исключает иронию, но на другом основании: она состоит из нескольких слов, а значит, является «фигурой выражения», а не значения, псевдотропом [3, Т. 2, с. 21] – и в этом отличие Фонтанье, придававшего большое значение объёму фигуры (слово это или сочетание слов), от Бозе [8, с. 96]. В дальнейшем же, например, у Эйхенбаума и у Якобсона, редукции Дюмарсе и Бозе будут объединены, и возникнет пара метафора-метонимия, если кто-кто не пойдёт ещё дальше, как Пруст, оставивший только метафору, или Фрейд – только метонимию [3, Т. 2, с. 21 и далее]. Тодоров приводит «классический» список тропов по Бозе и Фонтанье (с синекдохой, но без иронии), описывает их с помощью логики (метафора – интерсекция, метонимия – эксклюзия, обобщающая и специфицирующая синекдохи – инклюзия) и приходит к выводу, что логически только эти четыре тропа и возможны [7, с. 352–353].
Таким образом, ирония оказывается исключена из списка тропов по двум основаниям: во-первых, контраст перестаёт считаться одним из законов ассоциации, во-вторых, ирония не удовлетворяет требованиям объёма. Можно провести сравнение с причинами отодвижения драмы на периферию, которые были обсуждены выше, но есть одна точка более близкого сближения: Женетт отмечает, что «эта новейшая редукция [четырёх тропов до двух – прим. наше] была осуществлена уже в практике русского формализма – начиная с работы Бориса Эйхенбаума об Анне Ахматовой, которая датируется 1923 годом и содержит даже формулу „метонимия = проза, метафора = поэзия“» [3, Т. 2, с. 21–22]. Видно, что редукция тропов здесь прямо связана с редукцией родов литературы. Не совсем, правда, очевидно, какой троп тогда соответствовал бы драме. По логике, в которой она является вариантом прозы, её аналогом была бы синекдоха, понятая как вариант метонимии: немного подправив Эйхенбаума, можно было бы дать формулу «метонимия (включая синекдоху) = проза (включая драму)». Стоит отметить, что из теоретиков литературы те, кто помнят про трагедию с комедией и про иронию – например, Нортроп Фрай и его последователи (Хэйден Уайт и др.) – не отождествляют их, а противопоставляют [13; 10]. (Хотя их термины «трагедия» и «комедия» являются очень широкими, не связанными именно с драматургией в точном смысле слова.) Драму, наконец, можно связать и с метафорой, как это сделал Гёльдерлин, назвавший трагедию «метафорой умственного озарения» [3, Т. 2, с. 310] – правда, эпос и лирика у него тоже «метафоры». Однако по сравнению с любым подобным отождествлением рода литературы с тропом (а также с темпоральной категорией, субъективным или объективным принципом и т. д.), метафорическим по своей сути, у сближения драмы с иронией то преимущество, что последняя зачастую является важной частью трагических и комических сюжетов – то есть связана с ними отношением синекдохи (отметим также, что сравнение трагедии с синекдохой (как в нашей формуле выше) вместо иронии, возможно, менее обоснованное, тоже послужило бы нашим целям иллюстрации параллелей в истории жанров и истории тропов).
Разумеется, редукция не является чем-то исключительно вредным a priori, однако никогда не помешает более тщательно рас- смотреть, какие жертвы при этом приносятся в обмен на большую ясность, простоту и чёткость классификации, и нет ли способов этих жертв избежать или контекстов, в которых они и их последствия нежелательны. Примечательно, что на возможные способы уклониться от редукции указано уже в тех же текстах, которые её осуществляют. Здесь не место ввязываться в спор с Фонтанье и указывать (приводя пример Квинтилиана), как ирония может быть выражена одним словом или как она отлично вписывается в его схему тропа-фигуры, поэтому ограничимся примером Тодорова. Он отмечает, что все тропы связаны с утвердительными суждениями, являются их «конденсированными» версиями [7, с. 353–354]. И тогда дело состоит не в том, чтобы показать, как такой же механизм конденсации работает в иронии (ироничное «блестящее доказательство» в значении «вовсе не блестящее доказательство»), а в том, что важность размера фигуры иронии, столь принципиальная для Фонтанье, в итоге отходит на второй план как разница количественная (в степени конденсации), а не качественная.
Таким же образом и у драмы корень проблем заключается в её «размере»: она и проза, и поэзия, и литература, и театр – а значит, во-первых, нечто меньшее, чем все они по отдельности, и, во-вторых, нечто, что не имеет собственной «природы», медиума, к которому она могла быть сведена, оставшись собой (не став «постдраматической», эпической или лирической). Но если такая ситуация является следствием определённой логики развития искусства периода модернизма, значит ли это, что она должна измениться после его завершения, и что поэтому у драмы есть шанс на возрождение, хоть и не в качестве центрального жанра (вряд ли какой-либо жанр может теперь претендовать на место наверху какой-либо иерархии)? Сложно давать прогнозы, но история показывает, что зачастую развитие искусства – это использование на- следия дедов для борьбы с отцами. Поиску же ответов на вопрос о том, благодаря чему драма может снова стать актуальной, необходимо посвятить отдельное исследование.
Список литературы Драма: между литературой и театром
- Бадью А. Манифест философии. СПб.: Machina, 2003. 184 с.
- Гаспаров М. Л. Собрание сочинений в шести томах. Т. 1: Греция. / Михаил Леонович Гаспаров; вступ. статья, сост. Н. П. Гринцера, М. Л. Андреева. М.: Новое литературное обозрение, 2021. 848 с.: ил.
- Женетт Ж. Фигуры. В 2 т. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. 472, 472 с.
- Леви-Стросс К. Структурная антропология / Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. М.: Академический Проект, 2008. 555 с. (Философские технологии: антропология).
- Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М.: ABCdesign, 2013. 312 с.
- Николаева Е. Г. О поэтике драматургии Чехова («бесконечный лабиринт сцеплений»). М.: МГИК, 2016. 108 с.
- Тодоров Ц. Семиотика литературы // Степанов Ю. С. (ред.). Семиотика. М.: Радуга, 1983. 637 с.
- Тодоров Ц. Теории символа / Перевод с французского Б. Нарумова. М.: Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1998. 408 с.
- Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика: Учеб. пособие / Вступ. статья Н. Д. Тамарченко; Комм. С. Н. Бройтмана при участии Н. Д. Тамарченко. М.: Аспект Пресс, 1996. 334 с.
- Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. под ред. Е. Г. Трубиной и В. В. Харитонова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. 528 с.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой. Вступительная статья Н. С. Автономовой. СПб.: A-cad, 1994. 407 с.
- Якобсон Р. Работы по поэтике: Переводы. / Сост. и общ. ред. М. Л. Гаспарова. М.: Прогресс, 1987. 464 с., [12] л. ил. (Языковеды мира).
- Frye N. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1971. x, 383 pp.
- Goodman N. Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols. Indianapolis, New York Kansas City: The Bobbs-Merrill Company, inc., 1968. xiv, 277 pp.
- Kivy P. How to Forge a Musical Work // The Journal of Aesthetics and Art Criticism 58 (3), 233–235.
- Kivy P. Versions and «Versions,» Forgeries and «Forgeries»: A Response to Kirk Pillow // The Journal of Aesthetics and Art Criticism 60 (2), 180–182.
- Pillow K. Versions and Forgeries: A Response to Kivy // The Journal of Aesthetics and Art Criticism 60 (2), 177–179.
- Quintilian. Institutio Oratoria IX, 2, 45–46. [Электронный ресурс] // URL: https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Quintilian/Institutio_Oratoria/9B*.html#2