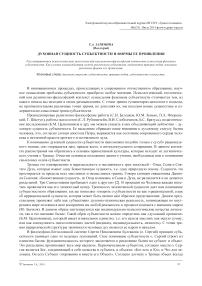Духовная сущность субъектности и формы ее проявления
Автор: Затямина Татьяна Анатольевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 6 (33), 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются психологический, теологический и религиозно-философский контексты осмысления феномена субъектности. Как условие взаимодействия между различными субъектами, выделяется принцип любви, показаны различные формы его проявления.
Духовная сущность субъектности, принцип любви, субъектность в искусстве
Короткий адрес: https://sciup.org/14822149
IDR: 14822149
Текст научной статьи Духовная сущность субъектности и формы ее проявления
В инновационных процессах, происходящих в современном отечественном образование, научное осмысление проблемы субъектности приобрело особое значение. Психологический, теологический или религиозно-философский контекст осмысления феномена субъектности отличаются тем, из какого начала мы исходим в своих размышлениях. С точки зрения гуманитарно-целостного подхода, не противопоставляя различные точки зрения, но дополняя их, мы находим новые сущностные и содержательно-смысловые грани субъектности.
Проанализировав религиозно-философские работы (С.Н. Булгаков, Ю.М. Зенько, П.А. Флоренский, Г. Шестун), работы психологов (С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, Б.С. Братусь), педагогические исследования (Б.М. Целковников и др), мы можем увидеть в них объединяющий лейтмотив – духовную сущность субъектности. Ее выделение обращает наше внимание к духовному статусу бытия человека, что, согласно словам апостола Петра, выражается как состояние сокровенного сердца человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа.
К пониманию духовной сущности субъектности невозможно подойти только с сугубо рационального знания, оно открывается нам, прежде всего, в интеллектуальном созерцании. В данном контексте рассмотрения мы обратились к основам православной культуры, которые исходят из догматического учения о Троице. Отметим основные положения данного учения, необходимые нам в понимании смысловых основ субъектности.
Троица это одновременно и нераздельность и неслиянность трех ипостасей – Отца, Сына и Свя-таго Духа, которые имеют одну Божественную сущность, т.е. одну природную основу. Сущность эта простирается за пределы всех мыслимых и немыслимых границ. Говоря словами священника Даниила Сысоева: «Божественная сущность, из Отца изливаясь в Сына и Духа, не разделяется и не делается раздельной. Три Самосознания пребывают одно в другом» [2]. В проекции на Человека каждая ипостась проявляется как его личностный центр. Троичность человеческой сущности дает нам понимание субъектностного образования. так же позволяет говорить о субъектности не как о рациональной, а как об иррациональной сущности, которая может быть явлена нам образное представление. Данное представление проявляет себя как субъективно духовно-психическая реальность, возникающая во внутреннем мире человека в акте восприятия им любой реальности, в процессе контакта с внешним миром (Ю. Бычков). В данном образе синтезируются как индивидуально-психологические качества личности, так и его внешнее бытие. Такой образ субъектности можно определить как «духовный организм» (Б.М. Целковников), который имеет изначальное единство, т.е. его нельзя мыслить как некую сумму, или как совокупность психологических частей (индивид, индивидуальность, личность). С точки зрения иерархической структуры троичности человека дух является ее ядром и началом.
В философско-богословской системе Сергея Николаевича Булгакова (о. Сергий) принцип субъектности занимает одно из ведущих положений. Свое понимание субъектности о. Сергий строит из единства бытия, фундаментальность которого заключается в разделение бытия на субъект и объект. Это разделение пронизывает весь мир насквозь. Первоначальным субъектом, согласно мысли о. Сергия является Бог, соединяющий в себе качества и субъекта, и объекта: «Бог есть и Кто, и Что для человека. Он есть Субъект откровения и вместе его Объект». Согласно догмату о Троице объект всегда личностен, поэтому он не может рассматриваться только как внешняя данность. Объект и субъект образуют две не разделимые формы человеческого бытия, своими свойствами они дополняют друг друга, т.е. в субъектности есть всегда объектная составляющая, которая и является источником, причиной, началом субъектности как духовного организма. С.Н. Булгаков объясняет это следующим образом: то что человеку дано, это его образ, а то, что ему задано, это его подобие. Исходя из этого соотношения, мы можем выделить отличительные свойства субъекта и субъектности. Субъект как внутренняя сущность человека, это его внутренняя свобода выбора, способность разумно мыслить и действовать, дар слова, любовь, творчество. Субъектность же – воплощенное содержание субъекта в деятельности.
В педагогической практике всякая попытка осуществления своей субъектности становится как для учителя, так и ученика, творческой задачей, направляющей их усилия на поиски высшего Субъекта. Они становятся содержанием и целью его духовной жизни. Усилия в поисках высшего Субъекта предполагают «напряженную актуальность души», что является необходимым условием решения этой задачи. Напряженная актуальность души – это усилие по преодолению горделивой и всегда уединенной самости индивида, оно является созидательным для человека.
Субъектность в психологическом контексте рассмотрения связывается с определенным типом активности. Духовный контекст позволяет понять содержание этой активности, которая, прежде всего, проявляется в цели деятельности, которая должна отвечать не на вопрос «что я делаю» а на вопрос «для чего я это делаю». Такая цель содержит волевую сосредоточенность на своей обращенности, вопрошания к высшему Субъекту. Волевая сосредоточенность является условием переживания высшего Субъекта в себе, что мы и называем верой. Вера, согласно С.Н. Булгакову, предполагает объективное откровение, т.е. ответ Бога.
В логике размышлений С.Н. Булгакова возможность попадания человека в статус субъекта следует рассматривать как проявление Божьей благодати, и переживается эта благодать как Откровение. Упругое сознание своей абсолютности, вечности, божественности, такое несомненное чувствование себя в Боге, которое не может быть залито океаном вечности и угашено в вихрях пространства [1]. Такое Откровение не только открывает, но вместе с тем и указывает неоткрытую и неоткрываемую тайну, и эта абсолютная тайна содержит в себе источник воды, текущей в жизнь вечную, никогда не иссякающий и не оскудевающий. В отличие от богословской трактовки светское понимание субъектности таит в себе опасность утраты именно этого аспекта – Богооткровения, когда субъектность трактуется не как благодать, а как самооткровение.
Целостность субъектности заключается в ее разделенности на душевно-духовное состояние. По словам С.Н. Булгакова в этом состоянии не только слушается, но и слышится, не только смотрится, но и видится. Позиции «слышится и видится», проявляются в степени сосредоточенности. Отсюда субъектность следует рассматривать как состояние воспринимающего и внимающего человека. Как воспринимающий, – пишет игумен Георгий (Шестун), – человек предстоит миру, мир открывается человеку, а человек созерцает, отображает мир. В таком со-бытии с миром, человек призван опекать и обустраивать мир, открывая в нем пути Божественного Промысла, наполнять его творческой силой слова. В понятии «мир» отражается целостность человеческого бытия, поскольку мир может быть как внеположен субъекту, так и вмещаться в него самого, но в нем человек в своей индивидуальности не отделим от Всеобщего.
Восприятие и внимание – две формы внутренней активности, в которых отражается субъектный статус человека. Данные формы активности позволяют осознавать чувственное качество воспринимаемого объекта противостоящего субъекту. Чувственные качества опосредованы предметным значением отображаемых объектов. При этом, объекты восприятия, воспринимаются не только в «значении для меня», но и в их отнесенности к объективному миру, т.е. «значении само в себе».
С точки зрения духовного контекста субъектность только начинается в индивиде (и в этом ее потенциальность), но ее осуществление или завершение принадлежит Другому. С позиции традиций восточно-христианской культуры Другой это Бог. Соответственно и понимание субъект-субъектного взаимодействия имеет особый оттенок. Это взаимодействие человека с Богом, т.е. абсолютное взаимодействие, а оно не может быть равным. Взаимодействия между Творцом и человеком всегда имеет характер тайны (Благодати).
Если посмотреть на субъект-субъектное взаимодействие не на уровне абсолютного, а на уровне функционально-человеческого учитель-ученик, дети-взрослые, то духовный контекст помогает нам найти принцип взаимодействия между различными субъектами – это любовь. Любовь не по отношению к предметному знанию, или инструктивным требованиям, а к себе подобному. Проявление данного принципа будет выражено в следующих действиях – принимать, утверждать и творить.
Отметим, как этот принцип отражается на решении педагогических задач. Принцип любви определяет целостное восприятие учителем своих учеников. Последние принимаются как самобытная личность, что исключает концентрированность восприятия на деталях и нюансах. Самобытность это корень, из которого вырастают таланты человека. В чем выражается самобытная личность ученика? Во-первых, он принимается как бесконечно уникальный, нетождественный ни с чем и не с кем. Во-вторых, он принимается как человек, имеющий единые духовные основы с другими людьми, что удерживает его корневые связи, не позволяя раствориться во всеобщем, т.е. потерять свое лицо. Принятие ребенка как самобытной личности, ограничивает действия учителя. В чем это выражается? Не признать неслиянность – значит исключить в ребенке оригинальность, возможность его творческого проявления. Если игнорировать нераздельность, то это ведет к культивированию эгоизма, индивидуализма в учениках.
Данный принцип требует и того, чтобы знание, к которому мы обращаем внимание детей, сделать личностным, т.е. значимым для ребенка. Для этого необходима сила учительского разума. Учитель должен действовать разумно, что проявляется в рефлексивном самоконтроле, ответственности за свои действия. Принцип любви отражается и на действиях учителя, когда он призывает детей к самостоятельности. Призыв этот исходит не из должного от детей («вы должны», «вы обязаны»), а из возможного в каждом ребенке («вы можете», «у вас получится»). Если правит любовь в отношениях, то и действия и усилия детей в обучении исходят из их собственной воли. Воля, рожденная из любви, становится совестною, благородною волею и оказывается источником настоящих христиански-героичес-ких поступков. Данный прицип дает нам одухотворенное понимание творчества, не просто как инструментально-технологического процесса, но и как процесса духовно- нравственного одухотворения личности.
Мы очень часто предлагаем детям выполнить творческие здания. Воображение основной механизм при их выполнении. Важно, каков посыл к включению воображения? При выполнении творческих заданий воображение должно помочь «выйти за пределы себя знакомого». Включение воображения может быть как праздной и безразличной игрой, развлечением, а может зажечь духовный огонь, благодаря которому ребенок начинает воистину видеть и творить.
Субъектность в духовном контексте наиболее ярко позволяет обнаружить себя в произведениях искусства, где просматриваются уникальные состояния души духовного свойства, которые отличаются сочетанием особой напряженности внутренней жизни с максимальной осознанностью Бытия. Считается научно доказанной мысль о том, что искусство является неким единым сводом многих разумных положений человеческого Бытия. Что касается духовной жизни человека, то произведения искусства могут служить понятным для светского человека учебником догматики, христианской антропологии, раскрывающей особенности духовной силы человека, примеры его духовного преображения.
Обратимся, например, к музыке В.А. Моцарта, вспомним начало звучания 40-й симфонии. Даже не зная глубоко этого произведения, наши ощущения подскажут, что ее содержание это свет, это восторг, это всеобщее счастье. М. Казинник в одной из своих передач цикла «Музыка, которая вернулась» говорит об одном письме Вольфганга, которое он написал своему отцу: «Папа, Вы себе не представляете, что это означает, каждый вечер ложиться в постель, не зная, проснусь ли я утром». Зададим себе вопрос, а может быть музыка 40-й симфонии это борьба со смертью, извилины болеющего серд- ца? Слушаем вновь музыку Моцарта, находим в ней и эти ощущения. Мы не ошиблись, две стороны в неразрывном единстве присутствуют в музыке Моцарта. Одна – природная, это страх перед смертью, другая – это внутренняя сила, напряженной активности души, которая устремляет человека к его подобию. Единение с Абсолютом в музыке Моцарта мы ощущаем как радость духовной активности, свет, бесконечную ширь и глубину мироощущения. Образцы гениальных творений, создаваемые руками искусного художника по предначертаниям его духа, происходят от высшей красоты, отображают ее, напоминают о ней, заставляя нас слушателей, зрителей возлюбить ее и открыть свой путь «восходить к бесконечности» (В. В. Зеньковский). Потенциал, который заложен в музыке и других видах искусства для современной образовательной практики может и должен стать смысло- и культурообразующим началом развития субъектности.
Список литературы Духовная сущность субъектности и формы ее проявления
- Булгаков С.Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения М.: Республика. 1994. URL: http://www.vehi.net/bulgakov/svet
- Сысоев Д. Простыми словами о тайне Троицы. М.: Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева, 2010.