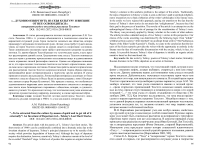"…духовно извергнуть из себя культуру и внешне от нее освободиться": инвариант ухода в последних рассказах Толстого
Автор: Вичкитова Анна Михайловна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (45), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается поэтика поздних рассказов Л.Н. Толстого. Рассказы 1900-х гг. условно объединяются в тематическое единство инвариантной ситуацией ухода. Герои пытаются оказаться вне общества, которое провоцирует деградацию человеческой души. Логика ухода требует пункта назначения, но герои Толстого остаются на уровне сюжета в «пороговом» состоянии. Такое лиминальное положение героя требует оригинального решения на уровне поэтики. То, каким образом Толстой решает эту эстетическую задачу, и есть предмет рассмотрения данной статьи. Традиционно тема ухода у Толстого понимается как путь героя к духовному просветлению: исследователи ищут в художественном тексте отражение личной философии писателя. Однако мы обращаем внимание на то, что герои поздних толстовских текстов не достигают «просветления», находя свою цель в переходном состоянии. Новшеством работы является привлечение для рассмотрения текстов Толстого антропологической теории обряда перехода, применявшейся ранее литературоведами к творчеству других авторов. В статье приводится анализ двух рассказов. Логика выбора материала следующая: от более «мягкого» ухода из общества («После бала») к резкому разрыву с ним («Посмертные записки старца Федора Кузьмича»). Мы пришли к выводу, что особенности художественного нарратива дают писателю возможность воплотить в литературном тексте идею безвозвратного порывания с обществом, которая, в сущности, является утопией. Это происходит потому, что толстовская идея ухода изначально органична художественному нарративу, имеющему в основе переходный обряд.
Поздний толстой, поэтика малой прозы толстого, лиминальность, русская литература в 1900-е гг, уход как акция в литературе
Короткий адрес: https://sciup.org/14914718
IDR: 14914718 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00018
Текст научной статьи "…духовно извергнуть из себя культуру и внешне от нее освободиться": инвариант ухода в последних рассказах Толстого
Исследователи не раз отмечали, что толстовский герой, вступая в конфликт с внешним миром, должен выбирать: смириться с ним или отвергнуть его. Данное замечание важно для понимания темы ухода в поздней прозе писателя. Действительно, мечущиеся толстовские герои часто или принимают этот мир, или вынуждены его покинуть. В поздней прозе герои Толстого практически всегда выбирают разные варианты ухода. Б.М. Эйхенбаум отмечает, что тема ухода появляется именно в поздней прозе: «...среди старческих произведений Толстого несколько вещей, написанных на тему, прежде отсутствовавшую и появившуюся в связи с его новой позицией <...> это тема ухода от людей, отъединения от общества» [Эйхенбаум 2009, 732]. Как отмечает исследователь, эта тема имела предпосылки в мировоззренческих исканиях Толстого. Эйхенбаум пишет о том, что в данной формуле выражен основополагающий принцип толстовских установок последних лет, т.е. желание оставить этот мир, порвать связи, которые мешают собственной свободе.
М.Н. Виролайнен рассматривает уход как особую акцию, свойственную русской культуре и наделенную особой семантикой. В разных вариациях уход может быть изначально рассчитан на возвращение с триумфом: обретение через утрату или же уход навсегда. В качестве примеров ухода приводятся как реальные исторические лица (Иван Грозный, Лев Толстой), так и литературные персонажи (Фома Опискин, старший Верховенский). Изначально уход преследует целью потерю социальной идентичности: «Уход <.. > сопровождается полной утратой прежнего положения, равной утрате самотождественности» [Виролайнен 2003, 503].
Статья К.А. Кедрова «“Уход” и “воскресение” героев Толстого» является одной из первых, где рассматривается ситуация ухода в творчестве писателя. Кедров замечает, что у Толстого «есть немало героев, которые в момент прозрения тайно или явно уходят из привычного, обжитого мира. Это мог быть царь, внезапно прозревший и тайком покидающий роскошный дворец, чтобы уйти в неизвестность (“Посмертные записки старца Федора Кузмича”, “Будда”), или блестящий молодой офицер Касатский (“Отец Сергий”), или преуспевающий помещик (“Записки сумашедше-го”)» [Кедров 1978, 256]. Кедров выделяет два типа «уходящего» героя в русской литературе: во-первых, «пророческий уход» - например, пушкинские «Пророк» и «Странник», когда герой уходит от людей, потому что его проповеди никто не внял; во-вторых, «страннический уход», когда герой уходит не столько от людей, сколько «в люди». Герой здесь близок христианскому юродивому, он уходит не для проповеди, а чтобы странствовать, обучаться народной мудрости, искать Бога в себе. По мнению Кедрова, у Толстого последовательно нашли воплощение оба типа: сначала пророческий, затем страннический: «Прежде чем прийти к своему страннику Сергию и страннику Нехлюдову, Толстой, как и Пушкин, несомненно, прошел через стадию пророческого восторга. Этот восторг иллюзорного тотального всеведения и прозрения пережили едва ли не все герои Толстого» [Кедров 1978, 258].
В самом деле, дифференциация типов ухода необходима для обращения к этому жесту в русской литературе и к Толстому, в частности. Однако сложно согласиться с тем, что герой позднего Толстого идет навстречу людям. Скорее, эволюцию ухода толстовского героя можно описать так: сначала уход в люди, затем уход от людей. Вызывают сомнения и мысли о так называемом «прозрении» и «воскресении» толстовского героя. Кедров считает, что герой-«странник» (отец Сергий, Федор Кузмич или герой «Записок сумашедшего») - это человек преображенный и воскресший, практически ставший праведником, даже больше: по логике статьи -почти святым. Точка зрения не новая, но, на наш взгляд, ошибочная, что мы попытаемся доказать [Вичкитова 2014].
Ситуация ухода связана с переходом из одного состояния в другое, в антропологии и фольклоре она коррелирует с обрядом перехода в первобытных обществах. Арнольд ван Геннеп считает, что данные обряды являются неотъемлемой частью жизни цивилизованного человека, т.к. каждый человек независимо от рефлексии на протяжении жизни постоянно совершает действия, подобные обряду перехода: «Самый факт жизни делает неизбежными последовательные переходы из одной среды в другую, от одного общественного положения к другому. Поэтому человек в своей жизни последовательно проходит некие этапы, и окончание одного этапа и начало другого образуют системы единого порядка. Таковыми являются: рождение, достижение социальной зрелости, брак, отцовство, повышение общественного положения, профессиональная специализация, смерть» [Геннеп 1999, 15]. Те. обряды перехода не исчезли с развитием и изменением социальных формаций, но упростились и стали менее заметными. В переходных обрядах Геннеп выделял три стадии: прелиминарная (отделе - ние), лиминарная (промежуточное положение), постлиминарная (включение в новую структуру) [Геннеп 1999, 21]. С каждой из этих стадий связан определенный ритуал, по окончании перехода достигается конечная цель - обретение нового статуса.
Виктор Тэрнер заостряет свое внимание на срединной стадии перехода - лиминальности (пороговое™), те. таком состоянии, когда индивид уже избавился от признаков прежнего статуса, но еще не приобрел черт нового. Это временная потеря определяющих индивида признаков, таких как этничность, социальное положение, возраст, гендер [Тэрнер 1983,169].
В.И. Тюпа в книге «Анализ художественного текста», опираясь на антропологические исследования, в том числе ссылаясь на Геннепа и Тернера, предпринимает попытку обозначить базовую схему фабулы художественного текста. Он включает в универсальную фабулу следующие этапы «горизонтального» временного развития: фаза ухода, фаза символической смерти, фаза символического пребывания в стране мертвых, фаза возвращения. При этом исследователь замечает в теории и демонстрирует на примерах анализа конкретных текстов, что не все элементы могут присутствовать в том или ином тексте, а также отмечает авторскую свободу в формировании сюжета - те. расположении эпизодов (элементов фабулы) по ходу повествования [Тюпа 2008, 36-41].
В упомянутой работе Виролайнен пишет, что ситуация ухода в русской словесности актуализируется на уровне не только буквального ухода, но и символическом. «Для XIX века вообще можно говорить о мифологеме “ухода”, теснейше связанной с архетипом утраты как обретения. Остановимся на тех ее проявлениях, которые связаны <...> с писательством как таковым и могут быть обозначены как “уход из речи”» [Виролайнен 2003, 448]. Уход из речи характерен для русской литературы в самых разных формах: разрыв с творчеством (Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой), переход к писательству на другом языке (В.В. Набоков) или постоянная рефлексия по поводу молчания (например, Ф.И. Тютчев и О.Э. Мандельштам). Молчание и умолчание могут играть структурообразующую роль в литературном тексте. Виролайнен показывает, как работает прием умолчания в лирике Пушкина: поэт использует его, чтобы обозначить границу невыразимого в слове [Виролайнен 2003, 437-445].
Именно невыразимость мысли в слове чрезвычайно занимает позднего Толстого. Об этом позволяет говорить поэтика последних текстов и постоянная рефлексия в письмах и дневниках. Попытки уйти или замолчать начались гораздо раньше: известно, что Толстой неоднократно пытался прекратить заниматься литературой, но попытки были безуспешными. С определенной точки зрения, последний уход писателя из Ясной Поляны можно приравнять к уходу из слова, т.к. для Толстого, постоянно ведущего дневники, дабы осознавать свое существование, «остранять» его словом, уход из речи, по сути, есть уход из жизни.
Наметим основную повторяющуюся сюжетную схему последних толстовских текстов. Сначала повествование представляет нам героя, вписан- ного в те или иные социальные системы. Позже происходит нечто, шокирующее героя, что подталкивает его уйти. Происходит разрыв интерсубъективных связей: уход из семьи, отказ от социального статуса, религиозный кризис, кризис мировоззрения. Символический или буквальный уход не всегда происходит по воле героя, иногда он сам долгое время (или вообще никогда) не может отрефлексировать случившееся. Однако, вопреки схеме переходного обряда, которая должна завершаться обретением нового статуса, у Толстого пороговая фаза становится для героя конечной точкой пути, а часто завершением самого повествования. Важно, что только фикциональный текст позволяет совершить такой уход, т.к., по сути, он [уход] утопичен.
Лиминальность для толстовского героя не то же самое, что для героя фольклорного и, тем более, мифологического, для него пороговое (бес-признаковое) состояние как потеря всех социальных опознавательных знаков - часто финальная точка пути. Спонтанное желание нарушить отношения с упорядоченным миром появляется как реакция на обнаруженную внезапно несправедливость, нелогичность устройства общества. Именно поэтому версия Кедрова кажется нам неверной: уход толстовского героя далек от народнических «вылазок», это не вера в «крестьянскую мудрость» (хотя на определенном этапе самому Толстому был такой взгляд близок). Даже если герои Толстого примыкают иногда к общности людей, ее важное отличие заключается в том, что они (странники, юродивые, нищие) не образуют общества. Вместе они разнородны, и между ними отсутствуют социальные связи или конвенции. Впервые «пороговая» ситуация встречается у Толстого еще в «Записках сумашедшего» (1884), можно сказать, что этот рассказ является прототипической схемой для последующих произведений, касающихся ухода [Вичкитова 2014]. Другой пример -рассказ «Отец Сергий» (1898), где герой несколько раз совершает уход. Сначала Сергей Касатский уходит из светского общества в монастырь, однако этот уход является фиктивным, т.к. герой остается по-прежнему в социуме: Касатский делает духовную карьеру, вновь оказываясь вписанным в социальную иерархию. Повторная попытка уйти снова возвращает его в общество. Затем в результате кризисной ситуации герой становится странником и сливается с асоциальными элементами, юродивыми странниками - людьми, которые вычеркнуты из структуры общества, как и он сам. Пороговая ситуация актуализируется в следующих поздних рассказах Л.Н. Толстого 1903-1910-х гг: «После бала» (1903), «Алеша Горшок» (1905), «Посмертные записки старца Федора Кузмича» (1905), «Корней Васильев» (1905), «Зачло?» (1906), «Свободныйчеловек» (условно: 1908), «Нечаянно» (1910) и др.
Одна из причин ухода - это искушение властью, которое, по Толстому, исчезает только тогда, когда человек остается в одиночестве: двое - уже повод для подчинения одного другому. Поэтому даже община не подходит для свободной и честной жизни. Природа власти рассматривалась Толстым всесторонне и всегда получала негативные оценки. Власть интере- совала писателя не просто как формальная социальная иерархия, а, скорее, как властный дискурс у Фуко: отношения между людьми. Так он вступает в конфликт со всяким властным дискурсом: религиозным, правовым, государственным, историческим, научным, педагогическим, социальным и даже литературным. Сергей Булгаков очень точно охарактеризовал эту толстовскую установку: «Культура есть зло <...>. И потому надо духовно извергнуть из себя культуру, и внешне от нее освободиться» [Булгаков 1978, 6]. Толстой провозглашает полную и абсолютную свободу человека от символических институций (политических, идеологических, семейных и пр.), когда функцию сдерживающего и контролирующего начала выполняет только сам человек. Это утопичное освобождение от «пут» культуры нашло отражение в последних текстах.
После бала: герой «ни то, ни се»
Триггерной ситуацией, побуждающей к уходу в поздних рассказах, часто служит сцена, которая шокирует героя. Как правило, эта сцена связана с насилием. «После бала» (1903) «Посмертные записки старца Федора Кузмича» (1905), «За что?» (1906) и «Божеское и человеческое» (1905), «Корней Васильев» (1905) - во всех упомянутых текстах кульминационным событием в жизни героя становится наблюдение телесного наказания, казни или избиения. Встреча лицом к лицу с жестокостью является точкой невозврата для героя к его прежней жизни, и это событие толкает героя к уходу.
Обратимся к рассказу «После бала», в котором, как указывает А. Жолковский, Толстой «разработал... собственную композиционную формулу, сопоставляющую состояния героя до и после лицезрения тела» [Жолковский 1994, 88]. В основе сюжетной организации рассказа лежит прием ретроспекции: о положении героя «после» мы узнаём в самом начале повествования, и затем рассказывается история того, что было до этого.
В рассказе проблематизируется процесс получения знания, «обсуждается вопрос <...> о том, каким образом человек может понять различие между добром и злом - благодаря среде или случаю» [Тамарченко 2001, 337]. С такого рассуждения и начинается рассказ: «Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае» [Толстой 1928-1964, XXXIV, 116]. Именно случайность предрешает судьбу героя. При этом шокирующий опыт столкновения с реальностью не способствует мгновенному осознанию истины. Полученное эмоциональное потрясение еще не доступно верификации, и, тем более, осознанию, но оно ощущается на физическом уровне: «на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска <...> мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища» [Толстой 1928-1964, XXXIV, 124]. В отличие от прежней художественной манеры Толстого, здесь при описании кризиса отсутствует подробный психологический анализ, его сменяет лаконичная фиксация смены одного эмоционального состояния другим, причем в фокусе больше соматические ощущения (повторяющийся мотив тошноты как реакции на увиденное; звучащая в голове героя музыка, исполняемая во время казни, бессонницы и т.п.). Герой не в состоянии пережить идентификации с наказываемым татарином (объектом наблюдения), он испытывает сильнейшее отвращение, у него появляются рвотные позывы, не может заставить себя смириться с тем, что «...страшное, приближающееся <...> что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, ... это было тело человека» [Толстой 1928-1964, XXXIV, 123]. Эта своеобразная психологическая находка Толстого - сопротивление идентификации с покалеченным или мертвым телом как чем-то родственным по природе.
Итак, сначала герой счастлив и доволен своей жизнью до такой степени, что готов «обнять весь мир». Однако после встречи с «жутким» (3. Фрейд) границы его мира размыкаются. Сначала, из-за возникшего отторжения, Иван Васильевич не признает увиденное злом: «Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было - дурное дело? Ничуть» [Толстой 1928-1964, XXXIV, 124]. Столкновение представления о мире и реальной действительности привело к внутреннему конфликту, но новое знание не уложилось в сознании героя. Он не смог больше уйти в себя, зная, что есть иная правда, но и принять мир таким, какой он есть, был не в состоянии. Снизить психологическое напряжение ему удается, только напившись: «сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян» [Толстой 1928-1964, XXXIV, 124]. Заметим, что герои Толстого часто напиваются, чтобы перейти символический порог (казак Данило Лифанов в рассказе «За что?», Корней Васильев в одноименном произведении, Александр в «Посмертных записках...», Емельян в рассказе «Ходынка» и др.).
Итак, герой не нашел объяснения жуткой картине, которой был свидетелем, и зрелище замещается в сознании мыслью о некоем, якобы существующем, эзотерическом знании, оправдывающим его: «“Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал”, - думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался - и потом не мог узнать этого» [Толстой 1928-1964, XXXIV, 124]. Вытесненный опыт возвращается иногда к Ивану Васильевичу в форме его проговаривания, чем, видимо, достигается определенный терапевтический эффект. Рассказчик поясняет в начале произведения, что никто не просил Ивана Васильевича рассказывать историю его молодости и не спрашивал о ней. Герой сам внезапно начинает говорить, причем замечается, что такая привычка вообще была у героя, иногда он даже забывал, что послужило причиной его рассказа: «... у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которо- му он рассказывал, увлекаясь рассказом...» [Толстой 1928-1964, XXXIV, 116]. Так создается ощущение невладения героем собственной речью и даже повод для некоторого недоверия читателя.
Для Толстого слово и шире - текст - это нечто большее, чем просто озвучивание мыслей. Ведение дневников, писание статей и, конечно же, творчество были деятельностью по конституированию действительности. (Есть даже попытки объяснить эту особенность Толстого психическим расстройством, так, психиатр Евлахов, рассматривая писателя как эпилептика, объясняет его манеру ведения дневников и «отстраненного» письма типичной параноидальной тягой эпилептической личности к упорядоченности и детализации) [Евлахов 1995]. Незаписанное для Толстого приравнивается непережитому вспомним знаменитое дневниковое «е.б.ж», «жив» или «пропустил два дня»: «пропустил», словно бы и не было их. Даже размышления о пользе молчания и решения замолчать записываются Толстым в дневнике, неоднократные литературные «уходы», попытки информационной самоблокады - тоже свидетельства пантекстуального сознания Толстого. При чтении толстовских дневников складывается ощущение, что он писал, потому что так мог ощущать свое присутствие в этом мире. Показательно в этом смысле описание последних часов жизни Толстого, когда в предсмертной агонии он «писал» пальцем по одеялу, а потом просил прочесть вслух. «И все хотел что-то диктовать, высказать, и просил прочесть то, что он уже продиктовал... а этого не было... Ничего не было записано, ибо ничего не было сказано. А он волновался, требовал непременно, чтобы прочитали его мысли. А мысли эти были лишь его воображением. И чтобы успокоить его <.. > прочли что-то из Канта, Марка Аврелия, Шопенгауэра, Шиллера. И он успокоился, поверив, что это его» [Цит. по: Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Д.А. Шаховской) 2000, 559]
Если Федор Кузмич из «Посмертных записок...» записывает свои мысли, обращаясь к выдуманному читателю, то Иван Васильевич проговаривает свой опыт вслух. Оба произведения связаны интенцией героя-рассказчика: повествование о жизненном опыте, который может быть поучительным для других, осуществляется от первого лица. В конце концов, герой остается навсегда в пороговом состоянии, в положении «между». В рассказе «После бала» это «между» не является еще радикальным уходом из общества, но уже представляет собой некую автономию в его пределах.
Он отказывается от любви: «любовь с этого дня пошла на убыль», от военной карьеры: «не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился (курсив мой - А.В.)» [Толстой 1928-1964, XXXIV, 125]. Потеря идентичности произошла на уровне гендерном (герой так и остается в состоянии андрогинном), профессиональном и социальном. Положение героя обозначается как никто, нигде, никуда (не годился) - «ни то, ни се».
«Посмертные записки старца Федора Кузмича»: повествование из ниоткуда
Рассказ «Посмертные записки старца Федора Кузмича» представляет собой случай более радикального ухода. В основу сюжета легла легенда о старце Федоре Кузмиче, сибирском страннике, которого после смерти признали святым. Ходили слухи о том, что под именем Федора скрывается не кто иной, как император России, Александр I. Толстой тщательно изучал все известные факты с целью подтвердить или опровергнуть слухи. Эти сведения лаконично изложены в первой части рассказа, но при художественном оформлении документальность сюжета отошла на второй план.
В рассказе Толстой создает сложную систему двойничества. Двойни-чество в литературном тексте может иметь богатый спектр воплощений, но в его логике есть два принципа: психологическое сходство или буквальное [Михалева 2006]. Толстой использует обе валентности данного приема. Двойник появляется как возможность для героя встать на позицию наблюдающего за самим собой. Первый двойник возникает в самом начале вместе с фигурой преданного помощника Александра - Аракчеева. Амбивалентное отношение к своему подданному объясняется тем, что Аракчеев является, по сути, двойником героя, его alter ego, «кривым зеркалом». Александр признается, что, с одной стороны, он любит Аракчеева «я в последнее время если любил кого-то из мужчин, то только его», но тут же герой правит себя «хотя и неприлично употреблять это слово “любил”, относя его к этому извергу» [Толстой 1928-1964, XXXVI, 61]. В Аракчееве герой узнает и ненавидит себя.
Своей кульминации прием рассредоточения Я достигает в сцене наказания солдата. Солдат, чью экзекуцию наблюдает Александр - его физический двойник, секли солдата, который был поразительно похож на царя, в полку его даже прозвали «Александром II». Такое явление вполне «реалистично»: два похожих человека, но в тексте из этого обычного явления вырастает сложный смысл.
С одной стороны, герой словно бы смотрит на себя в зеркало: «человек этот был я, был мой двойник. Тот же рост, та же сутуловатая спина, та же лысая голова, те же баки, без усов, те же скулы, тот же рот и те же голубые глаза ...» [Толстой 1928-1964, XXXVI, 62]. С другой - есть разительное отличие: «.. .рот не улыбающийся, а раскрывающийся и искривляющийся от вскрикиваний при ударах, и глаза не умильные, ласкающие, а страшно выпяченные и то закрывающиеся, то открывающиеся» [Толстой 1928-1964, XXXVI, 62]. Героя поражает неясное ему чувство: «что-то во мне делается» [Толстой 192 8-1964, XXXVI, 62], но затем узнанный царь вынужден бежать домой. Психологическое состояние героя передается через несобственно-прямую речь. Парадокс в том, что Александра не мучает совесть, он не может вызвать в себе сочувствие к своему двойнику. «Главное чувство мое было то, что мне надо было сочувствовать тому, что делалось над этим двойником моим. Если не сочувствовать, то признавать, что де- лается то, что должно, - и я чувствовал, что я не мог» [Толстой 1928-1964, XXXVI, 62]. Это ощущение героя дважды подчеркнуто в тексте. Даже после решения о побеге он повторяет: «Но, странное дело, мне не жалко было его...» [Толстой 1928-1964, XXXVI, 63]. Учитывая идентификацию героя с солдатом, становится ясно, что Александру не жалко, отнюдь, не замученного солдата, ему не жалко себя. По сути, он наблюдает не чью-то, а свою собственную казнь. Он явно хочет оказаться на месте солдата, эта мысль несколько раз повторяется во внутреннем монологе героя. Но казнь оказывается ненастоящей, Александр наблюдает за собой, слышит удары шпицрутенов, крики страдания, барабанный бой, но он не чувствует боли. Эта нехватка боли, при усиливающемся отвращении к себе и своему телу все больше нарастает в сознании героя, пока не приводит его к мысли о побеге: «все бросить, уйти, исчезнуть. <...>Чувство это охватило меня, я боролся с ним, я то признавал, что это так и должно быть, что это печальная необходимость, то признавал, что мне надо было быть на месте этого несчастного» [Толстой 1928-1964, XXXVI, 63].
Вернувшись домой, Александр уже принимает доклады, пьет чай, беседует с женой, т.е. ведет самый обычный образ жизни. Но во сне Александр, встретившись со своим двойником лицом к лицу, уже не может дать точный ответ, кого же били на плацу. Вся виденная утром картина снова проносится перед глазами героя: «Едва ли я проспал пять минут, как толчок во всем теле разбудил меня, и я услыхал барабанную дробь, флейту, звуки ударов, вскрикивания Струменского и увидал его или себя, - я сам не знал, он ли был я, или я был я, - увидал его страдающее лицо и безнадежные подергивания и хмурые лица солдат и офицеров» [Толстой 1928-1964, XXXVI, 62]. Толчок «во всем теле» разбудил героя, слившегося с двойником.
В конце концов, мучительное ощущение заставило Александра похоронить солдата, выдав его тело за свое. Таким образом, герой хоронит не солдата, а себя прежнего. Герой оставляет не только семью, положение, но символически расстается с собственным телом. Похоронив себя, герой переступает порог между жизнью и смертью. Он оказывается за границей этого мира. Весь дальнейший текст, описывающий путь героя - история, происходящая в пороговом пространстве.
Итак, герой расщепляется на несколько инстанций. Во-первых, казнь, которую наблюдает главный герой, назначена - de jure и de facto - им самим. Во-вторых, в роли наказываемого выступает также сам герой в лице своего двойника. В-третьих, наблюдателем за всем процессом казни выступает он же. Важно, что рассказчик отмечает эту деталь, ведь царь является на казнь нелегально, тайно, и поэтому переодевание в штатское выглядит, как своего рода маскировка. Но есть и четвертая роль героя - это повествователь, который записывает случившееся, старец Федор Кузмич. Подобным приемом Толстому удается создать многостороннее повествование, лишенное из-за множества точек зрения однозначности: можно сказать, что Толстой реализует в тексте параллельный монтаж с нескольких позиций, причем некоторые из них отдалены временным промежутком, а кадры идут в обратном порядке. Но эффектнее этот прием проявляет себя на уровне смысла: кто кого может судить в этом тексте и кто о ком объективно повествовать, если в этом тексте все позиции, кроме читающего, занимает один и тот же человек?
Рассказ имеет рамочную композицию: непосредственно «Посмертным запискам ...» предшествует краткий пересказ истории Федора Кузмича, с точки зрения «объективных» фактов. Затем следует «подлинная» история: посмертные записки Федора Кузмича, которые носят исповедальный характер по содержанию и представляют собой дневниковую запись по форме. От дневниковой формы в тексте точная датировка каждой записи, а также имитация перформативного акта его писания: «я пишу дневник -как я пишу дневник». Герой время от времени прерывает повествование, чтобы устранить препятствия для спокойного продолжения записи. Например: « и я, несчастный, дорожил тем же... Кто-то стучится, произнося молитву: “Во имя Отца и Сына”. Я сказал: “Аминь”. Уберу писание, пойду отопру. И если Бог велит, буду продолжать завтра» [Толстой 1928-1964, XXXVI, 68]. Этот прием создает эффект настоящего времени. Мы узнаем о бытовых деталях, которые сопровождают писания Федора Кузмича: «Свеча догорает. И надо еще нащепать лучины. А топор туп и наточить нечем, да и не умею» [Толстой 1928-1964, XXXVI, 72].Читатель становится, как бы наблюдателем этого процесса, даже соучастником. Об этом свидетельствуют возникающие по ходу повествования вопросы, а также апеллирование к общему человеческому опыту (детские впечатления).
Несмотря на то, что рассказ остался незаконченным и повествование буквально обрывается на полуслове, в нем Толстому удается продемонстрировать ряд оригинальных приемов. Незаконченность текста придает ему особую значимость: записки, которые ведутся из за-порогового топоса, не могут быть закончены. Нельзя умереть, оставшись жить, и продолжать фиксировать свое состояние.
* * *
Таким образом, поздние толстовские тексты объединяются общим инвариантом ухода, который находит разные воплощения в их поэтике. В данном случае мы обратились к двум рассказам, которые представляют два разных способа «ухода»: от более сдержанного, когда герой, формально оставаясь в социуме, выбирает пассивное поведение, состояние неучастия («После бала»), до более радикального - полной социальной изоляции («Посмертные записки...»).
Инвариант ухода, зародившись в личной философии и психологии Толстого, порождает оригинальные фикциональные ходы, которые нарушают линейную фабулу, в результате чего герой словно бы «застревает» на пороге, его путь всегда остается незавершенным, но, видимо, именно это и было удовлетворительно для позднего Толстого. Промежуточная, ли-

минальная топика удобна для писателя, поскольку способна воплотить его радикальную идею опрощения, сопротивления культуре и освобождения человека от давления цивилизации: эмансипированные герои поздних толстовских текстов представляют собой разные модели попыток освобождения, которые предпринимают после сильнейшего потрясения, подобного «арзамасскому ужасу», пережитому писателем в свое время. При этом доказательством лиминального ядра в поздних текстах служат не только законченные тексты, в которых герой остается в пороговом состоянии, но и незаконченные, т.к. они свидетельствуют, в том числе, о проблематичности своего завершения. Так художественная литература, с которой Толстой неоднократно порывал и которая сама является частью культуры, позволила воплотить его утопические мысли об абсолютной свободе. Возможно, это происходит именно потому, что толстовская идея ухода изначально органична художественному нарративу, имеющему в основе переходный обряд.
Список литературы "…духовно извергнуть из себя культуру и внешне от нее освободиться": инвариант ухода в последних рассказах Толстого
- Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Д.А. Шаховской). Символика ухода//Л.Н. Толстой: pro et contra. СПб., 2000. С. 556-563.
- Благой Д.Д. Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой//Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней. Т. 1. М., 1979. С. 319-351.
- Виролайнен М.Н. Речь и молчание. Сюжеты и мифы русской словесности. СПб., 2003.
- Вичкитова А.М. Переживание собственной смертности или жить как жуть: рассказ Л.Н. Толстого «Записки сумасшедшего»//Гуманитарные исследования в интерактивном пространстве XXI века: материалы конференции. СПб., 2014. С. 52-56.
- Геннеп А. ван. Обряды перехода: систематическое изучение обрядов. М., 1999.
- Евлахов А.М. Конституциональные особенности психики Л. Н. Толстого. М., 1995.
- Жолковский А.К. Морфология и исторические корни рассказа Толстого «После бала»//Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994. С. 87-103.
- Кедров К.А. «Уход» и «воскресение» героев Толстого//В мире Толстого. М., 1978. С. 248-274.
- Михалева А.А. Герой-двойник и структура произведения (Э.Т. Гофман и Ф.М. Достоевский): дис.... к. филол. н.: 10.01.08. М., 2006.
- Тамарченко Н.Д. Лев Толстой//Русская литература рубежа веков (1890-е -начало 1920-х годов). Кн. 1. М., 2001. С. 336-390.
- Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М., 2008.
- Эйхенбаум Б.М. О противоречиях Толстого//Лев Толстой. Исследования. Статьи. СПб, 2009. С. 711-734.