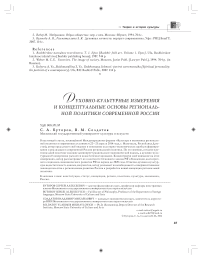Духовно-культурные измерения и концептуальные основы региональной политики современной России
Автор: Буторов Сергей Алексеевич, Солдатов Владимир Михайлович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Модель устойчивого развития секция
Статья в выпуске: 2 (58), 2014 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье, посвящённой Международному форуму «Культура и экономика региональной политики в современных условиях» (22-23 апреля 2014 года, г. Махачкала, Республика Дагестан), автор предлагают своё видение и понимание культурно-экономических проблем формирования и реализации в современной России региональной политики. По его мнению, сегодня в региональной политике излишне доминирует рационально-экономический подход, а духовно-культурным её измерениям уделяется недостаточное внимание. Концентрируя своё внимание на этих измерениях, автор рассматривает их в контексте Основного закона РФ и Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. Отмечая духовно-культурную недостаточность данных документов, автор указывает на необходимость совершенствования за ко но да тель ст ва о ре гио наль ном раз ви тии Рос сии и раз ра бот ки но вой кон цеп ции ре гио наль ной политики.
Конституция, статус, концепция, регион, политика, культура, экономика
Короткий адрес: https://sciup.org/14489723
IDR: 14489723 | УДК: 008:351.85
Текст научной статьи Духовно-культурные измерения и концептуальные основы региональной политики современной России
Данная статья автора является продолжением его предыдущих статей [1; 8], посвящённых раскрытию духовно-интегральной идеи культуры и культурной политики в ХХI веке. Проецируя эту идею на тематику Международного форума «Культура и экономика региональной политики в современных условиях» (22—23 апреля 2014 года, г. Махачкала, Республика Дагестан), в настоящей статье автор предлагают своё видение и понимание духовно-культурных измерений и концептуальных основ региональной политики современной России. По нашему мнению, уточнение этих измерений и основ имеет принципиальное значение для практического решения культурно-экономических проблем формирования и реализации в современной России региональной политики.
Как известно из отечественных и зарубежных публикаций [3; 7], в историческом контексте региональная политика получила широкое распространение во второй половине ХХ века, когда теоретически и практически активизировался процесс становления и развития государственного регулирования комплексного развития территории в различных странах. В настоящее время не- обходимость формирования и реализации новой региональной политики в Российской Федерации обусловлена кардинальным изменением в 90-е годы ХХ века её государственно-политического устройства и идеологии социально-экономического развития страны, что нашло отражение в новом Основном законе Российской Федерации 1993 года [4].
Первая концептуальная попытка определиться со смыслом и содержанием региональной политики в новой России была предпринята при разработке документа под названием «Основные положения региональной политики в Российской Федерации» (далее — «Основы 1996»), которые были утверждены Указом Президента Российской Федерации № 803 от 3 июня 1996 года [10]. Здесь было предложено понимать под региональной политикой в Российской Федерации систему «целей и задач органов государственной власти по управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны, а также механизм их реализации», а под регионом «часть территории Российской Федерации, обладающую общностью природных, социально-экономических, национально-куль- турных и иных условий».
В «Основах 1996» было установлено, что в административно-географическом отношении регион может совпадать с границами территории субъекта Российской Федерации либо объединять территории нескольких субъектов Российской Федерации. Сформулированные здесь основные цели региональной политики в Российской Федерации, отражали:
-
• обеспечение основ федерализма и единых минимальных социальных стандартов и равной социальной защиты граждан;
-
• создание единого экономического пространства и выравнивание условий социально-экономического развития регионов;
-
• комплексную экологическую защиту регионов и приоритетное развитие регионов, имеющих особое стратегическое значение;
-
• максимальное использование природно-климатических особенностей регионов, становление и обеспечение гарантий местного самоуправления.
Оценивая данные принципиальные положения в «Основах 1996» с позиций концептуального замысла настоящей статьи, необходимо отметить следующие моменты. Во-первых, приведённое в самом их начале определение «региональной политики» страдает явным поверхностным рационализмом и утилитаризмом, сводя её системный смысл и содержание к формальному определению управленческих целей и задач органов государственной власти. Такое доминирование государственной власти как единственного и монопольного субъекта её формирования и реализации вряд ли можно признать правильным в свете демократической сущности российского государства, зафиксированной в Статье 1 Основного закона Российской Федерации.
Во-вторых, между исходными определениями «региональной политики» и «региона», а также сформулированными здесь целями региональной политики в «Основах 1996» имеются существенные понятийные противоречия и смысловая рассогласован- ность. Например, если в определении «региональной политики» обозначены лишь политические, экономические и социальные составляющие развития регионов страны, то в определении «региона» речь уже идёт о природных, социально-экономических, национально-культурных и иных условиях их развития. В сформулированных целях дополнительно появляются институциональные, экологические особенности развития регионов. Всё это в конечном счёте говорит о понятийных и смысловых противоречиях в «Основах 1996».
В-третьих, изложенное в «Основах 1996» видение основных направлений (объектов) региональной политики Российской Федерации плохо согласуется с важнейшими положениями Основ конституционного строя Российской Федерации (Статьи 1—16 Конституции России). Действительно, в Статье 2 Конституции России зафиксировано, что «человек, его права и свободы — высшая ценность» российского социального государства. Однако эту высшую конституционную ценность нашего государства мы не найдём в явном виде ни в одном из направлений «Основ 1996», которые представлены в них как «развитие федеративных отношений и роль местного самоуправления», региональная «экономическая политика», «политика в социальной сфере», «политика в сфере обеспечения экологической безопасности», «региональные аспекты национально-этнических отношений».
Подробный и детальный анализ подобных смысловых противоречий и понятийных недоразумений в «Основах 1996» не входит в задачи нашей статьи. Приведёнными выше примерами мы хотели лишь продемонстрировать неудовлетворительную ситуацию в законодательном и концептуальном осмыслении и понимании объектов (основных направлений) и субъектов региональной политики современной России. И что самое главное — показать духовно-культурную недостаточность представлений об объектах, субъектах, субъект-объектных и субъ- ект-субъектных отношениях в региональном развитии в нашей стране. Как будет показано ниже, это касается не только «Основ 1996», но и современных долгосрочных концепций и стратегий развития России в целом, её федеральных округов, регионов и субъектов Российской Федерации.
В содержании таких концепций и стратегий зачастую либо полностью отсутствуют духовно-культурные измерения, либо их духовный смысл и культурное содержание искажается до неузнаваемости. Так, ещё раз возвращаясь к «Основам 1996», мы увидим, что в них «духовная сфера» регионального развития оказалась наряду с «государственно-правовой сферой» в разделе «региональные аспекты национально-этнических отношений». Что это означает в концептуальном смысле? По всей видимости, то, что национально-этнические отношения в регионах и субъектах России обладают статусом «духовности», а развитие федеративных отношений, местного самоуправления, региональной экономической и социальной политики, а также экологическая безопасность территорий не нуждаются в духовнокультурных измерениях.
Чтобы не показаться излишне голословным в своих заявлениях, обратимся к действующему правительственному документу — «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (далее — «Концепция 2020»), утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17 ноября 2008 года [5]. Здесь имеется специальный раздел — «Региональное развитие», который в концептуальном плане существенно повторяет идеи и положения «Основ 1996». Это означает, что за период более чем 17 лет нормативно-правовые и концептуальные основы региональной политики практически не изменились, а духовно-культурного смысла и содержания в них не только не прибавилось, но и значительно уменьшилось.
Это не значит, что за период 1996—2014 годов какие-либо попытки по совершенствованию региональной политики в России не предпринимались. Конечно, предпринимались, но, к сожалению, эти попытки пока нельзя назвать системными в плане одухотворения регионального развития и окультуривания региональной политики. К тому же, отдельные попытки внесения глубинного духовно-культурного смысла и содержания в региональное развитие нашей страны пока не находят должного понимания и одобрения у отечественных законодателей федерального уровня и высших органов государственной власти. По их мнению, «духовно-культурный» регионализм в политической жизни России нельзя внести с помощью разработки и принятия законов и иных нормативно-правовых документов, поскольку они не поддаются описанию на языке юридических терминов.
Однако к подобным заявлениям представителей законодательной и исполнительной власти в России вряд ли следует относиться слишком серьёзно, поскольку отрицание и игнорирование ими духовно-культурных измерений региональной политики является скорее их политическим и идеоло- гическим лукавством, а не глубинным внутренним убеждением. Об этом достаточно красноречиво говорит то факт, что в «Концепции 2020» имеется большой раздел — «Развитие человеческого потенциала», а в нём один из подразделов называется «Развитие культуры и средств массовой информации». И это развитие культуры связывается в данном разделе практически со всеми сторонами развития человека и общества, а в более широком плане и с региональным развитием России.
Другое дело, каким образом обеспечивается в «Концепции 2020» смысловая и понятийная увязка духовно-культурных измерений развития человека и общества в России с другими составляющими их развития, в том числе в регионах и субъектах Российской Федерации. В вопросах взаимной увязки отдельных положений «Концепции 2020», включая увязку развития культуры с региональным развитием, действительно имеется много нерешённых проблем и смысловых недоразумений. Давайте далее попробуем вместе разобраться в некоторых из них, имея в виду тему настоящей статьи и фундаментальную проблему одухотворения и окультуривания региональной политики российского государства в современных условиях. Для этого нам необходимо более подробно вникнуть в духовно-культурный смысл и содержание отдельных разделов и подразделов «Концепции 2020».
Непосредственным объектом нашего пристального внимания и сопоставительного анализа в «Концепции 2020» будут раздел «Региональное развитие» и подраздел, связанный с развитием культуры. Итак, анализ содержания подразделов указанного раздела — «основные принципы государственной политики регионального развития», «инновационная и социальная ориентация регионального развития», «центры регионального развития» и «совершенствование системы государственного регионального управления», показывает, что духовные измерения в них отсутствуют полностью.
Правда, здесь всё-таки присутствует слабенький «оттенок» культурного смысла и содержания в одном из направлений инновационной и социальной ориентации регионального развития.
Этот культурный «оттенок» буквально гласит следующее — «сохранение культурного многообразия, традиционного уклада жизни и занятости коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». Но здесь наблюдается духовносмысловой парадокс такого культурного направления регионального развития в «Концепции 2020» — «культурные традиции» этих малочисленных народов насчитывают много веков и даже тысячелетий. Поэтому не ясно — исходя из каких соображений и принципов, авторы и разработчики «Концепции 2020» зачислили «культурное многообразие» коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в разряд инновационной и социальной ориентации регионального развития. Инновации всё-таки подразумевают не «сохранение» культурного многообразия, а их «изменение».
Будем считать эту формулировку частным смысловым недостатком и пойдём дальше и глубже в духовно-культурном осмыслении важнейших концептуальных положений о региональном развитии. Мы не можем в своей статье оставить без внимания тот факт, что в правительственной «Концепции 2020» очень вольно понимаются «основные принципы» государственной политики регионального развития, которые без каких-либо обоснований и объяснений подменяются «основными задачами» её формирования. По всей видимости, авторам и разработчикам «Концепции 2020» неведомо различие между фундаментальными философскими (метафизическими) основаниями и мировоззренческими принципами региональной политики — с одной стороны, прагматической рациональностью целей и техническим операционализмом задач её формирования и реализации — с другой стороны.
К сожалению, надо признать, что подобная духовно-смысловая подмена фундаментальных философских категорий рационально-техническими научными терминами стала сегодня фактически нормой не только в гуманитарных научных исследованиях, но и в разработке долгосрочных концепций и стратегий развития России, в том числе и регионального развития нашей страны. Стоит ли в связи с этим удивляться тому факту, что «сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп — милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи, — дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились» [6]. Данный факт, как известно, с болью вынужден был признать Президент РФ в своём ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2012 года.
По мнению Главы российского государства? такая ситуация с дефицитом духовных скреп в России напрямую связана с подрывом духовно-нравственных позиций русской и российской культуры в 90-е годы ХХ века. В это время были отброшены все идеологические штампы прежней эпохи, но, к сожалению, тогда же были утрачены и многие нравственные ориентиры развития нашей страны. И «сегодня это проявляется в равнодушии к общественным делам часто, в готовности мириться с коррупцией, с наглым стяжательством, с проявлениями экстремизма и оскорбительного поведения. И все это порой приобретает безобразные, агрессивные, вызывающие формы, скажу больше — создаёт долгосрочные угрозы обществу, безопасности, да и целостности России» [6]. И одна из причин такой ситуации — отсутствие духовно-культурной логики в совершенствовании регионального развития.
Судите сами, в содержании той же «Концепции 2020» развитие культуры никак не связано с региональным развитием России. Как, позвольте спросить авторов и разра- ботчиков «Концепции 2020», можно принимать скоординированные решения на федеральном, региональном и местном уровнях по развитию отраслей экономики и социальной сферы, если не известны предварительно принципы и критерии формирования экономической культуры и культурно-социальной среды в российском обществе? Почему возникает проблема предоставления финансовой поддержки регионам со стороны федерального центра в целях соблюдения минимально допустимого уровня жизни людей и сокращения дифференциации в их доходах, а не решаются вопросы формирования финансовой культуры и равноправных отношений между ними?
Это фундаментальные и принципиальные вопросы регионального бытия и жизни граждан России — в отличие от утилитарного экономизма в «Концепции 2020». Из главы 1 «Основы конституционного строя России» Конституции Российской Федерации (статьи 2 и 7) совершенно очевидно, что развитие человеческого потенциала и культуры в нашей стране должны предопределять региональную политику или, как минимум, найти в региональном развитии должное культурное преломление и духовно-смысловое отражение. Именно об этом недвусмысленно говорится в самой «Концепции 2020», где следующим образом сформулирована цель государственной политики в сфере культуры — «развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом». И именно эта цель должна предопределять смысл, ценности, цели, задачи и приоритеты регионального развития России.
Здесь мы вплотную подошли к главному противоречию регионального развития современной России, а равным образом и в региональной политике нашей страны — противоречию между культурой и экономикой. Сразу же подчеркнём, что многие трудности раскрытия данного противоречия, как в научных исследованиях регионального развития, так и в реальной практике формирования и реализации региональной политики, связаны с духовнокультурной недостаточностью Основного закона Российской Федерации и нелегитимным доминированием в нашей стране либерально-рыночных механизмов и инструментов в экономической политике государства. В самом деле, в главе 1 «Основы конституционного строя России» Конституции Российской Федерации (статьи 1—16) вы не найдёте таких понятий, как «духовность», «культура» и «рынок».
Вместе с тем, в главах 2 и 3 Основного закона Российской Федерации (статьи 44, 71,) понятия «культура» и «рынок» появляются, несмотря на то, что одно из положений статьи 16 главы 1 «Основы конституционного строя» Конституции Российской Федерации буквально гласит: «Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации». Что из этого следует применительно к теме нашей статьи? По нашему мнению, принципиально важные выводы, касающиеся глубинных противоречий между культурой и экономикой в региональной политике современной России. Однако это уже отдельная и огромная тема для будущих исследований и публикаций автора настоящей статьи.
Для того чтобы закончить статью на позитивной и конструктивной ноте, мы, с учётом наших предыдущих исследований и публикаций, предлагаем кратко и сжато обозначить в первом приближении главные принципы формирования и реализации региональной политики России в ХХI веке:
-
1) принцип духовно-этимологического толкования региональной политики требу-
- ет культурного переосмысления понимания «региона» как сакрального места бытия и достойной жизни людей;
-
2) принцип духовно-мировоззренческого подхода к философскому осмыслению культурного регионализма требует его понимания в рамках универсальной системы «Космос — Человек — Общество — Природа»;
-
3) принцип духовно-гносеологического познания регионального развития предполагает преодоление в его изучении дуализма субъекта и объекта региональной политики;
-
4) принцип духовно-онтологического видения системных измерений объекта региональной политики требует интеграции её теологических, антропологических, социальных и натуралистических характеристик;
-
5) принцип духовно-практического совершенствования региональной политики направлен на развитие и реализацию культурного потенциала каждой личности и общества в целом;
-
6) принцип духовно-исторического переосмысления культурного генезиса регионализма требует правильного понимания в его содержании «естественных» и «искусственных» составляющих;
-
7) принцип духовно-культурного понимания личностных и социальных составляющих региональной политики требует их различать, не противопоставляя, и видеть при этом их управленческую специфику;
-
8) принцип духовно-политической рефлексии в культурном регионализме означает принципиально новый подход к региональной политике как к становлению организационной демократии в России.
Список литературы Духовно-культурные измерения и концептуальные основы региональной политики современной России
- Абдулатипов Р. Г., Солдатов В. М. Региональная культурная политика: исходные предпосылки создания новой дагестанской модели//Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 3 (53). С. 6-12.
- Бердяев Н. А. Философия свободного духа. Москва: Республика, 1994. 480 с.
- Грицай О. В, Иоффе Г. В., Трейвиш А. И. Центр и периферия в региональном развитии. Москва: Наука, 1991. 168 с.
- Конституция Российской Федерации. Москва: Ось-89, 1999. 48 с.
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Москва, 2008. 194 с.
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года [Электронный ресурс]: [веб-сайт]//Российская газета. 2012. 12 декабря. URL: www.rg.ru.
- Ратнер Н. М. и др. Региональные диспропорции: оценка и пути преодоления. Екатеринбург: УрГЭУ, 2008. 108 с.
- Солдатов В. М. Законодательство о культуре как фундаментальная проблема духовно-национальной идентичности России XXI века//Представительная власть -XXI век. 2013. № 2, 3 (121, 122). С. 22-25.
- Хомутцов С. В. Духовность, её подобия и антиподы в культуре: дис. на соиск. уч. ст. доктора филос. н. Барнаул, 2009. 340 с.
- Указ Президента Российской Федерации № 803 от 3 июня 1996 года «Основные положения региональной политики в Российской Федерации».