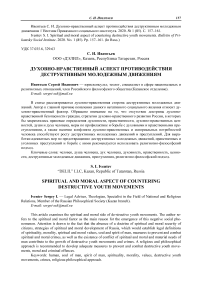Духовно-нравственный аспект противодействия деструктивным молодежным движениям
Автор: Ивентьев С. И.
Журнал: Вестник Прикамского социального института.
Рубрика: Наука и образование
Статья в выпуске: 1 (85), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается духовно-нравственная сторона деструктивных молодежных движений. Автор к главной причине появления данного негативного социального явления относит духовно-нравственный фактор. Обращено внимание на то, что отсутствие доктрины духовно-нравственной безопасности граждан, стратегии духовно-нравственного развития России, в которых бы закреплялись правовые определения духовности, нравственности, духовно-нравственных ценностей, души и духа человека, меры по профилактике и борьбе с духовными и нравственными преступлениями, а также наличие конфликта духовно-нравственных и материальных потребностей человека способствуют росту деструктивных молодежных движений и преступлений. Для выработки адекватных мер по предотвращению деструктивных молодежных движений, нравственных и уголовных преступлений и борьбе с ними рекомендуется использовать религиозно-философский подход.
Человек, душа человека, дух человека, духовность, нравственность, ценности, деструктивные молодежные движения, преступления, религиозно-философский подход
Короткий адрес: https://sciup.org/14126608
IDR: 14126608 | УДК: 37.035.6+329.63
Текст научной статьи Духовно-нравственный аспект противодействия деструктивным молодежным движениям
Предмет исследования — духовно-нравственная сторона деструктивных молодежных движений.
Цель исследования — изучить влияние духовно-нравственных факторов на появление деструктивных молодежных движений и противодействие им.
Методология. В процессе исследования использовались теоретические методы логического и сравнительного анализа.
Введение. В настоящее время все государства столкнулись с такими социальными явлениями, как деструктивные (фр. destructive , лат. destruction — разрушительный, гибельный; неплодотворный, неэффективный) молодежные движения, которые базируются на религиозных (от лат. religio — относящийся к вере, религии), криминальных (лат. criminalis , от crimen — преступление), националистических (фр. nationalisme — идеология и политика, базовым принципом которых является тезис о высшей ценности нации), экстремистских (от лат. extremus — крайний, чрезмерный) и иных идеологиях (греч. ιδεολογία, от греч. ιδεα — прообраз, идея; и λογος — слово, разум, учение).
Как верно указывает Е. О. Малова, «…в современном обществе крайне остро стоит проблема вовлечения подростков и молодых людей в движения деструктивного характера. По данным МВД России, количество деструктивных молодежных объединений с каждым годом увеличивается, причем особенности проявления их деятельности меняются в соответствии с текущими тенденциями развития техники и форм общественного сознания. На сегодняшний момент на территории РФ насчитывается более 300 деструктивных молодежных движений… большое распространение получили следующие деструктивные молодежные движения, организованные приверженцами различных экстремистских и террористических идеологий: А.У.Е., колумбайнеры, неофашисты, а также так называемые группы смерти в интернет-пространстве» [7, с. 94].
К причинам возникновения деструктивных молодежных движений относят духовнонравственные, идеологические (мировоззренческие), правовые, связанные с несовершенством законодательства, социальные и экономические факторы [1, с. 229–234].
На наш взгляд, главной причиной появления деструктивных молодежных движений, а также совершаемых преступлений всегда выступает духовно-нравственный фактор, который зависит от уровня духовного и нравственного развития человека и общества.
Духовное и нравственное развитие человека достигается за счет воспитания и образования, культивирования и пропагандирования духовно-нравственных ценностей, которые были положены в основу многих религиозных и философских учений.
Духовно-нравственный фактор напрямую влияет на идеологические, правовые, социальные и экономические причины появления деструктивных молодежных движений, духовно-нравственных девиаций (от лат. deviatio — отклонение), совершаемых преступлений и противоправных действий. Например, незрелая в духовно-нравственном плане законодательная и исполнительная власть неспособна принять адекватные меры по борьбе с преступностью. В частности, в настоящее время в России не удается ликвидировать такие нравственные и уголовные преступления, как коррупция (алчность, сребролюбие), наркомания (страсть, чревоугодие, «бытовой сатанизм») и проституция (прелюбодеяние), что говорит о наличии у государства проблем духовно-нравственного плана, касающихся, в том числе, нравственного уровня государственных и муниципальных служащих.
Подростки и молодежь подвержены психологическому воздействию деструктивных движений, антинравственных социальных сетей, так как у них еще незрелая и несформи-рованная психика и ценностная картина.
Исследователи данной проблемы подчеркивают, что «…эти движения под влиянием деструктивного психологического воздействия манипулируют сознанием молодежи, иг- рают на ценностно-смысловых противоречиях разных поколений нашей страны, создают иллюзию “правильного”, “справедливого” общества, направлены на частичное или полное разрушение личности, сознания и нравственности» [7, с. 94]. Подобное стало возможным благодаря только отсутствию внятной государственной идеологии — это позволило западной и американской идеологии, подконтрольным им СМИ и социальным сетям сформировать общество потребления, базирующееся только на материальных ценностях, девальвировать (лат. devaluation, от лат. de — понижение и valeo — стоить, иметь значение) духовно-нравственные ценности нашего народа, что привело к резкому увеличению духовнонравственных девиаций, пороков и преступлений, на которое на протяжении десятилетий обращается внимание в соответствующей литературе.
Так, отмечается, что «уголовные преступления — это духовные и нравственные преступления. Этот важный фактор государством не взят на вооружение в связи с отсутствием доктрины духовно-нравственной безопасности граждан, стратегии духовно-нравственного развития России, в которых бы закреплялись правовые определения духовности, нравственности, духовно-нравственных ценностей, души и духа человека, а также меры по профилактике и борьбе с духовными и нравственными преступлениями. Без указанных правовых документов государству трудно будет заниматься профилактикой и борьбой с духовными и нравственными преступлениями, в том числе с экстремизмом, а также девальвацией духовно-нравственных ценностей» [2, с. 50–51].
С момента появления человека до наших дней актуальными так и остаются вопросы, касающиеся духовной реальности человека, его души и духа, которыми занимаются религия, философия, психология и другие научные дисциплины [3, с. 100–102].
Издревле в человеке выделяют три составляющих: тело, душа и дух [4, с. 10]. Об этом также говорят древние философские труды, научно-философские трактаты, религиозные и эзотерические учения.
Авраамическими религиями (иудаизм, христианство и ислам) на протяжении тысячелетий особое внимание уделяется душе человека как творения Бога, что остается до сих пор вне научного осмысления.
При этом существуют различные определения душе и духу человека, так как в науке не разработан единый понятийный аппарат духовно-нравственной сферы человека, духовности.
Из-за отсутствия доктрины духовно-нравственной безопасности невозможно окончательно дать правильные определения многим вышеуказанным духовно-нравственным явлениям, которые подлежат особой защите.
Деструктивные молодежные движения, рост преступности, в том числе и идеологической направленности (экстремизм, политические убийства), указывают нам на наличие в обществе духовно-нравственных пороков и девиаций, которые в христианской и мусульманской религиях называют грехами.
Системность рассматриваемых пороков во многом обусловлена девальвацией системы духовно-нравственных ценностей, а также связана с острым конфликтом духовнонравственных и материальных потребностей человека в связи с преобладанием вторых над первыми, на что мало обращают внимание государство и научная общественность [2, с. 45–51].
По мнению С. С. Гузенко, «…существующие острые социальные проблемы общества (алкоголизм, наркомания, токсикомания, национальная и религиозная нетерпимость, национализм, экстремизм, проституция, падение морали, порнография, малолетнее материнство, сквернословие, административные правонарушения и уголовные преступления и др.) всегда носят духовно-нравственный характер, связаны с нерешаемым государством кон- фликтом духовно-нравственных и материальных потребностей человека, что должно учитываться при проведении конкретной социальной политики.
…система безопасности и здоровьесбережения образовательного пространства находится вне контекста сбалансированных духовно-нравственных и материальных потребностей души, духа и тела человека» [5, с. 123–126].
В настоящее время наукой применяется религиозно-философский подход к проблеме противодействия преступности, которая носит не только социальный, как утверждает криминология, но и духовно-нравственный характер [2, с. 45–51; 8, с. 81–88].
Религиозно-философский подход к проблеме противодействия преступности основан на исследовании духовно-нравственной сферы человека и общества и позволяет разобраться в истинных причинах нравственных и уголовных преступлений, а также в мотивации появления деструктивных молодежных движений.
Как указывает Ф. С. Селезнев, «…главнейшим аспектом обоснования применения именно религиозно-философского подхода к проблеме противодействия преступности является возрастающая бездуховность современного мирового и российского общества. В рамках данного исследования мы определились, что именно бездуховность является главенствующим фактором преступности. Соответственно, если причина преступности кроется, главным образом, в духовном, а не материальном измерении, то и противодействие преступности должно быть соответствующим» [8, с. 81].
Кроме того, данный подход позволяет выработать духовно-нравственные средства борьбы с деструктивными явлениями и преступлениями.
По нашему мнению, общество и государство особое внимание должно уделять духовно-нравственной безопасности, под которой мыслится обеспечение защиты духовной и нравственной сферы человека и общества, духовной реальности личности (души и духа человека) [6, с. 87– 91].
Заключение. В ходе исследования рассматриваемой темы сделан вывод, что в России отсутствуют единый научный понятийный аппарат духовно-нравственной сферы человека, доктрина духовно-нравственной безопасности граждан и какая-либо внятная стратегия духовно-нравственного развития России, в которых бы закреплялись правовые определения духовности, нравственности, духовно-нравственных ценностей, духовной реальности личности (души и духа человека). К большому сожалению, в нашей стране культивируются в основном материальные и западные ценности, создано общество потребления, отсутствует системное представление о сбалансированных духовно-нравственных и материальных потребностях души, духа и тела человека во всех сферах его жизнедеятельности. На этом фоне для выработки мер по предотвращению появления деструктивных молодежных движений, нравственных и уголовных преступлений и борьбе с ними целесообразно будет использовать религиозно-философский подход.
Учитывая, что уголовные преступления всегда представляют собой по своей сути духовно-нравственные преступления, эффективно бороться с духовно-нравственными девиациями и преступлениями можно только духовными средствами (определение смысла жизни, удовлетворение духовных потребностей и потребности в познании, самосовершенствование, повышение духовного и нравственного уровня, духовное образование, обращение к духовным культуре и музыке, молитва, соблюдение постов, духовная терапия, движение к святости, соблюдение заповедей, умерщвление страстей, медитация, духовная йога, занятие творчеством, благими делами и пр.).
Таким образом, чтобы адекватно противостоять росту деструктивных молодежных движений, нравственных и уголовных преступлений, науке необходимо выработать единый понятийный аппарат духовно-нравственной сферы человека (душа человека, дух че- ловека, духовность, нравственность, духовно-нравственные ценности), обществу и государству — разработать доктрину духовно-нравственной безопасности граждан, стратегию духовно-нравственного развития России, а также заняться изучением и устранением конфликта духовно-нравственных и материальных потребностей человека.
Список литературы Духовно-нравственный аспект противодействия деструктивным молодежным движениям
- Авдеев Р. В. Причины преступности в России // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2014. № 11 (139). С. 229–234.
- Боброва Н. А., Ивентьев С. И. Духовно-нравственные аспекты противодействия терроризму и экстремизму // Противодействие идеологии терроризма: концепции и адресная профилактика: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (6 июня 2019 г., г. Уфа). Уфа, 2019. С. 45–51.
- Боброва Н. А., Ивентьев С. И. Концепция прав души и духа человека как основа духовнонравственной интеграции // Старообрядчество: история, культура, современность: материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф., 21–23 ноября 2019 г., Москва — Боровск / под ред. В. И. Осипова; Музей истории и культуры старообрядчества. М., 2019. С. 100–102.
- Гусейнов А. А. Великие моралисты. М.: Республика, 1995. 352 с.
- Гузенко С. С. Духовно-нравственные аспекты социальных проблем // Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых ученых: материалы Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов (Грозный, 26–27 апреля 2019 г.). Махачкала: АЛЕФ, 2019. С. 123–126.
- Ивентьев С. И. Душа и дух человека как главный субъект безопасности жизнедеятельности // Безопасность жизнедеятельности: современные вызовы, наука, образование, практика: материалы IX Межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием (3–4 декабря 2018 г., г. ЮжноСахалинск) / Сахалин. гос. ун-т. Южно-Сахалинск, 2019. С. 87–91.
- Малова Е. О. Ресоциализация подростков, подвергшихся психологическому воздействию деструктивных движений // Инновационное развитие профессионального образования. 2019. № 1 (21). С. 94–98.
- Селезнев Ф. Н. Теологический подход к противодействию преступности // Криминология. 2011. № 4 (23). С. 81–88.