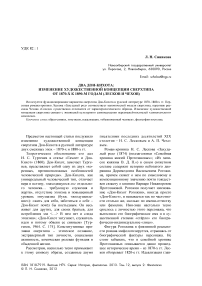Два Дон-Кихота: изменение художественной концепции сверхтипа от 1870-хк 1890-м годам (Лесков и Чехов)
Автор: Синякова Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Исследуется функционирование вариантов сверхтипа Дон-Кихота в русской литературе 1870–1880-х гг. Персонаж романа-хроники Лескова «Захудалый род» соответствует канонической модели сверхтипа, персонаж рассказа Чехова «Соседи» существенно отличается от характерологического образца. Изменение художественной концепции сверхтипа связано с эволюцией культурного самоощущения персонажей-носителей «донкихотского» комплекса.
Образ-символ, энтузиазм, идеализация, "обыкновенный человек", философия поступка
Короткий адрес: https://sciup.org/147218736
IDR: 147218736 | УДК: 82
Текст научной статьи Два Дон-Кихота: изменение художественной концепции сверхтипа от 1870-хк 1890-м годам (Лесков и Чехов)
Предметом настоящей статьи послужило изменение художественной концепции сверхтипа Дон-Кихота в русской литературе двух смежных эпох – 1870-х и 1880-х гг.
Теоретическое обоснование его дал И. С. Тургенев в статье «Гамлет и ДонКихот» (1860). Дон-Кихот, замечает Тургенев, представляет собой одну из двух «коренных, противоположных особенностей человеческой природы». Дон-Кихота, как универсальный человеческий тип, отличает вера в истину, «находящуюся вне отдельного человека… требующую служения и жертв», отсутствие эгоизма и повышенный уровень энтузиазма (букв. «воодушевление»): «жить для себя, заботиться о себе – Дон-Кихот почёл бы постыдным. Он весь живет для других, для своих братьев, для истребления зла <…> В нем нет и следа эгоизма»; «Дон-Кихот энтузиаст, служитель идеи и потому обвеян ее сияньем» [Тургенев, 1964. С. 174]. Конститутивные признаки сверхтипа – этическое сознание, экстравертный тип личности, социальная активность, комическая ролевая функция в обыденной жизни.
Рассмотрим, насколько тесно примыкают к этому символу образы, созданные двумя писателями последних десятилетий XIX столетия – Н. С. Лесковым и А. П. Чеховым.
Роман-хроника Н. С. Лескова «Захудалый род» (1874) (подзаголовки «Семейная хроника князей Протозановых»; «Из записок княжны В. Д. П.») в своем сюжетном составе содержит историю небогатого дворянина Доримедонта Васильевича Рогожина, причем сюжет о нем по смысловому и композиционному значению почти тождествен сюжету о княгине Варваре Никаноровне Протозановой. Рогожин получает именование «Дон-Кихот Рогожин», иногда просто «Дон-Кихот», и называется так по частотности столько же, сколько по имени-отчеству или фамилии. Имя-знак настолько тесно срослось с личностью этого персонажа, что вытеснило его биографическое имя и в существенной степени «стёрло» его биогра-фически-индивидуальное «лицо».
Фигура Рогожина в фиктивной реальности романа мифологизируется, отрываясь от биографической фактуры персонажа. Не стоит забывать, что в семейной хронике Протозановых описывается давно прошедшее историческое время – из 1870-х гг. Лесков обозревает 1820-е гг. Идеализация глав-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 2: Филология © Л. Н. Синякова, 2013
ных действующих лиц хроники облегчает их мифологическую трансформацию. Рогожин «был чудак, каких и в тогдашнее время было мало на свете, а в наш стереотипный век ни одного не отыщется» [Лесков, 1989. Т. 6. С. 69] 1 . Автор подчеркивает сходство своего персонажа с мировым образом - как внешнее, так и психологическое: «Он был длинный, сухой и рыжий дворянин с грустными... глазами <_> Рогожин своею наружностью в общем чрезвычайно напоминал всем столь известную фигуру ДонКихота и так же, как тот, был немножко сумасшедший. По случайной фантазии, оригинальный костюм Рогожина еще более довершал его сходство: Доримедонт Васильевич любил верхнее короткое платье вроде камзола или куртки, похожей на бедный колет рыцаря Ламанча...» (С. 69); «Он был враг всякого угнетения и друг демократии, но вместе с тем и друг изгнанного дворянства, реставрации которого тоже сильно сочувствовал, потому что любил “благородство идей” и ненавидел зазнающихся выскочек. Возвратясь домой (из французского плена. - Л. С. ), он потерялся: чему сочувствовать и за кого заступаться?» (С. 69-70).
Таким образом, этот бедный дворянин, вся «крепостная сила» которого насчитывала девять мужиков, энтузиаст идеи эмансипации кого угодно от любой несправедливости, недвусмысленно соотносится с мировым образом Дон-Кихота, и притом соотносится вполне «канонически», совпадая с характерологическим ядром первообраза и своими часто нелепыми деяниями, и обликом.
К Рогожину был приставлен из его отпущенных на волю мужиков камердинер и соратник по имени Зиновий, комический двойник барина, наделенный комическим же уродством - после падения с дерева «он так странно сросся, что вся нижняя его половина всегда точно шла на один шаг сзади верхней» (С. 70). В телесном неблагообра-зии Зиновия просвечивает гротескно-материальная символика «чудности», характерная для Рогожина: «Мужик Зинка, сделавшийся Санчо-Пансой нашего Дон-
1 В дальнейшем ссылки на этот том приводятся в тексте в круглых скобках с указанием страницы.
Кихота, кажется, был приуготовлен к этой должности самой природой» (С. 70). Зиновий воспринимает себя в качестве субъекта обыденного (рассудочного) знания, а своего барина - как проводника высшей истины, но одновременно и житейского неразумия. Зиновий есть «представитель массы» (И. С. Тургенев): «В душе он считал Рогожина дурачком или по крайней мере “Божьим человеком”. Ну, словом, Пансо был по всем статьям как на заказ для нашего Дон-Кихота выпечен, и они запутешествовали» (С. 71).
Повествование о Рогожине мифологизируется по мере того, как персонаж захватывает сюжетное пространство романа. В разбитую телегу Рогожина были впряжены необыкновенные кони. Их родоначальница - «серая кобылица обыкновенной крестьянской породы» (С. 71) - произвела незаурядное потомство: «Что же делали эти одры, когда они слышали крик его Пансы -это было уму непостижимо! Они, говорят, летали до ста верст в одну упряжку, и именно не бегали, а летали , как птицы (курсив мой. - Л. С. ). <_> было живое предание, что они поднимались со всем экипажем и пассажирами под облака и летели в вихре, пока наступало время пасть на землю, чтобы дать Дон-Кихоту случай защитить обиженного или самому спрятаться от суда и следствия» (С. 75). В народном сознании происходит дальнейшая мифологизация волшебных помощников Рогожина.
Женится Дон-Кихот Рогожин на девушке-крестьянке, оказавшейся из обедневшего дворянского рода; точнее, женится только после того, как убедился, что она дворянка, - высшей жизненной ценностью для него является дворянская честь. Бывшие товарищи-крестьяне так и называли избранницу Рогожина - «барыня Аксютка» (С. 85). Эта своего рода Дульсинея быстро наскучила Дон-Кихоту, и он почувствовал тягу к новым приключениям во имя мирового добра, вдохновленный тем, что «доброе, старое кочевое время возвращается» (С. 86).
Жизненная энергия лесковского ДонКихота столь значительна, что его отсутствие в Протозанове будто лишает пространство усадьбы «гения места»: «...когда ДонКихот вдруг исчезал, эти живые беседы обрывались, и тогда все чувствовали живой недостаток в Рогожине. Возвращался он, и с ним в Протозаново возвращалось веселье. Приезжал ли он избитый и израненный <…> он все равно нимало не изменялся и точно так же читал на память повесть чьего-нибудь дворянского рода… или декламировал что-нибудь из рыцарских баллад, которых много знал на память» (С. 89).
Связь с рыцарскими традициями у Рогожина обнаруживается не только в его самоотверженном служении «идеалу» – ведь даже его рассказы имели «всегда своим предметом рыцарское благородство» (С. 89), – но и в его стремлении во что бы то ни стало не уронить абстрактно понятой сословной доблести. Рогожина потрясали анекдотические истории нравственной деградации знатных семей, которые он сам же и пересказывал в домашнем кругу Протозановых (С. 89), и больше всего он боялся оскудения дворянских родов. «Тут уж не по грамоте, а на деле дворянин…» – отзывалась о нем княгиня Протозанова (С. 87).
Романная судьба Рогожина сводится к такому же «захуданию», что и приводимые им примеры ушедших дворянских родов: ближе к 1825 г. дом Протозановых по разным причинам «замирает» и распадается. Испугавшись за душевное здоровье княгини, «Дон-Кихот стал вести себя смирно и дожил век в Протозанове на страже, с решимостью умереть, охраняя княгиню, когда это понадобится» (С. 189). Так Дон-Кихот Рогожин оставил свои подвиги и мирно скончался в протозановском доме.
Жизненное поведение Рогожина не уклоняется от постулированной Тургеневым характерологической схемы. Это абсолютно «нормальное» поведение энтузиаста, служителя идеи, психологически и сюжетно оправданное.
В рассказе А. П. Чехова «Соседи» (1892) трактовка сверхтипа Дон-Кихота иная. Эпоха «упадка» русской литературы, о которой через год объявит Д. С. Мережковский, выражается в том числе и в переосмыслении этого «вечного образа». В рассказе «Соседи» персонаж по фамилии Власич, как и лесковский Рогожин, прямо именуется ДонКихотом. Но это именование не авторское. Оно принадлежит персонажу, обиженному Власичем, – Петру Михайлычу Ивашину. Сестра Ивашина оставила родовое гнездо и ушла жить к Власичу. Петр Михайлыч раз- мышляет: «Он – Дон-Кихот, упрямый, фанатик, маньяк <…> а она (сестра. – Л. С.) такая же рыхлая, слабохарактерная и покладистая, как я…» [Чехов, 1986. Т. 8. С. 65] 2. Ивашин едет к соседу с намерением возвратить и сестру, и дворянскую честь: «Теперь уж ему казалось, что вопроса никак нельзя решить. С свершившимся фактом мириться нельзя, не мириться тоже нельзя, а середины нет» (С. 56).
До времени обрюзгший и растолстевший Ивашин, не сделавший к своим 28 годам ничего примечательного, рассуждает о кризисе социальной морали: «Один обольстил и украл сестру <…> другой придет и зарежет мать, третий подожжет дом или ограбит… И все это под личиной дружбы, высоких идей, страданий!» (С. 57). Культурно-антропологическая модель пассивного человека в эпоху социального разочарования предусматривает сожаление о героическом прошлом. При этом сам человек вполне соответствует безгеройному времени, которое, как это ни парадоксально, обеспечивает ему вполне комфортное существование вне «прекрасного и высокого».
В рассказе, как обычно у Чехова, реализуются частные судьбы людей 1880-х гг. и умонастроение утраты «общей идеи» 3. Но чеховские персонажи не утверждают деяний, вписывающихся в дон-кихотскую парадигму. Л. Шестов пессимистически заметил: «Чехов был певцом безнадежности. Упорно, уныло, однообразно в течение всей почти 25-летней деятельности Чехов только одно и делал: теми или иными способами убивал человеческие надежды. И в этом… сущность его творчества» [А. П. Чехов: pro et contra…, 2002. С. 567].
Чехов, экспериментатор по своей интенциональности, проверяет жизнеспособность современного Дон-Кихота при следующих условиях.
-
1. Эпоха «упадка, заката, гибели» – «конец века» – не располагает к подвигу, а взывает к проявлению чувства самосохранения.
-
2. Личное безволие становится родовой чертой интеллигента 1880-х гг. 4
-
3. Человек выступает не как «чудной» – необычный, а как «средний», «обыкновенный». У Лескова Дон-Кихот – это «чудак… в наш стереотипный век», а у Чехова, если перефразировать Лескова, – «стереотипный человек в чудной век». Ординарность чеховского Дон-Кихота неоспорима: «…с внешней стороны, что-то тусклое и неопределенное. Одевается он безвкусно, обстановка у него унылая, поэзии и живописи он не признает, потому что они “не отвечают на запросы дня”, то есть он не понимает их; музыка его не трогает. Хозяин он плохой. <…> У него нет ни талантов, ни дарований и нет даже обыкновенной способности жить, как люди живут. <…> Он либерал и считается в уезде красным, но и это выходит у него скучно. В его вольнодумстве нет оригинальности и пафоса…» (С. 63).
-
4. «Деяние» Дон-Кихота чеховской поры выражается в отсутствии действия. У Лескова Дон-Кихот, в соответствии с характерологией первообраза, действует, часто неуместно; у Чехова – только говорит, а если и делает, то в частной жизни, для «личного употребления». Чеховский Дон-Кихот Вла-сич ведет «утомительные, шаблонные разговоры <…> похожие один на другой, точно он приготовляет их не в живом мозгу, а машинным способом» (С. 64).
Власич имеет вполне дон-кихотский внешний облик – «немолодой», «тощий, сухопарый, узкогрудый, с длинным носом» (С. 63). Он так же беззащитен против «толпы», как «канонический» Рыцарь печального образа: «В практической жизни это наивный, слабый человек, которого легко обмануть и обидеть, и мужики недаром называют его “простоватым”» (С. 63). Власич нелепо женится, как в свое время лесковский Рогожин, – но не по любви, а «по идее», пытаясь доказать, прежде всего себе самому, что совершает благородный поступок («странный брак во вкусе Достоевского», по определению обиженного Ивашина (С. 65)).
Дон-Кихот у Чехова теряет цель и становится псевдогероем. Ивашин «считал Вла-сича хорошим, честным, но узким и односторонним человеком. В его волнениях и страданиях, да и во всей его жизни, он не видел ни ближайших, ни отдаленных высших целей, а видел только скуку и неуменье жить. Его самоотвержение и все то, что Власич называл подвигом или честным порывом, представлялось ему бесполезною тратой сил, ненужными холостыми выстрелами, на которые шло очень много пороху. <…> и то, что Власич всю свою жизнь как-то ухитрялся перепутывать ничтожное с высоким, что он глупо женился и считал это подвигом, и потом сходился с женщинами и видел в этом торжество какой-то идеи, – это было просто непонятно» (С. 65).
Болезненное бессилие было свойственно интеллигенции 1880-х гг. 5 На фоне бездействующих и безыдеальных людей даже Вла-сич мог казаться крупной, хотя и запутавшейся личностью, и Ивашин вопреки своему предубеждению против приятеля «чувствовал присутствие в нем какой-то силы» (С. 65). Ивашин готов признать главное преимущество своего невольного противника: «Он говорил и делал то, что думал, а я говорю и делаю не то, что думаю…» (С. 71). Повторим, что это относительное достоинство, нисколько не отменяющее принадлежности Власича к общности «хмурых людей» 1880-х гг. В размышлении Ивашина скорее проявляется логическая подмена: не сильное противостоит слабому, а слабое – слабейшему. Вот почему возвращающийся домой ни с чем Ивашин недоволен: «Я – старая баба. <…> Ехал затем, чтобы решить вопрос, но еще более запутал его. Ну, да Бог с ним!» (С. 71). Заметим, что Петр Михайлыч лениво отмахивается от назойливого вопроса, не пытаясь найти пути к его разрешению, – эта характерная психологическая отсрочка неприятного переживания свидетельствует о его душевной лени. Понятно, что в сравнении с вялым Ивашиным Власич обладает «силой» иногда доводить начатое до конца.
Мифологизируется в этом рассказе не Дон-Кихот, а гоголевский Хома Брут. Вла-сич пересказывает предание об изверге-арендаторе Оливьере, в 40-х гг. замучившем (забившем до смерти) то ли бунтовавшего его крестьян, то ли влюбившего в себя его дочь «одного из благодушнейших сынов бродячей Руси, что-то вроде гоголевского бурсака Хомы Брута» (С. 67). Рассказ об отважном бродяге, не побоявшемся пойти против самодура, подтекстуально дублирует и одновременно аннигилирует главную историю – о слабых людях 1880-х гг. 6 Недаром Власич домысливает легенду по-своему: «Я думаю, что бурсак все вместе: и крестьян волновал, и дочь увлек. Может быть, даже это был вовсе не бурсак, а инкогнито какой-нибудь» (С. 67). Незадачливого «героя» волнует мысль о чужих подвигах, о людях, сила воли которых многократно превосходила волевые потенции слабого поколения 1880-х гг.
Дон-Кихот Чехова – просто запутавшийся в заемных идеях неудачник; он любит пересказывать труды по общественным вопросам, гостям на ночной столик подкладывает Дарвина или Писарева. Подобно «классическому» Дон-Кихоту, он верит в идею, пусть даже она у него раздроблена и «сшита» из давно известного материала. Он не любит перемещаться, не странствует в поисках «обиженных». Его дон-кихотство, в сущности, весьма бережливое, он экономит свои силы, да и сил у него маловато. Говорить и делать, а не просто безрассудно делать, – вполне интеллигентский алгоритм поступка.
Вариант сверхтипа Дон-Кихота в рассказе А. П. Чехова «Соседи» представляет собой его постреалистическую трансформацию. Это в немалой степени обусловлено социокультурным фоном рассказанной истории. Структура характера сохраняется, меняются внутреннее содержание и смысл поступка.
Таким образом, разница двух Дон-Кихотов – лесковского и чеховского – заключается, во-первых, в философии поступка: деятельном служении идее у героя Лескова и не-деянии у героя Чехова; во-вторых, в поведенческих моделях Дон-Кихотов разных социально-исторических эпох: безрассудстве Рогожина и осторожности Власича; в-третьих, в цельности идеи у Рогожина и раздробленности идей у Власича (С. 63–64); наконец, в-четвертых, в размывании моральных границ: один поддерживает традиционную мораль и женится на «можайской дворянке», пусть даже и оставленной без дворянского воспитания, другой соблазняет дворянскую дочь и недоумевает, почему этот прецедент не находит поддержки в семье Ивашиных.
В целом, персонаж Лескова представляет собой традиционный вариант сверхтипа Дон-Кихота, в то время как персонаж Чехова существенно варьирует «первообраз» героя Сервантеса. Сравнение двух ДонКихотов, созданных ведущими русскими писателями последней трети XIX в., приводит нас к выводу о смене характерологической парадигмы в эволюции русской литературы от 1870-х к 1890-м гг.
TWO DON-QUIXOTS:
THE CHANGING OF THE POETICAL CONCEPTION OF THE HYPERTYPE FROM 1870s TO 1890s (LESKOV AND CHEKHOV)
Список литературы Два Дон-Кихота: изменение художественной концепции сверхтипа от 1870-хк 1890-м годам (Лесков и Чехов)
- А. П. Чехов: pro et contra: творчество А. П. Чехова в русской мысли конца XIX - начала XX в. (1887-1914): Антология. СПб., 2002. 1072 с.
- Лейдерман Н. Я. Теория жанра. Екатеринбург, 2010. 904 с.
- Набоков В. В. Лекции по русской литературе. СПб.: Азбука-классика, 2010. 448 с.