Два измерения кризиса высшего образования в России
Автор: Соловьев Виктор Петрович, Пахомов Николай Николаевич, Перескокова Татьяна Аркадьевна
Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday
Рубрика: Большие вызовы
Статья в выпуске: 3, 2021 года.
Бесплатный доступ
Анализируются кризисные явления и процессы в сфере высшего образования. Выделяются два их типа: кризис развития и кризис системы и практики управления высшей школой. С этих позиций рассматривается ход реформирования высшего образования. Показано, что проводимые реформы пока еще не дали ожидаемых результатов, включая такие их ключевые направления, как переход к уровневой системе подготовки кадров, введение федеральных государственных образовательных стандартов, реализация компетентностного подхода. Выявляются причины создавшейся ситуации, в числе которых особо выделены непродуманные трансформации системы и практики управления высшей школой и реорганизации вузов, а также необоснованные заимствования зарубежного опыта, попытки перевода высшей школы на рельсы экономики услуг. Обоснован вывод, что эти и другие просчеты в проведении реформ привели к стагнации системы высшего образования и не позволили в должной мере использовать ее потенциал для подготовки кадров, отвечающих потребностям формируюшейся экономики инновационного типа 4.0. Подчеркивается, что перед лицом больших вызовов, с которыми встретилась страна, нужны большие идеи, новые цели, ценности и смыслы, реалистичные качественные и количественные прогнозы возможных траекторий их достижения в сфере высшего образования и науки.
Кризис образования, технологическая революция 4.0, реформирование высшей школы, уровневая система подготовки кадров, федеральные государственные образовательные стандарты, компетентностный подход
Короткий адрес: https://sciup.org/148321513
IDR: 148321513 | УДК: 378:350 | DOI: 10.25586/RNU.HET.21.03.P.02
Текст научной статьи Два измерения кризиса высшего образования в России
сформировать кадровый задел для будущих рывков.
Ученые определяют современный период развития мирового сообщества как переход от индустриального этапа к информационному, основами которого являются автоматизация и роботизация [4]. Переход этот в странах-лидерах уже фактически уже состоялся, а вслед за ним развернулась и четвертая технологическая революция, движителями которой выступают искусственный интеллект, безлюдное производство, интернет вещей, квантовые технологии, генная инженерия. И если прежде периоды между свершившимися революционными преобразованиями производительных сил человечества составляли века, то сегодня инновации

Так выглядит безлюдное производство – ячейка экономики 4.0
входят в жизнь людей чуть ли не ежедневно.
На наших глазах в результате научных открытий родилась Всемирная сеть, которая кардинально изменила жизнь людей на нашей планете. И это не могло не сказаться на системе образования и воспитания молодежи. Можно сказать, что Интернет и информационные технологии привели к серьезному кризису в системе получения образования. Также наблюдаются катастрофическое снижение внутренней культуры молодежи, повышение ее психологической неустойчивости и агрессии. Преодолением этих кризисных явлений занимаются во всем мире.
Интенсивное развитие информационных технологий усиливает роль творчества людей, участвующих в производственной деятельности. Знания становятся источником повышения производительности труда, инноваций и конкурентных преимуществ. Это также вызывает кризисные явления в сфере образования, связанные с изменением парадигмы учебно-воспитательного процесса.
Итак, мы можем констатировать характерный для нашей страны, как и для многих стран мира, кризис развития в сфере образования . Этот кризис несет с собой не столько разрушительные, сколько созидательные начала, стимулирующие перемены и представляющие собой их движущую силу. Считается, что кризис этого типа был впервые рассмотрен Филиппом Г. Кумбсом.
Но нельзя забывать о том, что в России проблемы образования решаются в условиях кардинальной смены государственно-политического и социально-экономического устройства страны.
Советская система образования по своей сути была очень далека от требований рыночной экономики. Все предприятия и организации в СССР были государственными, в известном смысле государственными были и выпускники вузов и техникумов, которые должны были работать там, где это требуется государству. А кому теперь «принадлежат» выпускники образовательных организаций?
Несмотря на то, что большинство студентов учатся за государ- ственный счет, после окончания вузов и колледжей они сами решают свою профессиональную и жизненную судьбу. По данным Росстата, после окончания учебных заведений только 50% выпускников трудоустраиваются по специальности. В настоящее время работодатели реальных секторов экономики предъявляют претензии к уровню профессиональной подготовки и социально-личностным качествам выпускников, к их умению переучиваться и осваивать новые профессии [3, 5, 9].
О необходимости повышения эффективности отечественной системы технического образования было недвусмысленно заявлено на заседании Совета при Президенте по науке и образованию в 2014 году. В своей речи на этом заседании В.В. Путин подчеркнул, что «качество инженерных кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства и основой для его технологической, экономической независимости». Но современная система высшего образования, по мнению авторов настоящей статьи, решает эту задачу с большим и даже на- растающим отставанием от требований практики.
А это свидетельствует о кризисных процессах второго рода. Точнее говоря, о кризисе образования, обусловленном отставанием и ошибками в решении задач его развития, о кризисе, обострение которого загоняет нашу школу, прежде всего высшую, в тупик.
Два аспекта реформирования образования
В системе образования с известной долей условности можно выделить два принципиальных аспекта: содержательный и организационный.
Содержательный аспект профессионального образования прямо зависит от развития науки и техники и ориентируется на потребителя выпускников. В век стремительных перемен в экономике и управлении только преподаватели нового типа, находящиеся в русле этих перемен и владеющие современными информационными технологиями, способны подготовить молодежь к современной жизни.
Однако в переломный период перехода к рыночной экономике система высшего образования России была существенно деформирована. Тому были особые причины: неразбериха в экономике, значительное сокращение доходов населения, внутренние конфликты, идеологический разброд, распад молодежных организаций. В результате были разорваны связи вузов с отраслями экономики и с организациями науки. Резко сократилось финансирование высшего образования. Это вызвало «утечку умов» из высшей школы, резкое снижение уровня академической жизни.
Поэтому главной проблемой образования приходится признать отставание преподавателей от требований современной науки и экономики. Учить в вузе должны те, кто активно ведет научную работу, и те, кому интересно учить. Проблема качественного состава учителей и преподавателей должна быть решена государством путем создания такой системы оплаты, организации труда, карьеры и социально-профессионального роста преподавателей, которая делала бы их высокоуважаемыми членами общества и обеспеченными людьми.
Конечно, эта проблема пока еще не так остро ощутима в ряде элитных университетов страны. Но основная масса молодежи учится в других вузах. А именно в тех, где качественный состав преподавателей показывает отрицательную динамику. Профессорско-преподавательский состав стареет, утра-
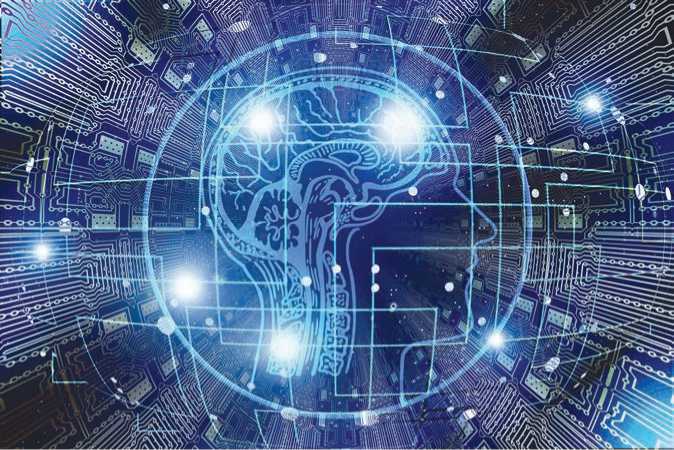
Мы еще не до конца понимаем, что такое искусственный интеллект, но уже активно его используем
чивает связь с наукой и производством. Свернуты, сошли на нет хозрасчетные исследования по заказам предприятий. Хиреет аспирантура, а вслед за этим прекращается приток молодых преподавателей. Происходит сначала стагнация, а затем и деградация высших учебных заведений как центров науки и образования.
Так обстоит сегодня дело с содержанием подготовки кадров в высшей школе, которое зависит от места и роли вузов, то есть в первую голову от научно-педагогических работников, их роли в научно-тех- ническом прогрессе. Как показал В.Д. Шадриков [10], подготовку кадров для инновационной экономики к настоящему времени развернуть не удалось.
Что же касается организационного компонента системы образования, то это главным образом продукт практики государственного управления.
Казалось бы, в этом отношении у нас все в полном порядке. Как известно, первым общегосударственным решением первого президента России стал знаменитый указ «О первоочередных мерах по развитию образования в РСФСР», выпущенный в 1991 году.
В 1992 году одним из первых был принят закон Российской Федерации «Об образовании», а в 1996 году – Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Это стало своего рода политической демонстрацией значимости образования граждан для развития государства и общества. Под влиянием решений, вселявших надежду в умы преподавателей и студентов, отечественная высшая школа стала мощным аттрактором, предотвратившим маячащую на горизонте социальную катастрофу.
Примечательно, что именно в этот период в отечественной высшей школе появляются элементы англо-американской системы подготовки кадров в виде ступеней образования – бакалавриата и магистратуры. Вводятся государственные образовательные стандарты: в 1994 году для бакалавров, а в 1996 году и для специалистов. В 2000 году утверждены стандарты нового (второго) поколения по направлениям подготовки дипломированных специалистов, в которых были сформулированы требования к профессиональной подготовленности выпускников, ставшие предвестниками компетенций.
В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому процессу. В 2007 году были приняты образовательные стандарты нового (третьего) поколения уже в ранге федеральных. Требования к результатам освоения образовательных программ в них были определены в виде компетенций выпускников. В основу системы высшего образования была положена уровневая система подготовки кадров: бакалавриат – магистратура. Считалось, что уровневая система будет более привлекательной в глазах работодателей, которые охотнее будут опла-

Бакалавриат – это полноценное высшее образование или массовая подготовка недоучек?
чивать специальные магистерские программы своих будущих работников.
Но с реализацией программ подготовки бакалавров возникли неувязки. Предполагалось, что их обучение будет вестись с ориентацией не на конкретный объект труда, а на достаточно широкую сферу деятельности. А подготовка по конкретной выбранной специальности данного направления будет осуществляться работодателем по возможности с привлечением обучающей организации. В связи этим в программах бакалавров была сокращена производственная практика. Это было сделано для обеспечения мобильности выпускников на рынке труда, что зафиксировано в Болонской декларации и ряде других документов, принятых совещаниями министров образования стран Европы [2].
Анализ уже весьма продолжительного опыта массовой подготовки бакалавров по техническим направлениям и их последующей трудовой деятельности приводит к неутешительным выводам. Работодатели требуют выпускника, подготовленного под конкретную должность. А он всего лишь бакалавр, не имеющий практических навыков.
«Доводка» бакалавров для выполнения профессиональной деятельности самими работодателями, к которой может привлекаться и образовательная организация, не стала элементом образовательной стратегии и практики. В связи с этим вузы стали восполнять недостаток профессиональной подготовки бакалавров за счет фундаментальной и особенно гуманитарной составляющих. Негативную роль в формировании социально-профессиональных качеств бакалавров сыграли популистские антисоциалистические настроения, связанные с исключением воспитательного компонента профессионального образования, перекладыванием воспитательной деятельности на школу и семью.
В период перехода к рыночным экономическим отношениям стало утверждаться мнение, что бакалавров нужно готовить к работе строго по инструкциям, так как на производстве стали преобладать импортные техника и технологии. Это привело к упрощенному подходу к высшему образованию, которое стало приобретать рецептурный характер.
Да и самим федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения, можно сказать, не повезло. Министерство образования и науки Российской Федерации сразу же после введения этих стандартов в действие начало их модернизировать. В 2012 году они были переработаны в связи с разделением первого уровня подготовки кадров на два вида: прикладной и академический бакалавриат. После вступления в силу в сентябре 2013 года нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» стандарты были переименованы в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования третьего поколения со знаком +. А в 2017 году началось утверждение стандартов с двумя знаками +, разработанных с учетом профессиональных стандартов.
Несколько циклов трансформации образовательных стандартов отнюдь не были столь уж безобидными. Каждый из них сопровождался их формализацией и своего рода стерилизацией содержания. В частности, к 2015 году из стандартов были изъяты требования к вузам в области:
– формирования социокультурной среды, необходимой для разностороннего развития личности;
– использования активных и интерактивных форм проведения занятий;
– обеспечения гарантии качества подготовки выпускников.
В итоге федеральные образовательные стандарты из учебнометодических документов превратились в организационные, резюмирующие требования к деятельности вузов по конкретному направлению подготовки кадров, содержащиеся в других нормативно-правовых актах. От содержания образования в них не осталось и следа, если не считать очень общих, можно сказать примитивных, формулировок универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускника.
Приведем для примера универсальную компетенцию «Командная работа и лидерство» по направлению «Строительство». Она звучит так: «Способен осуществлять деловое взаимодействие и реализовывать свою роль в команде». Нам, неразумным, такого рода указания дают ровно столько полезной информации, сколько ее содержится в призыве хорошо пережевывать пищу…
Что касается учета положений профессиональных стандартов, то образовательные стандарты содержат лишь очень общие указания, но не на то, что надо делать, а на то, как надо к этому подходить. Кроме того, образовательные и профессиональные стандарты сформулированы в двух разных терминологических системах. Если в профессио- нальных стандартах в продолжение классических традиций требования к выпускникам сформулированы на языке трудовых функций, знаний, умений и навыков, то в образовательных стандартах – в терминах компетентностного подхода.
Более конкретным и конструктивным учебно-методическим документом, действительно полезным вузам, призваны стать примерные основные образовательные программы по направлениям. Но подготовка их идет медленно, существенно отставая от внедрения стандартов с индексом ++.
Приходится констатировать, что организаторская работа по реформированию высшего образования, проведенная в нашей стране, осязаемых позитивных результатов пока не дала. Переход к уровневой системе подготовки кадров не сократил, а увеличил разрыв между содержанием образования в высшей школе и потребностями практики. Введение образовательных стандартов на качестве образования не сказалось, зато вызвало новый вал бумаготворчества, обусловило необходимость многократной переработки всего комплекса учебно-методической документации. А компетентностный подход, с которым связывалось немало надежд на приближение содержания образования к потребностям экономики, остался лишь декларацией.
В чем кроются причины такого положения? Быть может, в несоответствии российских условий зарубежному опыту? Или в промахах в работе аппарата управления по реформированию высшего образования?
Попробуем разобраться.
Крещендо образовательных реформ
Не будем сходу давать оценку организации реформирования отечественной высшей школы. Сосредоточимся на примерах.
Пример первый: аппарат управления. Сегодня мы не беремся даже вспомнить все федеральные орга- ны управления, ведавшие реформированием высшей школы после 1991 года. Первым из них было Министерство науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации, созданное на руинах аппарата управления, унаследованного от СССР. В 1993 году из него был выделен Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию. (Почему именно госкомитет, а не министерство? И чтобы это значило? Ответы на эти вопросы нам неведомы.) Спустя три года он был объединен с Министерством образования, ведавшим школами, в Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации. В 1999 году это министерство было переименовано в Министерство образования Российской Федерации с присоединением к нему Госкомитета по молодежной политике и Высшей аттестационной комиссии. Еще через пять лет, то есть в 2004 году, оно было преобразовано в Министерство образования и науки Российской Федерации, оказавшееся, по меркам России, настоящим долгожителем. Но и оно в 2018 году было разделено на две части, а именно: на Министерство науки и образования и на Министерство просвещения Российской Федерации, которое, кстати, получило в свое ведение педагогические вузы, а также – всякой логике вопреки – и средние профессиональные учебные заведения, в том числе и те, которые действовали и пока еще действуют в структуре вузов Минобрнауки.
Эти реорганизации потребовали больших сил и средств, для многих работников аппарата управления они значили куда больше, чем реформы в сфере образования как таковые. Как любые реорганизации, они отразили борьбу за власть, которая в России идет на уровне глубинного государства и нередко – в конфликте с фундаментальными общественными интересами.

Пример второй: высшие учебные заведения. Высшее образование – это не нечто абстрактное, а совокупность высших учебных заведений и то, что в них происходит. Если мы обратимся к началу 1990-х годов, то с удивлением обнаружим, что с того сравнительно недавнего времени сохранили свое название – свое известное всей стране, а нередко и всему миру имя – всего лишь полтора-два десятка вузов. Скажем, во всем мире была известна Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева, но сегодня она называется Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева. Потеряли свое имя все технические вузы, даже самые знаменитые. За период с 1991 по 2000 год общее число высших учебных заведений в стране выросло с 519 до 1115, зато с 2014 по 2017 год общее количеств вузов и их филиалов уменьшилось в России на 52%. Была проведена беспрецедентная кампания по объединению высших учебных заведений. Скажем, в рамках Московского политехнического института объединены такие разнородные вузы, как московские Автомеханический, Полиграфический, Автомобилестроительный институты и Институт химического машиностроения. Тюменский государственный университет включил в свой состав Тобольский и Ишимский педагогические институты, находящиеся от Тюмени на рас- стоянии соответственно 199 и 267 км по прямой и представляющие собой вполне сложившиеся вузы. Большинство, так сказать, присоединенных вузов продолжают жить своей жизнью, но влачат ее уже в тени главенствующего университета.
Нет нужды доказывать, что процесс реорганизации высших учебных заведений носил кампанейский характер и был слабо связан с задачами реформирования высшего образования. Во многих случаях эти реорганизации отрицательно сказывались на студентах и преподавателях и повсеместно порождали административную суету. Что же касается их позитивных последствий, то авторам настоящей статьи они неизвестны. Но известно другое: в ходе реорганизации вузов кардинально обновился руководящий состав высшей школы.
Пример третий: концептуальные аспекты. Это, пожалуй, самая сложная тема из затронутых нами. Попробуем ее проиллюстрировать на примерах терминологии. Хороший пример – отказ от понятия «дошкольное воспитание» в пользу понятия «дошкольное образование». Все мы хорошо знаем, что дошкольники еще не занимают сознательной позиции в деле приобретения знаний, которая необходима для получения образования, и поэтому развиваются под влиянием родителей, воспитателей и окружающей их среды. Но ангажированный законодатель этого не увидел и поэтому все же настоял на своем. Понятие «учащийся» теперь вытеснено термином «обучающийся», перевертывающим распределение ролей в учебном процессе между теми, кто учит, и теми, кто учится. Обучающийся становится ведущей стороной учебного процесса, заказчиком и потребителем «образовательных услуг». Но всегда ли это так в реальной жизни?
Эти мелкие детали отражают крупное общественное явление: революцию в умах и практике образования, которое из общественно-государственного дела превращается в частное, из обязанности и необходимой составной части становления личности в нечто партикулярное, отданное на откуп частным интересам. Ну а смена основополагающих смысловых и ценностных установок влечет за собой трансформацию уклада образовательных организаций, пересмотр академической культуры, а значит, и педагогики, и дидактики, и методики обучения. И именно эти явления и процессы, по мнению авторов, тормозят реформирование отечественной системы образования.
Заключение
Прежде чем делать выводы из сказанного, вспомним, что страны Западной Европы пришли к Болонской декларации в итоге длительной и кропотливой работы по гармонизации интересов всех участников и стейкхолдеров процессов высшего образования под эгидой фундаментальных интересов общества, государства и Европейского союза в целом. Именно для этого в Европе были созданы и активно использовались разнообразные тонкие механизмы, включая незнакомую нам до той поры аккредитацию вузов, рейтинги, зачетные единицы, европейское приложение к диплому об окончании вуза, образовательные стандарты, европейскую сетку квалификаций, тестирова- ние выпускников школ и др. Благодаря использованию инструментов унификации и централизации частных интересов удалось приблизиться к созданию единого европейского пространства высшего образования.
Вступив на стезю Болонского процесса, мы в России двинулись прямо в противоположном направлении – в сторону партикуляризации существовавшего у нас единого образовательного пространства. Внедряя заимствованные инструменты и механизмы, мы шаг за шагом разрушали целостную конструкцию отечественной высшей школы, отдаляли вузы от экономики, отказывались от системы подготовки специалистов, адаптированной к профессионально-квалификационной структуре занятого населения.
Почему же так получилось? С одной стороны, в силу недооценки успехов отечественной высшей школы и переоценки опыта Запада в аппарате управления образованием. С другой стороны, под влиянием пробудившихся в обществе частных интересов и недальновидно привнесенной в высшую школу экономики образовательных услуг. Это и привело к кризису второго рода, обусловленному ошибками в сфере организации и управления реформами.
Ошибки практики управления привели к стагнации высшего образования, оказавшегося неспособным в должной мере откликнуться на вызовы научно-технологической революции 4.0. В условиях, когда экономика стала испытывать потребность в инженерах, способных осваивать и генерировать инновации, наши вузы перешли к подготовке бакалавров.
Можно ли было избежать этих ошибок? По нашему мнению, безусловно, да. И реальным подтверждением нашему выводу может служить опыт развития высшего образования в Китае.
В то же время нельзя не видеть, что аналогичные ошибки допускаются у нас и в ходе реформирования экономики и социальной сферы в целом. Отсюда и многолетний застой в развитии производительных сил страны. Парадокс состоит в том, что именно реформы, именно созданная в ходе их проведения система управления блокируют экономический рост.
Вслед за Н.Г. Чернышевским зададимся вопросом: что делать?
На наш взгляд, избавляться от иллюзий. Отказ от практики и идей социализма ничего не изменил: Россия оказалась во враждебном окружении. А это озна- чает, что противостояние социализма и капитализма носило не идеологический, а геополитический характер. Оно укоренено не в наших взглядах и намерениях, а в устройстве миропорядка, сложившемся за века.Чтобы выжить и идти дальше, нам надо сочетать сильное государство и рыночную экономику, эффективное и продуманное руководство социально-экономическим развитием с мощными стимулами поддержки предприимчивости и инициативы. Надо делать то, что необходимо для процветания нашего общества, а не подражать другим странам.
Просчеты в практике управления реформированием образования, на наш взгляд, во многом связаны с отсутствием у нас серьезно поставленного социального прогнозирования. Чтобы высшая школа энергично участвовала в создании экономики и общества знаний, необходимы не локальные нововведения по чужим лекалам, а институциональные преобразования. Короче говоря, перед лицом больших вызовов, с которыми встретилась наша страна, нужны большие идеи, новые цели, ценности и смыслы, реалистичные качественные и количественные прогнозы возможных траекторий их достижения.
Список литературы Два измерения кризиса высшего образования в России
- Адлер Ю.П., Шпер В.Л. Образование в XXI в.: проблемы, перспективы, решения // Качество и жизнь. 2015. № 4. С. 37–45.
- Болонский процесс: нарастающая динамика и многообразие. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2002. 408 с.
- Григораш О.В. Высшее техническое образование в эпоху перемен // Высшее образование сегодня. 2018. № 3. С. 6–9.
- Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. М.: Высшая школа экономики, 2000. 608 с.
- Караваева Е.В. Квалификации высшего образования и профессиональные квалификации: «сопряжение с напряжением» // Высшее образование в России. 2017. № 12. С. 5–13.
- Кочергин А.Н. Образование как фактор национальной безопасности // Alma mater (Вестник высшей школы). 2018. № 9. С. 21–24.
- Максимов Н.И. Мерцающие функции УМО // Аккредитация в образовании. 2017. № 6 (98). С. 26–33.
- Соловьев В.П., Перескокова Т.А. Мониторинг образовательных организаций: правильный ли путь мы выбрали? // Высшее образование сегодня. 2016. № 6. С. 2–10.
- Соловьев В.П., Перескокова Т.А. Профессиональные и образовательные стандарты на службе экономики // Экономика в промышленности. 2017. № 3. С. 258–268.
- Шадриков В.Д. Кадры для инновационной экономики: как в действительности обстоит дело с их подготовкой? // Высшее образование сегодня. 2019. № 5. С. 2–10.
- Швецов Ю.Г. Сложившаяся система управления образованием – тяжкая обуза для учебных заведений // Высшее образование сегодня. 2017. № 9. С. 67–72.
- Шехонин А.А., Тарлыков В.А., Вознесенская А.О., Бахолдин А.В. Гармонизация квалификаций в системе высшего образования и в сфере труда // Высшее образование в России. 2017. № 11. С. 5–11.
- Фальков В.Н. Баланс «лириков» и «физиков» // Аргументы и факты. 2020. № 11.
- Нив Генри Р. Пространство доктора Деминга: принципы построения устойчивого бизнеса. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 370 с.


