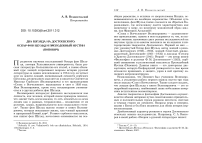Два взгляда на Достоевского: Оскар фон Шульц и преподобный Иустин (Попович)
Автор: Великосельский Александр Владимирович
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.9, 2011 года.
Бесплатный доступ
Данная статья содержит сравнительный анализ двух работ исследователей творчества Достоевского - финского слависта Оскара фон Шульца и сербского религиозного мыслителя Преподобного Иустина Поповича. Внимание уделяется прежде всего системе и эволюции положительных и отрицательных героев романов Достоевского в контексте веры и неверия.
Достоевский, фон шульц, преподобный иустин попович, николай сербский велимирович
Короткий адрес: https://sciup.org/14748809
IDR: 14748809
Текст научной статьи Два взгляда на Достоевского: Оскар фон Шульц и преподобный Иустин (Попович)
П редметом научных исследований Оскара фон Шульца, лектора Хельсинкского университета, была русская литература. Большинство его статей, а также объемный курс лекций затрагивают вопросы истории русской литературы за одним исключением: в 1934 году он читает курс из девяти лекций, посвященный личности сербского богослова, религиозного мыслителя и писателя Святителя Николая Сербского (Велимировича) и его произведению «Слова о Всечеловеке», вышедшему в свет в 1920 году. Имя Велимировича, кроме того, неоднократно упоминается и в других работах фон Шульца.
Велимирович интересует финского исследователя как личность, как человек, который своим примером показал, что значит быть всечеловеком, то есть относиться ко всем людям как к равным, «справедливо... независимо от их религии, языка, национальности или социального статуса»1. Также фон Шульц высоко ставит и книгу Велимировича, которая показывает жизнь, как «самый красивый и прекрасный Божий дар»2. В книге сербского мыслителя, как пишет фон Шульц, всечеловек основывается на все-
общем равенстве, в отличие от сверхчеловека Ницше, основывавшегося на всеобщем неравенстве. Объясняя суть всечеловека, фон Шульц также ссылается на «Братьев Карамазовых», где всечеловеку дается характеристика как живущему в миру, но ведущему монашеский образ жизни, как Франциск Ассизский3.
«Слова о Всечеловеке» Велимировича — художественное произведение, однако в нем содержится то, что, по нашему мнению, вдохновило двух разных исследователей на научные труды и во многом повлияло на их видение и интерпретацию творчества Достоевского. Первый из них — уже упомянутый Оскар фон Шульц, автор лекций о романах Достоевского (1926—1930), лекций «Светлый, жизнерадостный Достоевский» (1931—1932) и доклада «Гитлер и Христос Достоевского» (1941). Второй — это автор книги «Философия и религия Ф. М. Достоевского»4 (1923), сербский священник и религиозный мыслитель Преподобный Иустин (Попович). Данная книга — его докторская диссертация, которую Оксфордский университет в свое время отказался принимать к защите, узрев в ней критику западного антропоцентризма.
Немаловажно, что Попович был учеником Велимировича, а указанная работа первого вышла спустя три года после выхода «Слов о Всечеловеке». Также следует сказать, что лекции фон Шульца о книге Велимировича — это ее подробный пересказ, снабженный лишь небольшим авторским вступлением-комментарием.
Анализ творчества и философии Достоевского осуществляется обоими авторами путем сопоставления отрицательных и положительных героев романов писателя, светлых и темных сторон их личности. Вопросы веры и неверия, жизни с Богом и без Бога являются для обоих авторов первостепенными.
Двойственный характер романов и героев Достоевского отмечали многие исследователи. Например, С. А. Венгеров в своей работе «Очерки о русской литературе» пишет:
Никто не заражает в такой степени своим религиозным экстазом, как Достоевский, и никто не опускается в такие неизмеримо глубокие бездны неверия5.
В одной из глав своей книги Велимирович пишет:
— Пахари, когда Ангел ходит, дьявол прячется в его тени. Когда дьявол ходит, Ангел скрывается в его тени6.
Дьяволодицея и православная теодицея являются и смысловыми организующими в книге Преподобного Иус-тина, в которой рассматриваются два типа героев Достоевского, первый из которых выбирает путь без Бога, второй — Божий путь. При этом поиск Бога является целью и смыслом жизни обоих типов, но Достоевский в своих романах показал на примере «христоликих» героев, как выбрать путь Бога и не поддаться на искушения дьявола.
При постановке двух главных вопросов у Достоевского — существования Бога и бессмертия души — положительный или отрицательный ответ на них характеризует героев романов.
Философия отрицательных героев Достоевского в книге Поповича — «философия атеизма и религиозного бунта»7. Такие герои, изображенные исследователем в эволюции — от сомневающегося, отрицающего к бунтующему — не принимают бессмысленного трагизма мира (например, рассуждения Ивана Карамазова о невинных страданиях детских), обвиняя Бога, они утверждают дьявола. Преподобный Иустин подчеркивает «ужасные противоположности», которые сходятся в сердцах героев Достоевского: с одной стороны, это положительный тип героя — старается сохранить личность, с другой — отрицательный — слишком много смысла и важности вкладывает в человека, что приводит, по убеждению Поповича, к страшному результату:
.. .вера в разум человеческий — самый надежный путь, ведущий через разочарование в отчаяние, а из отчаяния к бунту, к неприятию, к нигилизму и анархизму8.
Поэтому стадии развития судьбы героев Достоевского, отрицающих существование Бога, таковы: 1) неприятие этого мира Божьего; 2) неприятие Христа, Божьего Логоса; 3) отсюда — все позволено; 4) все позволено созданному «человеко-богу»9. Однако против такого принципа протестует человеческая совесть: Рогожин, Кириллов не принимают этого мира, божьего мира, а внутренняя гордость не позволяет им смириться, в результате единственным выходом из этой проблемы, как пишет Преподобный Иус-тин, они видят самоубийство:
Совершить самоубийство, а через самоубийство и бого-убий-ство — это и есть первая и главная обязанность первого че-ловеко-бога10.
Те же из героев, кто не совершает самоубийства, как считает Преподобный Иустин, остаются верны своей идее:
Отчасти он (Раскольников. — А. В.) покаялся, отчасти нет. Животно, биологически покаялся, а умственно, логически — нет11.
Итоговая мысль первой части книги Поповича заключается в том, что «все творцы человеко-бога достигают наивысшего проявления и полноты своего существа в полном распаде личности»12, доказав своим атеизмом существование дьявола.
И отрицательный герой Достоевского, по фон Шульцу, — бунтующий, отрицающий тип, бунт которого по-разному, но непременно также заканчивается крахом: индивидуальные бунты Раскольникова, Ивана Карамазова, Кириллова. Невозможность существования так называемого Хрустального замка, утопического социализма Фурье, Сен-Симона и Чернышевского, как пишет финский исследователь, Достоевский в «Записках из подполья», в «Бесах» (Шигалевщина) и в «Братьях Карамазовых» («Великий инквизитор») доказал невозможность преобразить мир без Бога.
Однако отличительная особенность работ фон Шульца, которая сближает их в идеологическом смысле с книгой Святителя Николая Сербского, — это светлая трактовка философии отрицательных героев Достоевского, или восприятие отрицательного через положительное. Так, крах бунтовщиков Ивана и Смердякова фон Шульц объясняется не протестующей гордостью, а тем, что «двойник их, второе лучшее “я” их после убийства не перенесло мысли о совершенном ими преступлении». Таким образом, причина их самоубийств — невыносимое бремя греха, которое испытало на себе их, как выразился исследователь, «лучшее “я”».
Отсутствует в лекциях фон Шульца и прямое противопоставление Христос — Антихрист, какое мы встречаем у Поповича, а само слово «дьявол», его производные или синонимы встречаются лишь в нескольких цитатах.
Вместо этого фон Шульц прибегает к своеобразному приему, который используется им, например, в уже упоминавшемся ранее докладе 1941 года, в котором антихрист воплощен в образе Гитлера, который, по мнению исследователя, многие основы своего учения взял из романов Достоевского, по-своему интерпретировав и исказив их смысл:
...пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха...13
Так говорит Великий Инквизитор — в 1940 году в Германии выходит Библия, где слово «грех» взято в кавычки как нечто не существующее. Великий Инквизитор говорит, что нет ничего мучительнее для человека, чем свобода его совести — у Гитлера читаем:
Промысл предназначил меня... освободить человечество от самоучения и заблуждения, которое называется совестью и моралью14.
Гитлер проигнорировал вторую, главную составляющую учения Достоевского — доказательство существования Христа. И если бы Достоевский действительно ограничился только доказательством существования дьявола, пишет Преподобный Иустин, «...горе ему...»15.
Главная заслуга Достоевского в том, как считает Преподобный Иустин, что он доказал существование Бога и на примере своих положительных героев указал путь к Нему.
В главе «Вспашка нивы» книги Велимировича читаем:
Всечеловек видит в каждом создании двоичность: Бога и самого себя. Из-за Первого — он почитает каждое создание до обожания, а из-за второго — симпатизирует каждому созданию до самопожертвования16.
Для обоих типов героев Достоевского Бог — мучение. Но если отрицательные герои Достоевского подавляют его бунтом, то для положительных героев решением является смирение, а философией их — «философия теизма и религиозного смирения»17.
Ступившие на путь Христа — это положительные герои Достоевского — старец Зосима, Алеша Карамазов, Мышкин, Макар Иванович, основа всей жизни которых — любовь — деятельная любовь к Богу:
.. .христоликие герои его любят всех людей, любят всю тварь, ибо любят чудесного Бога-Христа...18
Преподобный Иустин уделяет особое внимание проблеме человека в европейском контексте, он критикует излишнее внимание к человеку, сознание и самосознание которого утеряло связь с Богом. Это социальный аспект его работы.
Работы Оскара фон Шульца вообще социальны по своей сути — проблематика в литературе часто сопоставляется с исторической, постоянно приводятся примеры из реальной жизни, подтверждающие, усиливающие или опровергающие какое-либо высказывание.
В своих трудах он рассматривает проблему соотношения религии и религиозности. Положительные герои Достоевского, по мнению исследователя, имеют связь с Богом, что отличает людей, преисполненных не религиозностью, но религией. Сострадание и жалость, как считает финский исследователь, «могут быть вызваны только глубокою самоотверженною любовью, такою любовью, которая никогда не может создать религиозность, проходящее настроение, а только глубокая сильная религия, связь с источником любви — Богом»19.
Но эта любовь не статична, а всегда деятельна, активна: Соня Мармеладова успела проявить эту любовь на деле, в жизни. Зосима умирал, но передал перед смертью любовь свою Алеше, неоднократно говоря ему:
Поспеши найти, завтра опять ступай и поспеши, все оставь и поспеши. Может, еще успеешь что-либо ужасное предупредить20.
Фон Шульц пишет:
Связь с источником любви наполняет душу любовью, любовью, готовою на такие жертвы, которые не понятны нам, обыкновенным людям, любовью, распространяющейся на самых, казалось бы, дурных, грешных в церковном смысле людей21.
Поэтому у таких людей, как у Зосимы, могут вырваться, на первый взгляд, парадоксальные слова:
Люби человека в его грехах, люби и самый их грех22.
Это высказывание, по мнению финского исследователя, отсылает нас к Тихону Задонскому, который в конце своего 45-го письма из цикла «Письма посланные» сказал:
Грех должно нам ненавидеть, а не человеков, а их любить должно и не ненавидеть, но молиться за них23.
Грешники в первую очередь — великие страдальцы, поэтому и Соня перед Раскольниковым, поклонившись, вскричала:
Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете!24
Именно поэтому Зосима перед смертью сказал Алеше, намекая на свой поклон Дмитрию:
Я вчера великому будущему страданию его поклонился25.
С людьми следует обращаться «так же любовно, так же участливо и сострадательно... как вы обращаетесь с любимыми больными, особенно с больными детьми, — пишет фон Шульц. — Чем с обыкновенной точки зрения преступнее, хуже люди, а с церковной, грешнее, тем больше надо к ним испытывать сострадания, участия, жалости»26.
В главе «На пути по кругу» книги Велимировича высказана, на наш взгляд, основная мысль всей книги:
Знайте, близнецы мои... Всечеловек — то, что в лжеце не лживо, не воровато в воре, не поджигательно в поджигателе, что не разрушительно в завоевателе, и не блудно в блуднике, и не пугливо в запуганном, и не жадно в жадном, и не боязливо в умирающем. Это Всечеловек...27.
Объясняя крах философии бунтующих героев Достоевского, фон Шульц формулирует близкую мысль:
Все их попытки окончились неудачею и кончились так... по самой неожиданной для них самих причине, потому что их натура оказалась двойственною, как натура всех действующих лиц Достоевского, и на дне их двойника, неожиданно для них самих, оказалось гораздо более веры в Бога, бессмертие и нравственность, гораздо более совести, чем они сами то подозревали28.
У Поповича двумя главными являются вопросы существования Бога и бессмертия души, у фон Шульца это вопросы о вере в бессмертие Бога и в обязательную христианскую мораль, которая выражается в теме «Русский Христос» и представляет собой воплощение христианских ценностей, которые впитал в себя в течение многих веков русский народ.
Читая воспоминания Лидии Ивановны Веселитской-Микулич29, находим слова Достоевского о том, что русское интеллигентское общество может ждать спасения только от народа, потому что в народе есть праведники (в народе есть Русский Христос — Христовы идеалы). И Достоевский, как пишет фон Шульц, предлагает путь, который он называет «путь русского Христа», «путь всечеловека» или «путь иночества в миру» и образцы которого дает в лице Макара Иваныча в «Подростке», князя Мышкина в «Идиоте» и старца Зосимы и Алеши в «Братьях Карамазовых».
Сербский и финский исследователи сходятся в главном: в Достоевском оба видят христианского, православного апостола, своим писательством показавшего истинный путь человеческий — путь к Богу.
Опыт активной любви как метод богопознания и самопознания в книге Преподобного Иустина является «новозаветным, апостольским методом, методом православной философии...»30. Активная любовь — одно из главнейших свойств «Русского Христа» у фон Шульца.
«...чудесная Личность Богочеловека Христа — единственный настоящий, единственный вечный, самый высший оптимизм и благовествование»31 — такова позиция обоих исследователей. Их взгляды на первостепенную роль сострадания и сочувствия, сопереживания чужого греха также совпадают.
«Единение людей невозможно без братства, а братство невозможно без общего Отца...» Фон Шульц также говорит о братском отношении людей друг к другу, всеобщем равенстве, а те, кого он выделяет в качестве людей, живущих и ведущих свою деятельность в соответствии с этими установками, называет духовно достойными людьми.
Соучастие — самый главный и, может быть, единственный закон жизни всего человечества32.
Вспоминается глава из «Дневника писателя», которую цитирует фон Шульц в своей статье «Всечеловек». На похоронах доктора Гинденбурга, когда почтить память его собрались представители разных конфессий, его участие в их судьбах соединило людей.
«...нынешнее христианское общество держится на малочисленных праведниках...»33 — Оскар фон Шульц неоднократно приводит целый ряд имен людей, всецело посвятивших себя помощи нуждающимся, например Матильда Вреде, которая помогала заключенным. Шульц использует эти реалии как примеры добродетельного отношения к людям и готовности отдать свою жизнь ради другого:
Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только... при самом сильном развитии личности34.
«Стать христоликим — цель человеческой личности»35 — об этом пишет и Шульц, цитируя Достоевского: «...все должны стремиться быть “вселюдьми”»36.
Однако во взглядах исследователей есть и некоторые отличия. Главное из них заключается в том, что Попович занимает позицию религиозного, православного мыслителя, точка зрения фон Шульца представляется более светской. Так, например, в системе последнего нет явной дифференциации разных религий, нет противопоставления, а соответственно и такой категоричной критики католицизма и европейского антропоцентризма, как у Поповича:
Проблема Европы есть проблема католицизма...37
Католицизм «проповедует Христа искаженного, Христа очеловеченного, Христа, созданного наподобие европейского человека»38. У финского исследователя преобладают единство ценностей и стремление как раз устранить рели- гиозную дифференциацию путем активной защиты общих христианских добродетелей; названия конфессий практически не встречаются в его лекциях, за исключением цитируемых.
Преподобный Иустин сказал однажды, что русская душа из всех земных душ имеет самый жуткий ад и самый чарующий рай. У фон Шульца, как уже отмечалось, нет подобных противопоставлений, нет Антихриста, есть лишь Христос — исключительно светлый образ и идеал Достоевского. Шульц акцентирует внимание на позитивных явлениях человеческого духа. Примеры негативных сторон человеческой души лишний раз «демонстрируют, как мало... преуспел человек в своем развитии»39, именно положительные стороны развития, по мнению ученого, первостепенны, и именно их он старается узреть в душах даже самых грешных героев Достоевского.
Итак, Оскар фон Шульц и преподобный Иусти (Попович) являются единомышленниками.
Решение «проклятых проблем», к которому в результате исследования творчества Достоевского приходят оба исследователя, — это «личное подвижничество через хри-столикие добродетели»40. Оно является общим знаменателем поисков обоих ученых и выводом из проделанного сравнительного анализа их концепций. Это «личное подвижничество» и продемонстрировал своей жизнью Франциск Ассизский и своими произведениями — Федор Достоевский.
Список литературы Два взгляда на Достоевского: Оскар фон Шульц и преподобный Иустин (Попович)
- Schoultz O. von. Velimirovič's bok om allmäniskan. Helsinki, 1934. 1 föreläsningen. С. 2.
- Преподобный Иустин (Попович). Философия и религия Ф. М. Достоевского. Минск, 2007.
- Венгеров С. А. Очерки о русской литературе. СПб., 1907. С. 83.
- Епископ Николаj. Речи о Свечовеку//Святитель Николай Сербский. Избранное. Минск, 2004. С. 10 (гл. «Вспашка нивы»).
- Шульц О. фон. Христос Достоевского//Шульц О. фон. Светлый, жизнерадостный Достоевский. Петрозаводск, 1998. С. 310.
- Шульц О. фон. Братья Карамазовы. Хельсинки, 1929. С. 32 (4-я лекция).
- Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы//Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 13. СПб., 1904. С. 301.
- Шульц О. фон. Братья Карамазовы. С. 33 (5-я лекция).
- Тихон Задонский. Письма посланные//Тихон Задонский. Творения иже святых отца нашего Тихона Задонского. СПб., 1908. [Книга 3]. Письмо XLV. С. 318.
- Достоевский Ф. М. Преступление и Наказание//Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Канонические тексты. Петрозаводск, 2007. Т. VII. Глава IV. Часть 5. С. 397.
- Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы//Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 13. СПб., 1904. С. 301.
- Шульц О. фон. Братья Карамазовы. С. 33 (4-я лекция).
- Шульц О. фон. Братья Карамазовы. С. 12 (2-я лекция).
- Микулич В. Достоевский//Микулич В. Встречи с писателями. Л., 1929.
- Schoultz O. von. Allmänniskan//Fred på jorden. Helsinki, 1933. № 9-10. С. 70-74.
- Schoultz O. von. Ryska litteraturens historia i exempel. Helsinki, 1934-1935. С. 14.