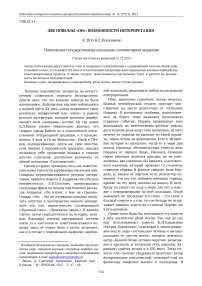Две новеллы «Он»: возможности интерпретации
Бесплатный доступ
Автор статьи анализирует новеллу «Он» Л.Андреева в сопоставлении с одноимённым текстом Мопассана. Становится ясно, что в начале ХХ века в отечественной литературе явно проявились влияния европейских повествовательных практик. В обоих случаях, повествователь выстраивает текст в расчёте на возможность нескольких интерпретаций.
Интерпретация, герменевтика, метод «точки зрения»
Короткий адрес: https://sciup.org/148102141
IDR: 148102141 | УДК: 82-14
Текст научной статьи Две новеллы «Он»: возможности интерпретации
Влияние европейских литератур на отечественную словесность отрицать бессмысленно. Другое дело, что это влияние никогда не было однородным. Любопытная картина наблюдается в первой трети ХХ века, когда появляются сразу несколько направлений или «школ» в рамках русской литературы, которые всячески подчёркивают свои «западные» истоки. Не так давно Д.Л.Быков вполне убедительно доказал, что «корни» прозы Бабеля не в классической отечественной литературной традиции, а в произведениях Э.Золя и Ги де Мопассана 1 . Ильф и Петров, подчёркивавшие, опять же, свои пристрастия именно к европейской традиции, нередко позволяли себе ироничные выпады в сторону русских классиков, достаточно вспомнить их общий псевдоним «Толстоевский».
Одним из ярких примеров того, как повествовательные стратегии зарубежных писателей оригинально переосмысливаются русским литератором, является повесть Л.Андреева «Он (Рассказ неизвестного)». Л.Н.Толстому приписывалась следующая фраза по поводу мистических рассказов Андреева: «Он пугает, а мне не страшно». Однако «Он» - это не очередная попытка погрузить читателя в пространство некоего кошмарного сна или наркотических галлюцинаций («Красный смех», «Проклятие зверя»). В данном случае, автор сосредоточился на истории, которая, благодаря искусно выстроенной системе лакун (а о хаотичности повествовательного порядка здесь не может быть и речи), позволяет, как и в случае с современной Андрееву зарубеж-
ной классикой, реципиенту выбор из нескольких интерпретаций.
Итак, напомним сюжетную линию новеллы. Бедный петербургский студент получает приглашение на место репетитора от господина Нордена. В роскошном особняке, расположенном на берегу моря начинают происходить странные события: Норден провоцирует всех домочадцев на неестественно-весёлые пляски, дети хозяина дома ведут себя наигранно, их мать почему-то никогда не выходит из своей комнаты, играя оттуда на фортепиано. Есть и загадочная история из прошлого: когда-то в море при весьма странных обстоятельствах утонула дочь Нордена от первого брака. Наконец, главному герою начинает являться призрак, но не утопленницы, как следовало бы ожидать, а неизвестного мужчины, который проводит со студентом странные обряды. В финале умирает жена Нордена, и, увидев её мёртвое тело, репетитор понимает, что это его любимая женщина (правда, прежде он эту даму никогда не видел). В полубреду он уходит по льду в море, где его и находят с отмороженными на ноге пальцами. Герой выживает, но последние его слова – это слова о близкой смерти и о том, что он больше не испытывает никаких чувств ни к госпоже Норден, ни к её падчерице.
Проще всего было бы истолковать эту повесть в духе английских ghost stories. Так, как до сих пор истолковывают повесть Н.М.Карамзина «Остров Борнгольм», отыскивая в многоуровневом тексте лишь «готические» мотивы и пытаясь разгадать то «пустое место», которое, думается, автор «Бедной Лизы» оставил нарочно, разыгрывая и критиков, и читателей (что, впрочем, Карамзину удаётся делать и в ХХI веке). Тогда повесть «Он» получит следующую трактовку: автор воспроизводит классический, знакомый ещё по фольклору конфликт мачехи и падчерицы. В прошлом, вторая жена Нордена погубила старшую дочь, сымитировав несчастный случай, в расчёте на состояние, которое достанется её детям. Как объяснить её заточение и появление призрака-мужчины? Логичнее всего будет такое развитие толкования: впоследствии у госпожи Норден появился любовник, которого убил ревнивый муж. С тех пор, зимой, когда приближается время совершения преступления, привидение начинает ходить под окнами особняка. Обряды, которые он проводит со студентом, приводят к тому, что дух покойного овладевает телом репетитора. Тогда становится ясной неожиданная влюблённость молодого человека в никогда не виденную им госпожу Норден. И, следовательно, получается, что все точки над i расставлены. Но насколько близка подобная интерпретация к авторской интенции?
Второй вариант: перед нами повествование в духе «Поворота винта» Г.Джеймса. Предположив, что Андреев использует метод «точки зрения» американского писателя, можно прийти к ещё одной трактовке новеллы: перед нами история помешательства. Расстроенная петербургскими превратностями судьбы психика молодого человека не выдерживает уединенного и однообразного существования в особняке Нордена и даёт сбой. Репетитор становится недоверчивым, подозрительным, а потом и вовсе сходит с ума, о чём свидетельствуют его навязчивые видения (появление призрака). И подобная интерпретация представляется вполне возможной, поскольку повествование ведётся от первого лица, и никаких объективных свидетельств со стороны в тексте не обнаруживается. Читателю придётся определиться – доверять ли герою-повествователю?
Однако думается, что само название повести даёт ещё одну возможность для интерпретации. В 1883-м году (разница с выходом повести Андреева чуть ли не юбилейная, в тридцать лет), Ги де Мопассан пишет новеллу с точно таким же названием, «Он?», разница лишь в наличии вопросительного знака. Формально в произведении Мопассана тоже присутствует призрак, но истолковывать новеллу как «готическую» или «ghost stories», вряд ли, кому-нибудь придёт в голову. Автор материализует абсолютное одиночество своего героя, которое отныне преследует его и пугает. Таким образом, называя свою повесть «Он», Андреев даёт читателю подсказку.
Мир поместья Норденов – это мир уничтоженного прошлого времени. Каждое утро слуги специальным приспособлением стирают следы, оставленные на гравии дорожек. Оставить след – засвидетельствовать своё неалиби в бытии (по
Бахтину), присутствие во времени. Время нарочно уничтожается в доме Норденов, будто таким образом можно одолеть смерть. Характерна в этом плане сцена, когда герой удивляется игривому и смешливому тону речи работодателя, рассуждающему о… смерти собственной дочери! Смерть была в прошлом, а прошлого не существует, его стирают. В доме всё мертво: действия, высказывания обитателей особняка напоминают повторяющиеся движения механизмов, кукол. Закрытая в комнате жена Нордена дополняет картину – перед нами музыкальная шкатулка! Изнутри доносится музыка, исполняемая невидимым механизмом, а на поверхности танцуют фигурки, представляющие собой, чаще всего, пары. Искусственная жизнь, которая демонстрирует, что, на самом деле, жизнь и смерть в доме Норденов поменялись местами. Смех, который звучит на танцах и праздниках в особняке – это смех, лишённый комического начала. Смех, который, по Бергсону, объединяет, сплачивает людей в некую общность2. Именно такую функцию он и выполняет в особняке Норденов, дополняя имитацию жизни. Призрак, появляющийся в доме, приносит с собой чувство тоски: «И от руки (незнакомца – К.П.) исходили сон и тоска – сон и тоска»3. Положение студента в доме Нордена – это пограничное положение между жизнью (собственной, подлинной жизнью) и смертью (искусственной жизнью Норденов), между будущим, которого нет (дети – это всегда будущее, а мертвенные движения детей позволяют об одном из героев сказать: «словно это был не ребёнок, а кто-то, в угоду взрослым добросовестно исполняющий обязанности ребёнка»4. Приведённая цитата позволяет говорить, что ребёнок умер в этом персонаже, то же самое касается и маленькой дочери Нордена), и прошлым, которое старательно уничтожают. Призрак, как и в новелле Мопассана, – это материализация сна и тоски, двух состояний, которые охватывают героя, заполняют его. Мир, созданный Норденом, можно рассматривать и как мир, состоящий из симулякров: дети, играющие роли детей; отец, смеющийся для того, чтобы изобразить веселье и побуждающий к этому других; нагромождения лжи, под которыми истинное (если оно вообще есть) уже не просматривается. Сон становится побегом из жизни-смерти, а тоска проводит границу между миром Нордена и миром главного героя. Неудивительно, что единственные неподдельные эмоции репетитор испытывает в отношении мёртвой женщины. В вывернутом наизнанку мире особняка Норденов, только настоящая смерть и может вызвать живые чувства, а уходя по льду к верной гибели, студент, согласно этим перевёрнутым координатам, стремится к жизни.
Довольно забавным представляется и тот факт, что Набоков, критиковавший и пародировавший Андреева5, в той же «Защите Лужина» изобразит семью, весьма напоминающую Норденов, - семью, которая разобщена, разбита, но в которой глава фамилии усиленно строит хорошую мину при плохой игре.
В любом случае, повесть Л.Андреева «Он. Рассказ неизвестного» обладает одной из самых значимых черт модернистской поэтики: она предоставляет реципиенту возможность сотворчества, соавторства, оригинально используя приёмы, позаимствованные у зарубежных литераторов.
TWO NOVELS ENTITLED “HE”
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities
Список литературы Две новеллы «Он»: возможности интерпретации
- Быков, Д. Советская литература. Краткий курс/Д.Быков. -М.: ПРОЗАиК, 2013. -С. 67 -68.
- Бергсон, А. Смех/А.Бергсон. -М.: Искусство, 1992. -С. 8.
- Андреев, Л. Он/Л.Андреев//Готическая проза серебряного века. -М.: ЭКСМО, 2009. -С. 148.
- Дарк, О. Примечания/О.Дарк//В.Набоков. Собрание сочинений в четырёх томах. -М.: Правда, 1990. -Т. 2. -С. 437 -438