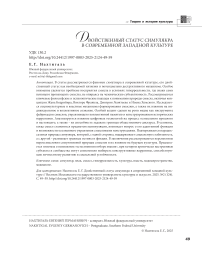Двойственный статус симулякра в современной западной культуре
Автор: Нахтигаль Е.Г.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 2 (124), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается феномен симулякра в современной культуре, его двойственный статус как необходимой иллюзии и потенциально деструктивного механизма. Особое внимание уделяется проблеме восприятия смысла в условиях гиперреальности, где знаки сами начинают производить смыслы, не опираясь на человеческую субъективность. Рассматриваются ключевые философские и психологические подходы к пониманию природы смысла, включая концепции Жана Бодрийяра, Виктора Франкла, Дмитрия Леонтьева и Ноама Хомского. Исследуются социокультурные и властные механизмы формирования смыслов, а также их влияние на индивидуальное и коллективное сознание. Особый акцент сделан на роли медиа как инструмента фабрикации смыслов, управляющего коллективной памятью и конструированием исторических нарративов. Анализируется влияние цифровых технологий на процесс осмысления прошлого и настоящего, а также – их способность задавать границы общественного дискурса. В условиях, когда смысл становится предметом манипуляции, возникает вопрос о его адаптивной функции и возможности осознанного управления смысловыми конструкциями. Подчеркивается парадоксальная природа симулякра, который, с одной стороны, поддерживает социальную стабильность, а с другой – размывает границы истины и фикции. В заключении рассматриваются перспективы переосмысления симулятивной природы смыслов и их влияние на будущее культуры. Предлагается гипотеза о возможном «естественном отборе знаков», при котором критически настроенные субъекты и сообщества могут сознательно выбирать конструктивные нарративы, способствующие личностному развитию и социальной устойчивости.
Симулякр, знак, смысл, гиперреальность, культура, власть, медиапространство, медиаполе
Короткий адрес: https://sciup.org/144163440
IDR: 144163440 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-2124-49-59
Текст научной статьи Двойственный статус симулякра в современной западной культуре
Постановка вопроса
Современная культура все чаще предстает как пространство, в котором границы между реальностью и представлением о ней размываются, а различие между оригиналом и копией становится все менее очевидным. Мы живем в мире, насыщенном знаками и образами, которые претендуют на отражение действительности, но при этом существуют автономно, утрачивая связь с физической реальностью. От тщательно отредактированных снимков в социальных сетях до цифровых аватаров и алгоритмически сгенерированных новостей повседневность все более структурируется симуляциями, подменяющими «подлинное» искусственно сконструированными формами.
Этот феномен находит свое концептуальное выражение в понятии симулякра , разработанном Жаном Бодрийяром, который утверждал, что в постмодернистскую эпоху знаки перестают отсылать к реальности и начинают воспроизводить лишь самих себя. В отличие от классического представления об имитации, где копия сохраняет связь с оригиналом, симулякр утрачивает эту связь, становясь самодостаточным. В результате возникает эффект гиперреальности – состояния, в котором граница между реальным и виртуальным разрушается, а симулякры начинают определять наше восприятие мира.
Анализ современной культуры и свойственной ей симулякров присутствует в работах многих авторов, среди которых П. Вири-льо: восприятие мира через СМИ [3]; А. Адор- но: культурная индустрия и коммодификация знаков [1]; Ж. Делез и Ф. Гваттари: цивилизованная капиталистическая машина [4]; Ж. Лакан: исследование знаков через субъективность [5]; Г. Маркузе: критическая теория общества [9]; Б. Латур: от человека к гибриду [6] и др. Если обобщить столь разные взгляды на общественное устройство, то в их основе будет идея, что современная культура функционирует как автономная система, где знак и его репрезентация приобретают автономию благодаря присвоению смыслов.
Так, известный российский психолог Д. А. Леонтьев в своей обширной монографии «Психология смысла» определяет смысл как открытое отношение субъекта к объекту, включающее в себя понимание того, что этот объект означает в контексте жизненного опыта индивида: «Выявить связь чего-либо с преследуемой субъектом целью, с содержанием мысли или с намерением – значит раскрыть его смысл, значит обеспечить определенное понимание, наиболее примитивное и наиболее фундаментальное» [7, с. 27]. Но именно тогда, когда знак начинает не просто обозначать что-то существующее, но и приобретает способность создавать новые смыслы, он превращается в независимый элемент культуры, отделяющийся от своего первоначального объекта или реальности – он становится симулякром . Этот процесс приводит к тому, что знаки начинают воспроизводить самих себя без участия человека, что наделяет симулякры двойственным статусом.
С одной стороны, симулякры создают новые формы познания и взаимодействия, открывают пространство для самовыражения, экспериментирования и альтернативных реальностей. Они лежат в основе цифровых технологий, медиапространства и современной экономики впечатлений. С другой стороны, они формируют иллюзию подлинности, заменяя живой опыт его медиа-образами, что приводит к эффекту отчуждения и подмене смыслов. Когда симулякры проникают в политическую и экономическую сферу, создавая фиктивные повестки, управляемые общественные настроения и маркетинговые стратегии манипуляции, проблема их осмысления становится особенно актуальной. Возможно ли, что состояние смыслового хаоса является естественным завершением истории развития знаков, к которому мы неизбежно придём с развитием технологий?
Цель данной статьи – исследовать феномен симулякра в современной культуре с точки зрения смысла, проанализировать его влияние на восприятие реальности и рассмотреть возможные способы его интерпретации. Внимание будет уделено тому, как симулякры формируют наше представление о реальности в медиапространстве, политике, экономике и повседневных практиках, а также – возможным стратегиям критического отношения к этому явлению.
Двойственный статус и двойная сложность проблемы
Фраза «двойственный статус» действительно подразумевает наличие двух противоречивых характеристик или ролей одного и того же явления. С одной стороны, современный мир все больше строится на симулякрах – знаках, которые больше не указывают на реальность, а замещают ее. Жан Бодрийяр описывал это как переход к гиперреальности, где оригинал исчезает, а остаются только копии, которые создают иллюзию подлинности. С другой стороны, несмотря на доминирование симулятивного, сохраняются попытки выйти за пределы симулякра и добраться до «подлинной» реальности. Это выражается в философских дискуссиях о сущности бытия, стремлении к аутентичности, разоблачении фальши в медиа или критике цифровой культуры. Люди продолжают задаваться вопросами о том, что реально, а что – лишь иллюзия.
Однако в этом отношении больше всего интересно рассмотреть этот вопрос с позиции философа Дональда Хоффмана о том, что человеческое восприятие формирует «интерфейс», который упрощает реальность: «Пространство, каким вы его воспринимаете, когда оглядываетесь вокруг, просто ваш рабочий стол – трехмерный рабочий стол» [13, с. 9]. Хоффман утверждает, что наше восприятие эволюционно оптимизировано не для точного отражения реальности, а для эффективного выживания. То есть то, что мы воспринимаем, – это не реальная структура мира, а удобная «графическая оболочка». Это очерчивает дополнительную глубину проблемы: что если двойственный статус симулякра – это не просто культурный феномен, но важнейший философский вызов современности? Можно ли достичь подлинной реальности, если даже наше само восприятие мира симулятивно?
Именно этот вопрос в своем крайнем выражении ставит гипотеза Омфалоса, предложенная в 1857 году английским натуралистом Филиппом Госсе. В своей книге «Omphalos: An Attempt to Untie the Geological Knot» Госсе утверждал, что Бог мог создать мир с уже заложенными в него признаками исторического прошлого: деревья с кольцами, свидетельствующими о десятках лет роста, окаменелости, дающие иллюзию эволюции, свет от звезд, которые, согласно научным расчетам, должны были существовать миллионы лет, чтобы этот свет достиг Земли. Однако все это могло быть создано в один момент; иными словами, мир не обязательно имеет прошлое, каким оно нам кажется: «Условия, засвидетельствованные таким образом, как обязательно подразумеваемые в настоящем мире, не существовали; история была совершенно пустой до момента акта творения» [15, Pp. 125].
Эта гипотеза, отвергнутая научным сообществом того времени, неожиданно приобрела новый смысл в эпоху симулякров. Госсе неосознанно предвосхитил логику гиперреальности: если мир устроен так, что ничем не выдает свою созданность, то какая разница, был ли он когда-либо «настоящим»? Современная культура живет по этому же принципу: мы имеем биографии, наполненные образами и событиями, но большая часть этих образов формируется не через непосредственный опыт, а через медиа, интерпретации и ретроактивные реконструкции.
Следовательно, гипотеза Омфалоса ставит перед нами главный вопрос: если даже мир может быть симуляцией, в чем разница между «подлинным» и «созданным» смыслом? В этом отношении гиперреальность не просто играет с реальностью – она ее заменяет, но делает это настолько гладко и последовательно, что граница между настоящим и искусственным стирается полностью.
Этот механизм можно наблюдать во всех сферах общественной жизни – от политики до массовой культуры. Исторические события конструируются задним числом, а их смысл меняется в зависимости от актуального идеологического контекста. В цифровую эпоху этот процесс ускоряется до неузнаваемых масштабов: платформы вроде Facebook и Google формируют для пользователей персонализированную историю, регулярно предлагая «воспоминания» и закрепляя определенные образы прошлого. Кинематограф и телевидение идут еще дальше, создавая «аутентичные» образы прошлого, которые зачастую воспринимаются как более истинные, чем объективные исторические документы. То же самое происходит с биографиями: люди конструируют свои идентичности в социальных сетях, ретушируя не только фотографии, но и саму логику личного повествования. Таким образом, современная культура работает по тому же принципу, что и гипотеза Омфа-лоса: она конструирует мир симулякров как уже завершенную, внутренне согласованную структуру, игнорируя тот факт, что этот мир может быть продуктом недавнего изобретения. Вопрос больше не в том, была ли реальность когда-то подлинной – вопрос в том, имеет ли значение ее подлинность, если механизмы симуляции способны создать эффект достоверности, не оставляя места для сомнений.
Этот парадокс приводит нас к главному вопросу: является ли фабрикация смыслов симулякрами жизненно необходимой иллюзией или же она представляет собой деструктивную ловушку, ускоряющую катастрофические изменения в обществе? Жан Бодрийяр в «Совершенном преступлении» формулирует этот вопрос предельно ясно: «Впрочем, остается неизвестным, является ли иллюзия смысла жизненно важной или же деструктивной иллюзией мира и самого субъекта?» [2, с. 35–36].
Дилемма остается открытой: симуляция смыслов является условием выживания или ловушкой, ведущей к распаду субъекта и социальной реальности? Бодрийяр не дает окончательного ответа на этот вопрос и, возможно, такого ответа нет. Тем не менее, в рамках данной статьи я постараюсь очертить контуры этой проблемы, рассматривая два ключевых аспекта: социокультурную потребность в смысле и смысл как инструмент власти и манипуляции в контексте современной медиасреды.
Социокультурная потребность в смысле
Человеческое сознание эволюционно запрограммировано на поиск смыслов, что находит отражение не только в индивидуальном опыте, но и в культурных практиках, социальных институтах и идеологических системах. Наш мозг устроен так, что даже в хаотичных данных мы выявляем структуры и закономерности, создавая нарративы, придающие окружающей действительности осмысленный характер. Этот механизм, известный как апофения – склонность видеть связи там, где их объективно нет, – не только способствовал выживанию наших предков, помогая им быстрее реагировать на угрозы (например, различать возможную опасность в случайных контурах), но и стал основой мифологии, религии и коллективных верований, формирующих социальные группы.
Одним из самых глубоких исследователей смысла в человеческой жизни был Виктор Франкл. Его концепция «воли к смыслу» рассматривает поиск значений не только как личный, но и как социальный процесс. В условиях крайнего страдания, например, в нацистских концлагерях, осмысленность существования часто становилась фактором выживания. Заключенные, воспринимавшие свой опыт как часть более широкой истории – будь то испытание свыше, долг перед близкими или участие в великом событии, – сохраняли внутреннюю силу. Те же, кто терял смысловую опору, быстро утрачивали не только мотивацию, но и физическую стойкость.
Франкл приводит пример узника, который был убежден, что его освободят 30 марта – он видел этот день во сне и считал его пророческим. Однако, когда дата прошла, а освобождения не последовало, он утратил всякую волю к жизни и вскоре скончался [11, с. 142]. Этот случай иллюстрирует глубинную связь между смыслопроизводством и жизнеспособностью, причем не только на индивидуальном уровне, но и в более широких социальных контекстах: коллективные верования, идеологии и религиозные системы исторически выполняли функцию смысловых опор, поддерживая общественный порядок и устойчивость сообществ.
Эта способность особенно проявляется в экстремальных ситуациях. В концлагере, где всякая рациональная надежда на спасение была уничтожена, люди выживали не за счет физической силы, а за счет смысловой перспективы. Кто-то жил ради воспоминаний о своей семье и веры в будущую встречу с родными. Кто-то находил смысл в сохранении достоинства даже перед лицом унижения и смерти. Кто-то – в помощи другим, в ощущении моральной миссии. В заключение этой идеи Франкл цитирует одну из самых ярких фраз Ницше: «У кого есть Зачем жить, может вынести почти любое Как» [11, с. 150]. Эти слова логически завершают его точку зрения: способность конструировать смысл является не только индивидуальной стратегией преодоления кризисов, но и культурным механизмом, обеспечивающим социальную интеграцию, преемственность традиций и возможность для общества находить точки опоры даже в условиях нестабильности.
Концепция смысла как структурирующего элемента человеческого внутреннего мира, восходящая к Э. Гуссерлю, подтвержда- ется исследованиями уже упомянутого нами Д. А. Леонтьева, который рассматривает смысл не просто как когнитивную конструкцию, но как основу существования личности. Смысл, согласно его мнению, не единое или монолитное явление, а многоаспектная структура, включающая личностный опыт, социальное конструирование значений и символическое наполнение культурных объектов. Леонтьев утверждает, что смысл – это не статичное образование, а динамическая система, которая изменяется в зависимости от контекста жизни и переживаемых ситуаций: «В какой-то степени человек сам создает свои смыслы, но на основе более широкой социальной смысловой матрицы, в которой он живет» [7, с. 59].
Один из ключевых выводов его исследований состоит в том, что даже иллюзорный смысл способен стабилизировать психику, создавая ощущение предсказуемости и управляемости. Он приводит примеры, когда люди, оказавшиеся в экстремальных условиях, сохраняли эмоциональное равновесие за счет выработки субъективных объяснений происходящего, которые позволяли им поддерживать внутренний порядок. Это подтверждается многочисленными психологическими наблюдениями: даже когда объективные обстоятельства не оставляют шансов на контроль, вера в осмысленность ситуации дает человеку возможность сохранять устойчивость.
Таким образом, смысл не обязательно должен быть «истинным» или «объективным» – его главная функция заключается в поддержании душевного баланса и структуры личности . Леонтьев также обращает внимание на то, что именно гибкость смысловых конструкций определяет устойчивость человека перед кризисами. В отличие от догматически фиксированных смыслов, которые могут разрушаться под давлением новых обстоятельств, динамичные смысловые системы способны трансформироваться, сохраняя целостность личности.
Эта идея особенно актуальна в контексте современного информационного общества, где человек сталкивается с постоянными изменениями и перегрузкой данных. Автор подчеркивает, что способность осознанно управлять своими смысловыми конструкциями становится важнейшим навыком адаптации: те, кто могут пересобирать и обновлять свои смысловые ориентиры, легче справляются с неопределенностью и стрессом. Это можно рассматривать как своего рода «психологический иммунитет», позволяющий личности оставаться устойчивой в условиях меняющейся социальной и культурной среды.
В этом контексте смысл приобретает не только индивидуальное, но и коллективное значение. Д. А. Леонтьев отмечает, что сообщества и общества также выстраивают свои смысловые матрицы , и именно их способность адаптироваться к новым вызовам определяет их долговечность. Вопрос заключается не в том, как сохранить неизменные смыслы, а в том, как научиться управлять процессом их динамической реконструкции, не теряя связи с глубинными ценностными ориентирами.
Именно так работают симулякры. Они не просто подменяют реальность, они создают ощущение, что мир логичен, что у него есть структура, что хаос может быть объяснен и укрощен . Современные политические идеологии, медиа-нарративы, даже личные воспоминания – все это формы фабрикации смыслов, обеспечивающие людям иллюзию контроля над своей жизнью и историей. Чем более убедительно выстроена эта конструкция, тем меньше тревожность, тем больше уверенность в будущем.
Но если потребность в смысле психологически и социально обусловлена, означает ли это, что мы обречены верить в искусственные нарративы, даже осознавая их иллюзорность? Исследования когнитивных искажений показывают, что наш мозг активнее реагирует на удобные интерпретации, чем на сложные и противоречивые истины. Это особенно ярко подтверждают исследования когнитивного психолога Элизабет Лофтус , посвященные ложным воспоминаниям.
В экспериментах Лофтус испытуемым рассказывали о событиях их детства, которые никогда не происходили, например, как они потерялись в торговом центре и их нашел добрый незнакомец: «За пять минут с помощью нескольких предположений и подсказок отец внушил Дженни ложное воспоминание, а она добавила к нему собственные детали. Она вспомнила, как потерялась, как повсюду искала отца, как сильно испугалась. Для создания этой иллюзии нам понадобилось меньше времени, чем нужно, чтобы сварить яйцо вкрутую» [8, с. 75–76.]. Во множестве подобных экспериментов спустя некоторое время испытуемые начинали «вспоминать» разные эпизоды своей жизни как реальные, дополняя их личными деталями.
Этот феномен можно наблюдать не только в лабораторных условиях, но и в реальной жизни, причем в самых радикальных вариациях, когда люди самостоятельно формируют для себя удобные нарративы, даже если эти нарративы противоречат их безопасности. Один из наиболее ярких примеров подобного механизма можно увидеть в судебной практике, особенно в ложных признаниях преступников. В США и Европе были зафиксированы сотни случаев, когда люди признавались в преступлениях, которых они не совершали, и даже начинали верить, что действительно виновны. Например, дело Пола Ингрэма, американского шерифа, обвиненного в 1988 году в насилии над собственными детьми, стало классическим примером того, как память человека может изменяться под давлением обстоятельств. Изначально Ингрэм отрицал обвинения, но после длительных допросов и психологического давления он начал «вспоминать» преступления, которые никогда не совершал.
Процесс его «воспоминаний» был не просто результатом допросов, а следствием мощного культурного давления. Следователи не только предлагали ему возможные детали преступлений, но и навязывали представление о том, что он обязан вспомнить – даже если эти события никогда не происходили.
Долгие периоды одиночества в камере заставляли его осмысливать себя через призму вины, принятой обществом как данность. Через несколько недель Ингрэм уже сам заполнял пробелы в памяти, конструируя ложную, но логичную для окружающего дискурса историю. Позже экспертизы доказали, что его признание было продуктом внушения, но оно все равно стало основой обвинения.
Этот случай демонстрирует, что человек не просто может, но скорее обязан создавать собственную правду, заполняя пробелы в памяти тем, что кажется ему логичным или социально приемлемым, даже если эта «правда» может полностью уничтожить его жизнь. Получается, что мы не только с готовностью принимаем симулякры, но и сами их производим , превращая хаос реальности в упорядоченные, но зачастую ложные конструкции. И если индивидуальное сознание подвержено этим процессам на уровне личных воспоминаний, то что говорить о массовых процессах – о коллективной памяти, о политике, о медиа? Именно здесь смысл теряет себя как способ адаптации, превращаясь в мощнейший инструмент власти.
Смысл, как инструмент власти
Мы подошли к важному выводу: человеческий мозг не просто жаждет смысла – он биологически не способен существовать без него . Но здесь и кроется главная опасность симулякров, которую очень точно выразил Бодрийяр: «И нет конца этому безостановочному движению по ленте Мебиуса, когда поверхность смысла постоянно переходит в поверхность иллюзии – разве что иллюзия смысла возобладает окончательно, что положит конец миру»[2, с. 36]. Человек нуждается в смысле, готов его конструировать, однако, как только этот смысл становится «личным», как только он принимается, он перестает быть искусственным – он становится абсолютно реальным, независимо от того, насколько он изначально был ложен. Так было с Полом Ингрэмом: его вина была иллюзией, но для него самого она стала подлинной.
Именно поэтому главный вопрос заключается не просто в том, что смысл конструируется и является симулякром, а в том, куда эти симулякры ведут человечество: к будущему или к тотальной иллюзии? Формирование исторического нарратива, управление коллективной идентичностью и производство символического капитала через медиа – это не прерогатива отдельного человека, но естественный механизм, которым оперируют государства, цифровые платформы, транснациональные корпорации и глобальные организации. В их руках производство смыслов становится не просто средством влияния, а универсальным инструментом власти , способным не только управлять восприятием реальности, но и саму реальность подстраивать под созданные ими конструкции. Этот уровень контроля над смыслом уже не вписывается в классические модели манипуляции, потому что он не подавляет альтернативные версии реальности, а растворяет их в бесконечном потоке информации. История, культура, личная идентичность – все это становится гибким конструктом, который можно редактировать, дополнять или полностью переписывать.
История никогда не была простой хронологией событий. Джордж Оруэлл в «1984» сформулировал эту идею предельно четко: «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым» [10, с. 104]. Национальные государства, политические режимы, религиозные системы – они и многие другие конструируют прошлое в соответствии с актуальными интересами настоящего. Прошлое, каким его знает общество, – это не объективный факт, а тщательно выстроенный нарратив, который может быть изменен, переписан или интерпретирован заново.
Примеры этого можно найти на каждом шагу. В ХХ веке советская власть регулярно переписывала свою историю, стирая из нее «неудобные» фигуры (например, Троцкого), создавая культ личности Сталина, а затем так же искусственно демонтируя его после
1953 года. В демократических странах этот процесс происходит более завуалированно, но не менее эффективно: государственные учебники, национальные праздники и официальные трактовки событий служат инструментами формирования идентичности, закрепляя нужные нарративы.
Современные технологии довели этот процесс до предела: цифровые архивы, медиаресурсы, алгоритмы поисковых систем создают персонализированные версии истории, где прошлое становится не фиксированным, а гибким. Лента новостей в социальных сетях, подборки «важных событий года», выборочная демонстрация архивных материалов – всё это механизмы управления исторической памятью. Но почему управление историей так важно? Потому что прошлое – это не просто набор фактов, а основа коллективной идентичности.
Исторический нарратив формирует самоопределение общества. Власть всегда стремится контролировать этот процесс, потому что коллективная идентичность – это основа лояльности, мобилизации и социального порядка. Национальные мифы – яркий пример этого явления. Они создают не только ощущение общей истории, но и представление о будущем. Например, «американская мечта», советская идея «строительства коммунизма» или европейская концепция «общих ценностей» – это не просто идеологии, а смысловые конструкции, направленные на поддержание общественного единства.
Как отмечал Мишель Фуко, власть уже во второй половине 20-го века редко действовала напрямую. Скорее она встраивалась в повседневную жизнь через ритуалы, практики, моральные установки. В этом смысле любые социальные институты – это мощные фабрики смыслов, задающие обществу не только объяснение прошлого, но и жесткий моральный каркас, в рамках которого смысл становится нормативным: «Под “моралью” понимают совокупность ценностей и правил действия, которые предлагаются индивидам и группам посредством различ- ных предписывающих аппаратов, каковыми и являются семья, образовательные институты, Церкви и т. д. Бывает, что эти правила и ценности явным образом формулируются в виде связной доктрины и предмета преподавания. Но бывает также, что они передаются диффузным образом и, не будучи приведены в системное целое, образуют сложную игру элементов, которые компенсируют и корректируют друг друга, в некоторых случаях даже друг друга отменяют, делая таким образом возможными компромиссы и уловки. С этими оговорками такой предписывающий ансамбль можно называть “моральным кодексом”» [12, с. 196–197]. Однако очевидно, что традиционные структуры производства смыслов уже не обладают монополией на «моральный кодекс». Их место заняли медиа, которые создают не просто системы, но целые миры, в которых живет современный человек. Если религиозные, государственные или экономические институты прошлого продавали крепкий каркас спасения или счастья, то медиа индустрия продает стиль жизни, идентичность, осмысленное существование через потребление. Nike уже не просто кроссовки, а «воля к победе». Apple – это не телефон, а «революция». Даже продуктовые магазины продают не еду, а «экологичность», «осознанность» и «здоровый образ жизни». Мы покупаем не вещи, а смысловые конструкции, интегрированные в нарративы, определяющие, кто мы и каким должен быть наш выбор.
Но главная трансформация произошла тогда, когда смыслы перестали скрывать свою искусственность, когда они отказались даже от претензии на референты. Власть над идентичностью и мироощущением больше не принадлежит ни религии, ни государству, ни даже медиакорпорациям в привычном смысле – она буквально рассеялась в медиаполе, где любая идея может существовать не как истина, а как контент. Современные медиа не производят смыслы и не производят идеологию, они создают поток, в котором нет стабильных ценностей, только бесконечное движение знаков. В результате смысл окончательно утрачи- вает связь с физической действительностью и становится чистым симулякром.
Жан Бодрийяр в «Симулякрах и симуляции» писал, что мы уже не отличаем реальность от ее медиапроекций – мы живем в мире, где знаки не ссылаются на реальность и даже не создают ее, а производят бесконечный поток связей друг с другом . Он задает ключевой вопрос: «И поэтому вопрос состоит не в том, каким образом возникает иллюзия, а в том, каким образом возникает реальное. Каким образом создается сам эффект реального? Вот в чем настоящая загадка. Если бы мир был реален, то каким образом он уже давно не стал рациональным? Если он лишь иллюзия, то каким образом мог возникнуть сам дискурс реального и рационального? И есть ли что-либо иное, кроме дискурса реального и рационального?» [2, с. 30–31]. Современные медиа не просто информируют, а конструируют поле восприятия, формируя не только картину событий, но и саму систему, в которой одни смыслы выглядят легитимными, а другие маргинализируются. Политические ток-шоу не столько обсуждают события, сколько создают ощущение, что именно эти события являются главными. Лайки и алгоритмы социальных сетей не просто предлагают контент, а закрепляют персонализированную версию реальности, где человек не сталкивается с альтернативными нарративами. Вирусные скандалы и массовые возмущения отвлекают внимание от системных проблем, подменяя реальную политику и экономику нескончаемыми симулятивными драмами.
Ноам Хомский в «Manufacturing Consent» показывает, что медиа не навязывают мнение в лоб, а действуют тоньше: они определяют границы допустимого дискурса, создавая иллюзию свободы выбора внутри заранее заданных рамок. Это и есть главный эффект современных медиа: не прямое манипулирование, а создание атмосферы, в которой сама идея смысла кажется естественной и само собой разумеющейся. Это не просто пропаганда, а конструирование того, что будет воспри- ниматься как «данность», внутри которой человек не задумывается о самой природе смыслов [14].
Но если смысл – это симулякр, если мы не способны отказаться от него, то самым важным становится поддержание самой веры в смысл, даже если он не имеет референции в реальности. Бодрийяр намекает, что мир давно мог бы рухнуть под весом собственного абсурда, если бы не одно обстоятельство – вера в то, что смысл есть. Здесь мы приходим к тому же вопросу, с которого начали: «Впрочем, остается неизвестным, является ли иллюзия смысла жизненно важной или же деструктивной иллюзией мира и самого субъекта?». И, похоже, оба утверждения одновременно верны. Иллюзия смысла необходима, потому что без нее невозможно удержать даже саму структуру человеческого мышления. Но она же разрушительна, потому что, будучи оторванной от физической действительности, превращается в бесконечную игру знаков, где различие между истиной и ложью утрачивает смысл.
Вопрос не в том, как выйти из гиперреальности, а в том, насколько далеко мы можем зайти с этим процессом прежде, чем уничтожим себя. Ведь виртуальность, симулякры и гиперреальность исчезнут только тогда, когда исчезнет сама идея смысла.
Общий вывод статьи можно сформулировать следующим образом: симулякры в современной культуре представляют собой двой ственную силу . С одной стороны, они являются необходимыми конструктами, которые поддерживают наш когнитивный и эмоциональный баланс, позволяя справляться с хаосом и неопределенностью мира. Человеческий мозг, будучи биологически неспособным существовать без осмысленного контекста, находит в симулякрах спасательный механизм, даже если они противоестественны и идут вразрез с глубоко личными интересами.
В то же время, когда эти симулякры становятся инструментами власти – будь то через политические утопии, религиозные догмы или медиа-конструкции – они превращаются в мощный механизм контроля, ограничивают критическое мышление и подменяют реальную жизнь пустыми значениями. Самым интуитивно понятным решением представляется радикальное «схлопывание» симулякров или даже уничтожение самой идеи смысла. Однако такая стратегия неизбежно приведет к разрушению фундаментальных основ человеческого опыта и культуры, ведь мы биологически и психически не способны обходиться без какого-либо осмысленного контекста, который направляет наши действия и интерпретирует наш мир.
С другой стороны, можно было бы попытаться сохранить статус-кво, признавая бессмысленность попыток радикально изменить эти глобальные процессы. Но и такой подход не является конструктивным, поскольку он просто фиксирует существующий хаос, не предлагая пути к улучшению качества жизни и культуры.
Возможно, существует третий, более тонкий путь. Он заключается в том, чтобы облагородить и «восстановить» смысл, рассматривая его как жизненно необходимую, но при этом осознаваемую симуляцию. Современные процессы можно интерпретировать как своего рода «естественный отбор знаков». Аналогично биологическому естественному отбору, в котором выживают наиболее приспособленные организмы, здесь «выживают» и распространяются те смыслы, которые соответствуют интересам определенных групп или способствуют развитию личности и общества. В ходе такой конкуренции критически настроенные субъекты и сообщества отсекают манипулятивные и деструктивные смыслы, выбирая и развивая только те, которые способствуют их свободе, самореализации и личностному росту. В то же время другие группы активно пытаются сохранить и извлечь максимальную выгоду из знаков, несущих деструктивность, укрепляя устоявшиеся идеи, даже если они являются вредоносными, подчиняют мышление и ограничивают видение мира. Такое противостояние отражает не только борьбу за контроль над общественным сознанием, но и фундаментальное разделение в подходах к восприятию реальности: одни ищут освобождения через деконструкцию устаревших смыслов, в то время как другие стремятся к безопасности и стабильности, даже если она базируется на тотальной фабрикации и неизбежной долгосрочной стагнации. В итоге естественный отбор знаков становится механизмом, посредством которого формируется культурное будущее современных обществ.
Если иллюзия смысла одновременно является и необходимым условием нашего су- ществования, и потенциальным источником разрушения, то наша задача состоит не в том, чтобы полностью отказаться от нее, а в том, чтобы научиться осознанно поддерживать и трансформировать те ее аспекты, которые способствуют конструктивному развитию. Мы должны сохранить веру в смысл как таковой, одновременно осознавая его симуля-тивный характер, и использовать эту осознанность для направления нашей симулятивной культуры в сторону большей саморефлексии, свободы и ответственности за собственное восприятие мира.