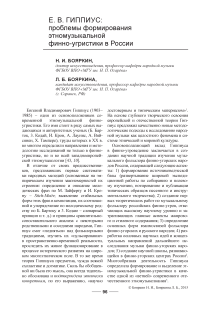Е. В. Гиппиус: проблемы формирования этномузыкальной финно-угристики в России
Автор: Бояркин Николай Иванович, Бояркина Людмила Борисовна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 4, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья учеников профессора Е. В. Гиппиуса посвящена вопросам формирования современной этномузыкальной финно-угристики. В ней раскрывается научная деятельность выдающегося ученого.
Этномузыкальная финно-угристика, фольклористика, аналитический метод, пространственно-аналитическая нотация, слоговой музыкально-ритмический период
Короткий адрес: https://sciup.org/14723243
IDR: 14723243
Текст научной статьи Е. В. Гиппиус: проблемы формирования этномузыкальной финно-угристики в России
(г. Саранск, РФ)
Евгений Владимирович Гиппиус (1903– 1985) – один из основоположников современной этномузыкальной финно-угристики. Его имя стоит в ряду самых выдающихся и авторитетных ученых (Б. Барток, 3. Кодай, И. Крон, А. Лаунис, А. Вяй-сянен, X. Тампере), труды которых в XX в. во многом определили направления и методологию исследований не только в финно-угристике, но и во всей западноевропейской этномузыкологии [43, 10 ].
В отличие от своих предшественников, предложивших первые систематики народных мелодий (основанные на эмпирическом изучении закономерностей их строения: определение и описание мелодических фраз по М. Зайферту и И. Крону – Stich-Motiv; выявление стабильных форм этих фраз в композиции, их соотношений и упорядочение по мелодическому родству по Б. Бартоку и 3. Кодаю – словарный принцип и т. д.) и принципы сравнительносопоставительного анализа с некоторыми родственными и соседними народами, Гиппиус смог «подняться» над фольклорными традициями, изучить их «пульсирование» в пространственно-временной реальности, проследить их живое функционирование в процессе исторического развития на широком многоэтническом поле. В то же время теория Гиппиуса предметна, чужда всякой схоластике и догматике. Сколь бы обобщенной ни была его мысль, она всегда тщательно обоснована и подтверждена этнически конкретным, по его выражению, «научно достоверным и типическим материалом»1. На основе глубокого творческого освоения европейской и отечественной теории Гиппиус предложил качественно новые методологические подходы к исследованию народной музыки как целостного феномена в системе этнической и мировой культуры.
Основополагающий вклад Гиппиуса в финно-угроведение заключается в создании научной традиции изучения музыкального фольклора финно-угорских народов России, содержащей следующие аспекты: 1) формирование источниковедческой базы (развертывание широкой экспедиционной работы по собиранию и полевому изучению, нотированию и публикации типических образцов песенного и инструментального творчества); 2) создание первых теоретических работ по музыкальному фольклору российских финно-угров, отвечающих высокому научному уровню и затрагивающих главные аспекты жанрового и стилевого содержания; 3) определение основных форм взаимосвязей фольклора финно-угорских и русского народов; 4) разработка основных научных идей и концептуальных направлений дальнейшего исследования музыки финно-угорских народов; 5) создание научной школы, развивающейся в финно-угорских центрах России2. Многообразная деятельность Гиппиуса определила формирование и выделение эт-номузыкальной финно-угристики в качестве одной из «ветвей» современного отечественного этномузыкознания3.
Осознание роли Гиппиуса в развитии эт-номузыкологии, его выдающегося вклада в культуру народов России выдвигает проблему создания научной биографии исследователя в качестве одной из важных задач современной фольклористики. Ее решение необходимо для определения перспектив дальнейшего развития этномузыкознания, разработки многих идей искусствоведа. Работу по созданию научной биографии Гиппиуса можно считать начавшейся, сделаны первые шаги по определению проблематики его исследований Л. С. Мухарин-ской [23], Е. А. Дороховой и О. А. Пашиной [20]. Однако личность Гиппиуса столь многогранна, а творчество его столь объемно и многоаспектно, что для решения этой задачи необходимы совместные усилия не только славистов, но и финно-угроведов, тюркологов, кавказоведов и других ученых, поскольку его труды затрагивают как общие проблемы методологии, так и чрезвычайно важные и специфические вопросы фольклора многочисленных народов, более понятные и близкие специалистам, ведущим регулярную экспедиционную работу, знающим языки, этнографию, историю и быт народов бывшего СССР. Такой аспект работы тем более необходим, поскольку многие научные идеи и положения Гиппиуса не опубликованы и существуют лишь в устной форме; они излагались непосредственно ученикам, которые под его руководством вели исследования по музыкальному фольклору разных народов.
Подобный подход к изучению деятельности Гиппиуса позволит со временем определить не только его вклад в общее этномузыкознание, но также степень и характер участия в формировании различных национальных этномузыкологических школ России и бывших республик СССР. Начало этой работе положила З. Я. Можейко, опубликовавшая первый очень содержательный очерк о роли Гиппиуса в становлении белорусской этномузыкологии [21].
Изучение творческой личности Гиппиуса, его научного наследия имеет свои особенности, обусловленные тем, что его деятельность не носила замкнутого характера, была процессуальна по своей сущно- сти: представляла собой многоуровневый и нередко многолетний процесс постижения явления, зарождения и формирования методики его анализа, тщательной и многоаспектной проверки фактологии. С поступлением в научный оборот новых материалов по проблеме Гиппиус мог возвращаться к своим уже законченным (в том числе опубликованным) трудам, уточнять и развивать отдельные положения4. Это свойство ученый старался привить и своим многочисленным ученикам и последователям.
***
Проблемы изучения музыки финноугорских народов и ее взаимосвязей с традиционной русской музыкой, занимающие в научном творчестве Е. В. Гиппиуса одно из важных мест, далеко не случайны5. Они во многом предопределены характером развития и достижениями российской этнографии 2-й половины XIX - 1-й четверти XX в. Интерес предшественников Гиппиуса к финно-угорской проблематике был обусловлен, с одной стороны, общими задачами изучения народов Российской империи, поставленными еще экспедициями РАН 2-й половины XVIII в., а с другой – важнейшей проблемой изучения собственно великорусского народа, ассимилировавшего многие культурные традиции соседних народов, финно-угорская часть которых представлялась едва ли не самой значительной.
Столь важное место, занимаемое многонациональной проблематикой в творчестве Гиппиуса, во многом объясняется тем, что он с детства впитал ценности петербургской интеллигенции, всегда отличавшейся большей толерантностью к культурам нерусских народов. Петербург определился как исторически сложившийся научный центр по изучению народов страны и в силу характера региона, где финноязычные народы (финны, карелы, ижора, вепсы, водь) составляли значительную часть коренного населения, которая сохранила свой язык, имела свои церкви (лютеранские и православные приходы), развивала свою композиторскую школу6. Кроме того,
Петербург расположен рядом с Финляндией (она хотя и входила в состав России в 1809–1917 гг., но обладала особым статусом автономии), где финно-угроведение в XIX в. получило большое развитие, имело тесные связи с европейским и российским финно-угроведением.
Благодаря усилиям российских (А. Шё-грен, М. Н. Майнов, М. Е. Евсевьев, А. А. Шахматов и др.) и финских (М. Ка-стрен, А. Алквист, А. Фишнер, О. До-нер, А. Гейкель, X. Паасонен и др., многие работы которых были изданы в Петербурге) ученых на рубеже XIX–XX вв. финно-угристика стала неотъемлемой частью российской науки, сложившимся направлением научных исследований этнографов, историков и языковедов. Усиление интереса к изучению культуры народов страны в 20-е гг. XX в. способствовало открытию в Ленинграде учебных и научноисследовательских организаций (Институт народов Севера и Востока, Ленинградское общество исследователей культуры финноугорских народностей – ЛОИКФУН7, кафедра финно-угорского языкознания в университете).
Гиппиус, научные интересы которого в области этномузыкознания определились во 2-й половине 1920-х гг., хорошо знал проблематику российской и западноевропейской финно-угорской этнографии и фольклористики. Это способствовало формированию ученого именно как последовательного представителя сравнительного этномузыкознания.
Многообразная деятельность Гиппиуса во многом была обусловлена также его блестящим разносторонним образованием, которое он получал у выдающихся ученых и музыкантов: университетский курс по лингвистике был прослушан у Л. Б. Щер-бы, по фортепиано он учился у М. В. Юдиной; в Петроградской консерватории занимался по нескольким специальностям: дирижирование – у Н. А. Малько, теория и композиция – у М. О. Штейнберга, музыковедение – у Б. В. Асафьева.
Вероятно, энциклопедичность знаний, феноменальные способности, живой ум и безграничная природная творческая энер- гия этого удивительного человека пробудили в нем в самом начале пути интерес к самым разнообразным сферам научной и музыкантской деятельности, сформировали комплексный подход к различным явлениям духовной культуры. Так, работа в студенческие годы (1923–1925) в качестве научного сотрудника Российской публичной библиотеки (ныне Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) приобщила его к скрупулезной деятельности библиографа, к пониманию исключительной ценности достоверного источника как основного факта науки. Гиппиус смог познакомиться здесь с богатыми архивными фондами, в том числе по культуре многих народов страны, составить реестры личных фондов рукописного отдела. Однако по своим личностным свойствам Гиппиус не был чисто кабинетным ученым, в нем великолепно сочетались большой ученый и яркий музыкант. Его интересовали и исполнительство (работа в студенческие годы концертмейстером в классе балета оперной студии консерватории), и народное музыкальное искусство (участие в экспедиционных поездках с В. М. Жирмунским в 1925–1926-е гг. по записи песен немецких колонистов в Ленинградской области).
Живой интерес пытливого студента к народной музыке не остался не замеченным его наставником и научным руководителем Б. В. Асафьевым, который предложил ему и З. В. Эвальд продолжить его работу по Русскому Северу, начатую им в 1925 г. Как известно, эти экспедиции, в ходе которых кроме русских песен были записаны и песни финно-угров на территории Карелии и современной Республики Коми, состоялись в 1926–1930-х гг. В это же время Гиппиус и Эвальд совместно с Х. С. Кушнаревым записывали народную музыку в Армении, Грузии и Узбекистане.
Интенсивная, полная романтики полевая работа, «погружение» в живые народные традиции, по-видимому, покорили Евгения Владимировича и окончательно определили сферу его научной деятельности, в которой нашли применение как его обширные многопрофильные знания (лингвистиче- ские и музыковедческие), так и творческая сущность музыканта-исполнителя и композитора. С этого времени он полностью посвятил себя изучению народного музыкального искусства.
Вторая половина 1920-х гг. – период бурного развития финно-угристики в Ленинграде. Координационным центром исследований стал ЛОИКФУН, провозгласивший приоритетными задачами комплексное изучение духовной и материальной культуры финно-угорских и самодийских народов, их исторических взаимосвязей с народами России. Общество было многочисленным (на очередной его съезд, который должен был состояться в 1931 г., было делегировано более 200 членов со всей России). В ЛОИКФУН входили известные ученые; некоторые из них являлись действительными членами, членами-корреспондентами общества: В. А. Егоров (председатель), Л. Я. Брюсов, Д. К. Зеленин, А. А. Спицин, Н. Ф. Финдензейн; его членами были и многие знакомые Евгения Владимировича: ученый секретарь И. Я. Депман, лингвист Д. В. Бубрих, известные представители национальной научной интеллигенции – удмуртский литературовед и писатель К. П. Герд, мордовский этнограф М. Т. Маркелов, карельский – Е. С. Тигонен8.
Идеи ЛОИКФУН полностью разделялись Гиппиусом. Интерес ученого к традиционной музыке российских финно-угров обозначился в экспедициях в районы Севера, где он соприкоснулся со сложными этническими процессами (значительную часть населения составляли карелы, вепсы, в том числе обрусевшие). Как представитель сравнительного музыкознания, ученик и последователь Б. В. Асафьева Гиппиус хорошо понимал, что для Русского Севера характерно «сосуществование систем интонаций разных племен и прошлых веков», «что прежде всего надо обратить внимание на Прионежье, на его западную часть (вплоть до углубления для-ради интересных аналогий в Карелию)...» [1, 89 ].
На формирование первоначальных взглядов Гиппиуса на финно-угорские традиции значительное влияние оказа- ли не только тесные контакты со многими финно-угристами – эпосоведом В. Я. Евсеевым, этнографом М. Т. Маркеловым, лингвистом Д. В. Бубрихом и др.9, но и запись и нотирование образцов народной музыки, а также неформальное, дружеское общение со студентами Института народов Севера и Востока, среди которых были представители многих коренных народов России (восточные финны – мари, мордва, коми, удмурты; обские угры – ханты, манси; самодийцы – ненцы; тюрки Поволжья и Урала – татары и чуваши), от которых в аспирантские (1927–1930) и последующие годы совместно с Эвальд он записал на фонограф значительное число песен и инструментальных наигрышей.
В начале 1930-х гг. Гиппиус близко сошелся с лингвистом, руководителем ансамбля мордовской музыки ленинградских студентов М. В. Учватовым10, который под его руководством в 1934–1937 гг. работал научным сотрудником в фонограмархиве Института антропологии, археологии и этнографии АН СССР. Представление о марийской, мордовской и удмуртской (в том числе инструментальной) музыке Евгений Владимирович получил по фонографным материалам восточнофинской экспедиции ЛОИКФУН 1927 г., проведенной Д. В. Бу-брихом. В те же годы (1936–1938) в фоно-грамархиве научным сотрудником работал и композитор Н. М. Греховодов (товарищ Гиппиуса по совместной учебе в консерватории), впоследствии известный собиратель коми, мордовской и удмуртской народной музыки, поэтому, когда в связи с подготовкой серии «Песни народов СССР» возникла необходимость формирования состава участников экспедиции в финноугорские республики, она не стала большой проблемой.
Греховодов и Учватов получили от Гиппиуса точные инструкции – записать на фонографные валики не только песни, но и инструментальные наигрыши, а также собрать и привезти в фонограмар-хив музыкальные инструменты. В своем письме из Мордовии Греховодов, сообщая Евгению Владимировичу об успешной работе, отмечает, что ему с Учвато-
ЧУ Финно – угорский мир. 2015. № 4 вым удалось кроме прочих материалов записать игру трех нюдийщиков и заказать инструменты (нюди), «которыми вы очень интересовались»11. Ценность материалов этих экспедиций особенно велика, поскольку участники записывали не случайных певцов и музыкантов, а признанных в быту мастеров, представителей известных нюдийно-родовых династий Виноградовых, Ганичевых, Плешаковых, Лапиных12.
Экспедиции второй половины 1930-х гг., как и многие другие, поставили важную проблему источниковедения российской финно-угорской музыкальной фольклористики. Гиппиус не мог быть удовлетворен любым экспедиционным материалом, ему важно было, чтобы фонографные записи объективно отражали типические особенности этнической музыкальной традиции во всем комплексе ее жанровых и стилевых видов. В этом отношении он разделял взгляды своего учителя – Б. В. Асафьева: «…экспедиция должна быть в полной мере научно-исследовательской в музыкальном плане экспедицией, т. е. идти не от личных эстетических чисто вкусовых стремлений к записи отдельных частных явлений, а от определенных заданий общемузыкальноисследовательского порядка: вести наблюдения и запись таким образом, чтобы отмечать все ценное, характеризующее процесс...» [1, 189 ].
Асафьевское понимание полевой работы отчетливо выявилось в оценке результатов деятельности ряда экспедиционных групп, направленных Гиппиусом в финноугорские регионы. Так, несмотря на большое по тем временам количество (181) фонографных записей удмуртских песен, сделанных в 1937 г. марийским композитором Я. А. Эшпаем (в то время Эшпай был аспирантом В. М. Беляева в Государственном институте музыкальной науки) и М. П. Петровым, писателем, сотрудником Удмуртского НИИ, Гиппиус, исходя из того что в коллекции недостаточно представлены произведения обрядового творчества, поручает местному краеведу, знатоку фольклора В. А. Пчельникову дополнительно записать на фонографные валики обрядовые песни и наигрыши, в том числе инструментальные версии песенных напевов, а также вокально-инструментальные образцы13.
Весь огромный материал, собранный Гиппиусом в 1930–1940-е гг., составил основу организованного им первого (и остающегося единственным государственным в России) фонограмархива. Глубокое изучение его материалов, написание целого ряда работ по русской, финно-угорской, белорусской проблематике, издание капитального труда «Песни Пинежья» выдвинули молодого ученого в число самых авторитетных фигур этномузыкознания СССР, что по- зволило Б. В. Асафьеву несколько позднее (1948) назвать его «выдающимся ученым», «прекрасным музыкантом», «блестящим мастером записи народной музыки» [1, 217]. В 1940-е гг. имя Гиппиуса приобрело широкую известность и в западной науке. Особо авторитетным оно стало в Финляндии, Австрии, Германии – в странах, где традиционно проявлялся большой интерес к проблемам изучения российских финно-угров и их связям с русской культурой. Гиппиус считался самым сведущим специалистом в данной области. Показательно, что именно к нему обратился А. Вяйсянен с просьбой дать консультации по новейшим записям финно-угорской музыки. Финский ученый дважды (1937, 1939) приезжал для встречи с Гиппиусом в Ленинград, расшифровывал заинтересовавшие его мелодии мордовских песен из записей Греховодова – Учва-това (в этот период Вяйсянен работал над сборником “Mordwinische Melodien” [41]). В одном из своих писем он благодарил Евгения Владимировича «за дружескую помощь, ценные советы»15.
Особое внимание Гиппиус уделял выработке научных критериев к фактологии исследований, критике и оценке фольклорного источника как документа традиционной культуры. К этой проблематике он обратился уже в первых своих публикациях по финно-угорской музыке. В статье о карельских песнях16, написанной совместно с Эвальд, отмечается исключительно важное значение для науки подлинного образца народной песни. Не умаляя выдающегося художественного значения составленного Э. Лённротом фольклорно-литературного свода Калевала», сыгравшего, как известно, исключительную роль в развитии финской литературы, театра, музыки, изобразительного искусства, и не отрицая «обаяние “Калевалы” как цельной эпопеи», Гиппиус и Эвальд отмечают, что «все многообразие карело-финской народной поэзии невольно ассоциировалось с единством лённротовского свода. Тем самым значение каждой отдельной песни, воспринимаемой народными певцами как самостоятельное поэтическое целое, было невольно снижено». По мнению авторов, во главу угла должно быть поставлено «изучение не отдельных элементов карело-финского песенного фольклора, а изучение каждой народной песни как самостоятельного документа музыкально-поэтического творчества определенных народных певцов», что дает возможность песенной культуре раскрыться «во всем многообразии ее современного живого бытования». Недооценкой в финно-угристике той поры фольклорного образца как документа культуры Гиппиус и Эвальд объясняли «широкое распространение одностороннего типа публикаций отдельных элементов песен (например, публикации отдельно текстов и отдельно напевов)».
Издание мелодий без подтекстовок или с неполными текстами, а также нотаций фоно-графных записей, сделанных вне естественного «живого бытования песен», вследствие чего в публикациях выпадали важные компоненты (в том числе многоголосная фактура), было присуще многим российским и зарубежным работам того времени. Как примеры неадекватного отражения фольклорных традиций в музыкальных записях Гиппиус указывал публикации М. Буха [33] и П. Панова [39] (удмуртские, коми-пермяцкие и татарские мелодии без текстов), Р. Лаха (звукозаписи финно-угорских песен, сделанные в австрийском лагере русских военнопленных «Харт»)17, А. Лауни-са (ингерманландские и карельские песни, часть которых дана с неполными текстами) [35; 36] и пр. В такого рода изданиях он усматривал «случайность и недостаточную типичность материала», снижающие «научную ценность» последнего.
Под каждой отдельной песней, т. е. полноценным документом фольклора, Гиппиусом понимался конкретный типовой вариант песни во всех ее компонентах (называемых им в 1940-е гг. элементами), исполненный в традиционных для ее пения типовых условиях и типовой исполнительской форме.
Таким образом, в работах Гиппиуса – Эвальд 1940-х гг. впервые в российской этномузыкальной финно-угристике были сформулированы научные требования к фактологическому материалу, была создана основа качественно новой источниковедческой базы, соответствующей целям и задачам современной этномузыкологии.
***
Одна из актуальных проблем, связанных с источниковедением и изучением поэтики фольклора, получившая глубокую практическую разработку в трудах Е. В. Гиппиуса, – проблема перевода текстов песен и причитаний с языков народов СССР на русский язык. Внимание к ней объясняется не только более чем столетними традициями перевода «инородческих» текстов, установившимися в российской этнографии и получившими в советской фольклористике особый размах18, но и пониманием перевода как важной составной части фактологической базы сравнительных исследований.
От точности, научной информативности перевода фольклорных текстов на другой язык во многом зависит результативность сравнительного изучения разноэтнических поэтических систем, определения присущих им как общих закономерностей, так и этнически обусловленных особенностей художественного отображения многомерного мира. Перевод фольклорного текста, по Гиппиусу, - не обособленная от фольклористики прикладная наука, а один из содержательных компонентов ее фактологии, позволяющий расширить источниковедение с целью получения более многоаспектных объективных и универсальных данных для сравнительно-типологического и сравнительно-исторического анализа. Важнейшим принципом научного перевода фольклорных текстов ученый считал необходимость глубокого предварительного типологического изучения традиционной поэзии народа (группы родственных народов) как социально обусловленной художественной системы отражения мира19.
Гиппиус приступил к редактированию переводов поэтических текстов песен российских финно-угров в конце 1930-х гг., т. е. в период, когда делались лишь первые шаги по изучению их идейнотематического и образного содержания, особенностей языковых выразительных средств. Опубликованные к этому времени работы (А. Цембер, Ю. Вихман, К. Крон, А. Аарне, В. Майнов, И. Смирнов, К. Чет-карев, М. Евсевьев и др.) касались главным образом проблем отдельных жанров и не давали сколь-нибудь целостного представления о традиционной поэтике. Читатель, не владевший языками финно-угорских народов, мог получить лишь некоторые сведения о ее характере и содержании преимущественно по немецким и немногочисленным русскоязычным переводам, выполненным А. А. Шахматовым, М. Т. Маркеловым, В. Я. Евсеевым. Подавляющая же часть переводов, сделанная любителями, не отвечала научным требованиям.
Немецкие переводы более адекватно отражали традиционную поэзию финно-угров, поскольку делались лингвистами, хорошо владевшими не только языками финно-угорских народов, но и немецким, который, в сущности, являлся во многих странах Европы «языком науки». Эти переводы, выполненные профессорами Берлинского университета Р. Пелицером, Э. Леви, а также многими выдающимися финскими лингвистами X. Паасоненом, К. Хейкелла, М. Кахла и др., поставили проблему с особой остротой, выявили в ней социолингвистические аспекты, изучение которых в 1930-е г. в западном языкознании отчетливо оформилось в качестве самостоятельного направления.
Учитывая особую сложность перевода фольклорных текстов, Гиппиус предпочитал сотрудничать с лингвистами, хорошо знавшими разговорные языки, их местные говоры, имевшими опыт полевой работы. Так, подготовку переводов с мокша-мордовского на русский язык для антологии «Памятники...» он поручил лингвисту и фольклористу А. Д. Шу-ляеву, а фонетическую сверку текстов песен со звукозаписями, проверку соответствия оригиналов и переводов - известному ныне лингвисту профессору О. Е. Полякову. Столь же тщательно подбирались авторы и для других изданий: тексты карельских и финских песен переводились М. Хямяляйненом и А. Беляковым (научными сотрудниками Карельского института языка, литературы и истории), редактирова- лись лингвистом и известным эпосоведом В. Я. Евсеевым, русские переводы редактировал сам Гиппиус. О требовательности Гиппиуса к качеству переводов можно судить и по тому факту, что, не удовлетворившись переводами текстов удмуртских песен, сделанными в 1940-е гг. В. И. Алаты-ревым, он уже в конце своей жизни, готовя сборник к изданию, забраковал их; профессором П. К. Поздеевым по его просьбе были сделаны новые переводы с удмуртского языка на русский [15].
Как система необходимых требований методика перевода фольклорного текста на другой язык сложилась у Гиппиуса в 1960-е гг. Распространенные в 1920–1950-е гг. поэтические и эквиритми-ческие переводы, «как бы хорошо и добросовестно они не были сделаны, – писали позднее Гиппиус и Евсеев, – никогда не передают и не могут передать всех особенностей оригинала, так как ритмические нормативы (в особенности такие, как рифма и аллитерация), сковывают переводчика, ограничивают его возможности и не позволяют ему придерживаться точного смысла каждого слова и сохранять все характерные смысловые оттенки эпитетов и многие другие не менее существенные особенности национальной песенной поэтики» [11, 6 ]. В связи с этим Гиппиус считал необходимым глубокое изучение, с одной стороны, поэтической системы народа в целом (выявление черт общности в системе художественных средств выразительности, закономерностей стихового строя, его взаимодействия с музыкально-временными формами напевов), а с другой – механизмов ее реализации в обиходном языке субэтнических, региональных образований. Результаты анализа должны учитываться в прозаическом переводе, в котором также обязательно должны быть отражены (сохранены) особенности песенной поэтики оригинала и синтаксический строй традиционной песенной строфики.
При переводах текстов с финских языков особое внимание ученый уделял передаче такого их свойства, как формульность, проявляющаяся прежде всего в различного вида параллелизмах, восходящих, как он указывал, к ранним стадиям общественного развития и возникающих на основе архаичных форм мышления («неразделенно-сти действия и субъекта, предмета и его материальных свойств – признаков»20). Формульную суггестивность финно-угорской поэзии, выражаемую в яркой эстетической форме, Гиппиус объяснял магическими корнями21.
Строфика имеет обычно нерасчленен-ную бинарную структуру двустиший, нередко выступающих во взаимосвязи друг с другом в форме цепной строфы (по терминологии друга Гиппиуса по Петроградскому университету В. М. Жирмунского – «пантум»), а в мордовской поэзии бывает усложнена редифом или анафорическим параллелизмом (точное или вариационное повторение первого полустиха силлабического стиха вторым). Гиппиус требовал от переводчиков неукоснительного следования этим особенностям и в переводах, ибо считал, что нарушение того или иного принципа повторности (например, часто встречающееся в ранних публикациях вычленение из парной системы строфы какого-либо повторяющегося элемента) разрушает формулу (трансформирует смысл магического заклинания, лишает этнической специфики). Особое внимание он уделял научному осмыслению и сохранению в переводах металингвистической проблематики оригиналов, связанных с ней особенностей содержательной (смысловой) стороны. Важным для Гиппиуса было выявление не столько причинно-следственных (они как раз более понятны), сколько ассоциативных вероятностей в различных жанровых контекстах, а также сравнительнотипологический их анализ (в некоторой степени проверка) на материале традиционной поэзии родственных народов, сохранивших архаичные элементы металогии22.
Осмысление «подпочвы», «подтекста», «расшифровка» метанимии, символов, метафорических замен, различного рода семантических ассонансов, часто возникавших в архаичной поэзии на основе табу, возможны, как отмечал Гиппиус, на основе изучения их выражения (проявления) в народном обиходно-разговорном язы- ке (Umgangssprache )23. Применительно к финским языкам он советовал различать по крайней мере две дифференциальные формы (страты) – региональные (Grotfandschaftliche Umgangssprachen), характерные в большей степени для языков этнических территорий, и локальные (Kļeinlandschaftliche Umgangssprachen), проявляющиеся на ограниченном пространстве, вплоть до одной-двух деревень. Без глубокого понимания различных форм существования обиходно-разговорного языка, его социолингвистических особенностей, как полагал Гиппиус, сложно осмыслить особую форму вербально-сти ритуальной поэзии (а тем более передать, транслировать ее средствами иного языка)24, основанной на архаичных формах мышления и составившей праоснову мифологической поэзии финно-угров.
***
«О Е. Гиппиусе можно также сказать, что он представляет собой тип исследователя, уникально сочетающего живую “интонационную неуловимость” асафьевской школы с математической точностью фактологии и максимальной документированностью немецкой школы» [21, 93 ]. Это определение З. Я. Можейко представляется очень точным. Действительно, вся многообразная научная деятельность Гиппиуса была нацелена на получение (насколько это возможно) предельно объективного знания об изучаемом явлении. Ему как исследователю совершенно чуждо какое-либо предварительное «выстраивание» материала под схему. Каждый вывод у него исходит из самой сути скрупулезного анализа явлений народной музыки. Этому подчинена вся его методология исследований, важнейшей частью которой стал разработанный им метод изучения системных видов периодических структур, более известный в литературе как «метод аналитического нотирования звукозаписей» [10, 112 – 171 ].
Первые шаги в осмыслении метода были сделаны Гиппиусом уже в конце 1940-х гг. в серии работ, посвященных русским лирическим песням, а непосред- ственным «толчком» к его разработке послужила необходимость установления нормативности стихового, мелодического и ритмического строя балакиревских обработок русских песен [14]25, а также сверки нотаций карельских песен Л. Кершнер, О. Богданова, Б. Добровольского со звукозаписями на фонографных валиках, часть которых, как пишет Гиппиус, «была почти стерта при нотировании. Степень точности воспроизведений в нотациях напевов и их подтекстовки в ряде случаев могла быть поэтому выверена музыкальным редактором только аналитическим методом» [11, 4]. В предисловии к карельскому сборнику Гиппиус дает и первую формулировку метода, которую конкретизирует затем в предисловии к сборнику осетинских песен.
Сущность метода Гиппиуса «сводится к уточнению нотации на основе данных теоретического анализа музыкального и стихового ритмического строя каждой песни и последующего графического отображения особенностей музыкальной и стиховой ритмической композиции параллельно: в нотной записи напева и строфовой редакции песенного стиха. В аналитической нотации должны быть воспроизведены с предельной точностью не одни внешние особенности звучания народной песни (передаваемые в эмпирической нотации), а национально-типические закономерности: формы ритмического строя песенной мелодии и песенного стиха, ладового строя народных мелодий, хоровой и инструментальной фактуры. <...> Основное требование аналитической нотации: ограничение закономерного от случайного...» [13, 8 ].
Методика составления аналитической нотации, дающей наглядное представление о звуковысотной и временной форме напевов и ее координации со стиховой структурой, основывалась на результатах комплексного системного анализа тщательно выполненной эмпирической нотации каждого образца народной музыки, заносимого в виде формул в аналитическую карту. В ней отражались образцы, как минимум, со стороны ритмического строя песенного стиха и его взаимосвязи с напевом («слого- вая музыкально-ритмическая форма»), звуковысотной организации и ее связи со слоговой музыкально-ритмической формой («слоговая мелодика», «внутрислоговая мелодика»). В зависимости от состава динамических компонентов музыки, понимаемых Гиппиусом в системной взаимосвязи («состав компонентов, их отношения и отношения их отношений») [12, 33], карта содержала и данные о нормативах взаимосвязи голосов в многоголосных напевах (с обязательным выделением типовых созвучий и аккордов в каденциях мелостро-фы), формы оппозиции заключительных тонов частей мелострофы (при составлении аналитических карт по произведениям инструментальной музыки – и данные о типе инструментов, их тембрах).
Если учесть, что в карту могли заноситься и результаты анализа образного строя поэтических текстов песен (в этом случае Евгений Владимирович отсылал к своей систематике образов в «Песнях Пи-нежья», т. 2), то ее составление выливалось в отдельную научную работу, в которой в монографическом плане отражались все компоненты каждой отдельной песни в их «типических отношениях». Такая методика работы с материалом позволяет провести его сравнительно-структурнотипологическое изучение на объективно выявленных данных по каждому образцу народной музыки и тем самым решить важную проблему составления научных публикаций, цель которых, как считал Евгений Владимирович, состоит прежде всего в представлении типических образцов фольклора, системно характеризующих явление (жанр, региональная традиция и т. д.).
Разработанный Гиппиусом метод позволяет рассмотреть и многие теоретические проблемы: установить «этимологические нормативы» жанра, их различные модификации на уровне всех включенных в анализ «компонентов, их отношений и отношений их отношений», определить характер межжанровых взаимосвязей и на основе этих взаимосвязей выявить группы жанров, объединяемых одним или несколькими признаками26.
Аналитический метод изучения системных видов периодических структур оказался полезным и для исследования межэтнических форм взаимосвязей. Еще в 1960-е гг. он был апробирован Гиппиусом на материалах карельского и русского фольклора. Так, сравнительное изучение первых аналитических нотаций карельских эпических песен с первыми аналитическими нотациями русских былин заонежской и поморской традиций обнаружило «явные черты их композиционного родства», остававшиеся до этого времени незамеченными. Гиппиус полагал, что «родство строфового строя стиха карельских рун и русских былин Заонежья и Поморья (особенно характерное для южнокарельских поэтических стилей) имеет отнюдь не формальный характер; переменное число слогов в стихе (одинаково для них типичное) обусловлено в них одним и тем же композиционным принципом: строфа замыкает либо законченную мысль, либо законченную часть мысли, вне зависимости от необходимого для этого числа стихов» [11, 5]27.
Анализ позволил Гиппиусу высказать ряд принципиально важных идей о природе общности и различий национальных культур, иерархических связях системных компонентов (системообразующие компоненты и их связи), формах взаимодействия традиций соседствующих этносов. Ученый отмечал, что этническая специфика обнаруживается не только в элементах, присущих тому или иному народу, но и в характере взаимодействия с традициями других народов, в формах взаимодействия и ассимиляции элементов разных культур28. В этом плане культура российских финно-угров всегда вызывала особый интерес, поскольку она не только многое сохранила из того, что существовало в ней до интенсивных контактов со славянами, но и многое восприняла от общения с другими соседними народами, а также вошла в качестве ассимилированных элементов в региональные традиции самой русской культуры. Системно-типологическое изучение музыкальных традиций финноугорских и других народов России, иссле- дование и выделение в них исконных самобытных явлений, по мнению Гиппиуса, несомненно способствует объяснению многих стилевых особенностей этих народов и традиционной русской народной музыки.
С рассмотрением данной проблематики Гиппиус связывал и окончательное решение весьма острого в этномузыкологии вопроса о финно-угорском многоголосии. Как и многие отечественные и эстонские ученые (Г. И. Сураев-Королев [29], У. Кольк [19], И. Рюйтел [27], Б. С. Урицкая [30] и др.), он считал многоголосие финно-угров автохтонным по своему происхождению и не разделял ничем не обоснованные высказывания западных этномузыковедов о возможном заимствовании финно-уграми «обычая петь хором» у русских. Заблуждения ученых29 Гиппиус объяснял главным образом несовершенными методологическими подходами европейского этномузыкознания, рассматривавшего музыкальное творчество народов не в целостности (как общую этническую систему), а отдельно песенное (как правило, напевы отдельно, тексты отдельно) и отдельно инструментальное творчество. Между тем последнее, например, со стороны своих многоголосных форм у многих финно-угров не только не уступает вокальному, но и значительно превосходит его (все финно-угры имеют или имели многоголосные инструменты, традиции игры на которых уходят в далекое историческое прошлое и связаны с архаичными мифологическими концепциями)30. Так, формирование бурдон-ных форм мордовского вокального многоголосия Гиппиус связывал с влиянием национальных шалмеев - пувама (тип 2-, 3-, 4-голосной волынки) и нюди (двойной кларнет). К этому заключению он пришел еще в 1930-е гг. на основании знакомства с мордовской музыкой, исполняемой ансамблем Учватова, и нотирования фонографных записей экспедиции Греховодова – Учватова, начатого им именно с нюдийных наигрышей).
Глубокое знание музыкальных традиций финно-угорских, тюркских народов, их многовековых взаимосвязей со славянской культурой позволило ученому высказать положение о влиянии инструментального бурдонного волыночного многоголо- сия народов Поволжья на стилистику обработок М. А. Балакирева русских волжских песен [14, 208, 210]31.
К числу столь же важных проблем Гиппиус относил и связи финно-угорского многоголосия с южнорусскими многоголосными традициями, о которых он часто говорил в период работы над мордовскими изданиями и во время руководства аспирантами из мордвы. Эту тему он затрагивал на многих научных форумах: на конференции в Чебоксарах (1975) «Традиционный и современный музыкальный фольклор народов Поволжья и его исторические взаимосвязи», на заседаниях ученых советов Института музыкознания Венгерской АН в Будапеште (1977) и Мордовского НИИ (1981). В 1981 г. Евгений Владимирович, руководивший диссертационной работой Л. Б. Бояркиной по мордовско-русским связям, передал ей свои неопубликованные нотации южнорусских песен, напевы которых, по его мнению, «поразительно сходны с мордовскими»32.
Подытоживая все вышесказанное, следует указать, что феномен Е. В. Гиппиуса состоит и в том, что он не только «ставит проблемы, но как бы развертывает их в перспективе», поэтому его работы «принципиально не устаревают» [21, 95], а позволяют плодотворно развивать намеченные им направления. Это всецело относится и к финно-угорской проблематике. Явившись зачинателем научного изучения музыки российских финно-угров, Гиппиус на протяжении полувека оставался выразителем наиболее результативных и ярких достижений этномузыкальной финно-угристики, создал источниковедческую и теоретическую базу, предложил современную методологию для дальнейших исследований актуальных проблем. Вместе с тем труды и в целом деятельность Гиппиуса позволяют говорить о нем не только как об основоположнике этномузыкальной финно-угристики, но и как о гуманисте: в изучаемом им предмете он видел богатую и полную драматизма историю финно-угров, живое искусство, равное по своей художественной значимости искусству других народов мира.
Список литературы Е. В. Гиппиус: проблемы формирования этномузыкальной финно-угристики в России
- Асафьев, Б. О народной музыке/Б. Асафьев сост. И. Земцовский, А. Кунанбаева. -Ленинград: Музыка, 1987.
- Бояркин, Н. И. Мордовская народная музыка: Многоголосные инструментальные традиции. Ч. 2./Н. И. Бояркин. -Саранск: Издательство Мордовского университета, 2006.
- Бояркин, Н. И. Мордовское народное музыкальное искусство/Н. И. Бояркин; ред. Е. В. Гиппиус. -Саранск: Мордовское книжное издательство, 1983.
- Бояркин, Н. И. Феномен традиционного инструментального многоголосия (на материале мордовской музыки): автореф. дис. … д-ра искусствоведения. -Санкт-Петербург, 1995.
- Бояркина, Л. Б. К проблеме изучения мордовского субстрата в русской музыке//Этномузыковедение Поволжья и Урала в арельных исследованиях: сб. науч. тр. Удм. ин-та ист., яз. и лит. -Ижевск, 2002.
- Бояркина, Л. Б. Ленинградское общество исследователей финно-угорских народностей//Бояркина Л. Б. Мордовская музыкальная энциклопедия. -Саранск: Мордовское книжное издательство, 2011.
- Бояркина, Л. Б. ЛОИКФУН: История и современность//Н. П. Огарёв от XIX к XXI веку: материалы конф. Мордов. ун-та. -Саранск. 1999.
- Гиппиус, Е. В. К изучению поэтического и музыкального стиля удмуртской народной песни/Е. В. Гиппиус, З. В. Эвальд//Записки Удмуртского НИИ: Вопросы языка, литературы и фольклора. -Ижевск, 1941. -Вып. 10.
- Гиппиус, Е. Карельская народная песня/Е. Гиппиус, З. Эвальд//Советская музыка. -1940. -№ 9.
- Гиппиус, Е. В. Мелодический склад, мыслимый вне гармонии и тактовой ритмики, и мелодический склад, гармонически опосредованный//Материалы и статьи: к 100-летию со дня рождения Е. В. Гиппиуса/ред.-сост. Е. А. Дорохова, О. А. Пашина. -Москва, 2003.
- Гиппиус, Е. В. Предисловие/Е. В. Гиппиус, В. Я. Евсеев//Карельские народные песни/сост. и вступ. ст. Л. М. Кершнер; ред., предисл. и коммент. Е. В. Гиппиуса и В. Я. Евсеева. -Москва: Музгиз, 1962.
- Гиппиус, Е. В. Общетеоретический взгляд на проблему каталогизации народных мелодий//Актуальные проблемы современной фольклористики: сб. ст. и материалов/Сост. В. Е. Гусев. -Ленинград: Музыка, 1980.
- Гиппиус, Е. В. От редактора//Осетинские народные песни, собранные Б. А. Галаевым/ред., предисл., нотации Е. В. Гиппиуса совм. с Б. А. Галаевым. -Москва: Музыка, 1964.
- Гиппиус, Е. В. Сборники русских народных песен М. А. Балакирева//Балакирев М. Русские народные песни для одного голоса с сопровождением фортепиано/ред., предисл., исслед. и прим. Е. В. Гиппиуса. -Москва, 1957.
- Гиппиус, Е. В. Удмуртские народные песни: Тексты и исследования/Е. В. Гиппиус, З. В. Эвальд. -Ижевск, 1989.
- Григорьева, И. П. Музыкальная культура ингерманландских финнов второй половины XIX и XX столетий/И. П. Григорьева. -Санкт-Петербург, 1995.
- Жирмунский, В. М. Проблема социальной дифференциации языков//Язык и общество. -Москва, 1968.
- Карельские народные песни/сост. и вступ. ст. Л. М. Кершнер; ред., предисл. и коммент. Е. В. Гиппиуса и В. Я. Евсевьева. -Москва: Музгиз, 1962.
- Кольк, У. Проблемы сетуского многоголосия//Музыкальный фольклор финно-угорских народов и их этномузыкальные связи с другими народами: тез. докл. -Таллинн, 1976.
- Материалы и статьи: к 100-летию со дня рождения Е. В. Гиппиуса/ред.-сост. Е. А. Дорохова, О. А. Пашина. -Москва: Издательский дом «Композитор», 2003.
- Можейко, 3. Е. Гиппиус в белорусской этномузыкологии//Белорусская этномузыкология: Очерки истории (XIX-XX вв.)/3. Можейко, Т. Якименко, Т. Варфоломеева и др.; под. ред. 3. Можейко. -Минск, 1997.
- Мордовский этнографический сборник/сост. А. А. Шахматов. -Санкт-Петербург, 1910.
- Мухаринская, Л. С. Неутомимый исследователь//Советская музыка. -1974. -№ 1.
- Памятники мордовского народного музыкального искусства: в 3 т./под ред. Е. В. Гиппиуса, сост. Н. И. Бояркин. -Саранск: Мордовское книжное издательство, 1981-1988.
- Поппе, Н. Н. Финно-угорские народы/Н. Н. Поппе, Г. А. Старцев. -Ленинград, 1927.
- Рубцов, Ф. А. Скерцо для виолончели с фортепиано на мордовскую тему/Ф. А. Рубцов. -Москва, 1946.
- Рюйтел, И. Исторические пласты эстонской народной песни в контексте этнических отношений/И. Рюйтел. -Таллинн, 1994.
- Степанов, Г. В. К проблеме языкового варьирования/Г. В. Степанов. -Москва, 1979.
- Сураев-Королев, Г. И. Многоголосие и ладовое строение мордовской народной песни (мордовская многоголосная пентатоника)//Труды НИИ при Совмине МАССР. -Саранск, 1964. -Вып. 26.
- Урицкая, Б. С. О некоторых чертах мордовской многоголосной песни//Проблемы музыкального фольклора народов СССР: ст. и материалы/сост. и ред. И. И. Земцовский. -Москва, 1973.
- Учватов, М. В. Сире пингонь мордовскяй народнай морот/М. В. Учватов. -Саранск, 1941.
- Чуракова, Р. А. Удмуртские свадебные песни/Р. А. Чуракова, под ред. Е. В. Гиппиуса. -Устинов, 1986.
- Buch, M. Die Wotjäken//Eine ethnologishe Studie. 2. Ausgeg. -Helsingfors, 1882.
- GroBe, R. Die soziologischen Grundlagen von Nationalsprache und Lit-eratursprache, Umgangssprache und Halbmundart//Wissenschaftliche Zeitchr. der Universitat Rostock, Gesellschafts-und Sprachwissenschaftliche Reihe, 1969. -Hf. 6-7.
- Inkerin runosavelmat/Julkaisi A. Launis. -Helsinki, 1910.
- Karjalan runo-savelmat/Julkaisi A. Launis. -Helsinki, 1930.
- Karjasoitto, А. О. Väisänen keräämiä päimensävelmia Inkeristä; Toimittanut I. Kolehmainen. -Kaustinen, 1985.
- Paasonen, H. Mordwinische Volksdischtung. -Helsinki, 1931-1981.
- Pannoff, P. Phonographierte wotiakische, permiakishe und tatarische Lie-der//Zeitschrift fiir Musikwissenschaft. -11 Iahrgang, August-September. -1929.
- Sаastаmoinen, I. Kansat soittavat: Alkumusiikin lähteillä. -Helsinki, 1985.
- Väisänen, A. O. Mordwinische Melodien. -Helsinki, 1948.
- Vikar, L. Archaic Types of Finno-Ugrian Melody//Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae. -Budapest, 1972. -№ 14.
- Vikár, L. Előszó//Vikár L., Szij E. Erdök Eneke: Finnugor népek 100 népdala. -Budapest: Corvina, 1985. -P. 10.
- Wogylische und Ostjakische Melodien (Phonographisch aufgenommen von A. Kannisto und K.F. Karjalainen; Herausgegeben von A. O. Vaisanen. -Helsinki, 1937.