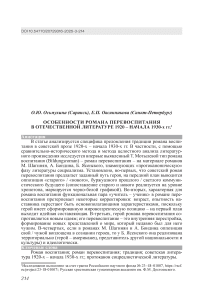Е.П. Овсянникова (Санкт-Петербург) Особенности романа перевоспитания в отечественной литературе 1920 – начала 1930-х гг.
Автор: О.Ю. Осьмухина
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется специфика преломления традиции романа воспитания в советской прозе 1920-х – начала 1930-х гг. В частности, с помощью сравнительно-исторического метода и метода целостного анализа литературного произведения исследуется впервые выявленный Т. Мотылевой тип романа воспитания (Bildungsroman) – роман перевоспитания – на материале романов М. Шагинян, А. Бондина, Б. Ясенского, знаменующих «протоканоническую» фазу литературы соцреализма. Установлено, во-первых, что советский роман перевоспитания предлагает заданный путь героя, на передний план выводится оппозиция «старого» / «нового», буржуазного прошлого / светлого коммунистического будущего (сопоставление старого и нового реализуется на уровне хронотопа, маркируется черно-белой графикой). Во-вторых, характерная для романа воспитания функциональная пара «учитель – ученик» в романе перевоспитания претерпевает некоторые корректировки: возраст, опытность наставника перестают быть основополагающими характеристиками, поскольку герой имеет сформированную мировоззренческую позицию – на первый план выходит идейная составляющая. В-третьих, герой романа перевоспитания сопротивляется новым идеям; его перевоспитание – это внутренняя перестройка, формирование новых представлений о мире, который недавно был для него чужим. В-четвертых, если в романах М. Шагинян и А. Бондина оппозиция свой / чужой воплощена в сознании героев, то у Б. Ясенского она реализована территориально (герой – американец, представитель другой национальности и культуры) и идеологически.
Роман воспитания, роман перевоспитания, традиция, советская литература 1920-х – начала 1930-х гг., протоканон соцреалистической литературы
Короткий адрес: https://sciup.org/149149391
IDR: 149149391 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-214
Текст научной статьи Е.П. Овсянникова (Санкт-Петербург) Особенности романа перевоспитания в отечественной литературе 1920 – начала 1930-х гг.
В статье анализируется специфика преломления традиции романа воспитания в советской прозе 1920-х – начала 1930-х гг. В частности, с помощью сравнительно-исторического метода и метода целостного анализа литературного произведения исследуется впервые выявленный Т. Мотылевой тип романа воспитания (Bildungsroman) – роман перевоспитания – на материале романов М. Шагинян, А. Бондина, Б. Ясенского, знаменующих «протоканоническую» фазу литературы соцреализма. Установлено, во-первых, что советский роман перевоспитания предлагает заданный путь героя, на передний план выводится оппозиция «старого» / «нового», буржуазного прошлого / светлого коммунистического будущего (сопоставление старого и нового реализуется на уровне хронотопа, маркируется черно-белой графикой). Во-вторых, характерная для романа воспитания функциональная пара «учитель – ученик» в романе перевоспитания претерпевает некоторые корректировки: возраст, опытность наставника перестают быть основополагающими характеристиками, поскольку герой имеет сформированную мировоззренческую позицию – на первый план выходит идейная составляющая. В-третьих, герой романа перевоспитания сопротивляется новым идеям; его перевоспитание – это внутренняя перестройка, формирование новых представлений о мире, который недавно был для него чужим. В-четвертых, если в романах М. Шагинян и А. Бондина оппозиция свой / чужой воплощена в сознании героев, то у Б. Ясенского она реализована территориально (герой – американец, представитель другой национальности и культуры) и идеологически.
ючевые слова
Роман воспитания; роман перевоспитания; традиция; советская литература 1920-х – начала 1930-х гг.; протоканон соцреалистической литературы.
O.Yu. Osm ukhina (Saransk), E.P. Ovsyannikova (St. Petersburg)
PECULIARITIES OF THE NOVEL OF RE-BILDUNGSROMAN IN THE RUSSIAN LITERATURE OF 1920s – EARLY 1930s1
bstract
A
The article analyzes the specifics of the refraction of the tradition of the Bil-dungsroman in the Soviet prose of the 1920s – early 1920s. In particular, with the help of comparative-historical method and the method of holistic analysis of literary work, the type of Bildungsroman – the novel of re-Bildungsroman, first identified by T. Motyleva, is studied on the material of novels by M. Shaginian, A. Bondin, and B. Yasensky, which mark the “protocanonical” phase of socialist realism literature. It is established, firstly, that the Soviet novel of re-Bildungsroman offers a set path of the hero, the opposition of “old” / “new”, bourgeois past / bright communist future is brought to the forefront (the comparison of old and new is realized at the level of chronotope, marked by black-and-white graphics). Secondly, the functional pair of teacher-student in the re-Bildungsroman, characteristic of the Bildungsroman, undergoes some adjustments: the age and experience of the mentor are no longer fundamental characteristics, since the hero has a formed worldview – the ideological component comes to the fore. Thirdly, the hero of re-Bildungsroman resists new ideas; his re-education is an internal reorganization, the formation of new ideas about the world, which recently was alien to him. Fourth, while in M. Shaginian’s and A. Bondin’s novels the opposition between native / foreign is embodied in the consciousness of the heroes, in B. Yasensky’s novels it is realized territorially (the hero is an American, a representative of another nationality and culture) and ideologically.
s
Bildungsroman; re-Bildungsroman; tradition; Soviet literature of 1920s – early 1930s; protocanon of socialist realist literature.
Начнем с очевидного: жанровая традиция Bildungsroman, репрезентован-ная, как указывал М.М. Бахтин [Бахтин 1975, 199], несколькими типами (роман странствий, роман испытания, роман биографический (автобиографический), роман становления (эта типология, кстати, расширяется В.Г. Колчиным [Колчин 2023])) и концентрирующая внутри себя историю личностного роста протагониста, не просто укоренилась на русской почве еще в XIX столетии (достаточно вспомнить, к примеру, «Обыкновенную историю» И. Гончарова или «Подростка» Ф. Достоевского ), но оказалась удивительно живуча в советской литературе. Поскольку, как справедливо отмечает В.И. Тюпа, «художественная практика соцреализма культивирует функционально-ролевой путь самоактуализации» [Тюпа 2025, 99], вся жизнь соцреалистического героя становится строительным объектом. Жанровые признаки романа воспитания при этом концентрируются вокруг метаморфозы героя, которая в романном нарративе осуществляется, как правило, через диалектику стихийного и сознательного, а путь его лежит от индивидуализма к коллективному (социалистическому) сознанию. Однако не все романы сосредотачивают сюжет только лишь вокруг этих категорий. В ряде произведений 1920-х – начала 1930-х гг., явившихся своего рода «предтечей» (протофазой) соцреализма, на первый план выходит мировоззренческое преображение персонажа – кардинальная смена его идеологии, и эта примечательная для ранней советской словесности разновидность Bildungsroman – роман перевоспитания.
В отечественном литературоведении термин «роман перевоспитания» был введен Т. Мотылевой в монографии «Роман – свободная форма» [Мотыле-ва 1982]. Как отмечает исследовательница, «герой не только вырабатывает для себя принципы в складывающемся обществе, но и преодолевает ложные <…> навыки и взгляд, которые прививались ему с детства. Названные книги можно определить как романы перевоспитания – идейной перестройки, идейного обновления» [Мотылева 1982, 383]. Доминантой сюжета все так же остается метаморфоза героя, однако весь жизненный путь его представляет собой не единую линию развития, как в классическом романе воспитания, но линию, которая, после достижения кажущейся идейной стабильности в определенный момент кардинально преломляется – происходит деперсонализация прежней личности и формирование новой. Сама идея ломанного пути протагониста, по мнению Т. Мотылевой, кстати, фактически повторяющей известный тезис М.М. Бахтина («процесс личного перевоспитания человека вплетен здесь в процесс ломки и перестройки всего общества, то есть в исторический процесс» [Бахтин 1975, 382]), отражает процесс крутой исторической ломки, в которой оказывается романный герой.
Важной чертой, позволяющей дифференцировать роман перевоспитания в фазе протоканона соцреализма [Осьмухина, Овсянникова 2024], является характеристика самого протагониста: если в романе воспитания герой предстает перед читателем как tabula rasa, то в романе перевоспитания путь его начинается уже в тот момент, когда он, казалось бы, полностью сформирован – персонаж неплохо знаком с мировоззренческими альтернативами и сознательно противится метаморфозам. При этом возраст его на момент перевоспитания не имеет определяющего значения – нельзя утверждать, что эта категория составляет одну из отличительных свойств романа перевоспитания. История литературы знает примеры произведений, в которых, несмотря на зрелый возраст протагониста, выдерживается жанровая традиция именно романа воспитания – герой представлен как tabula rasa. Так, в романе Д. Фурманова «Чапаев» несмотря на то, что протагонист далеко не юн (Чапаев на момент описываемых событий уже женат и имеет детей), он проживает насыщенную геройскими подвигами жизнь, Клычков при знакомстве отмечает его «младенческое» сознание: «Поражала еще в характере у него одна удивительная такая черточка: он по-детски верил слухам, всяким верил – и серьезным и пустым, и чистейшему вздору» [Фурманов 1983, 85]. И далее: «Чем дальше, тем больше убеждался Федор, что Чапаев, этот кремневый, суровый человек, этот герой-партизан, может быть как ребенок прибран к рукам» [Фурманов 1983, 102]. Кажущаяся внешняя грозность прикрывает детскую, доверчивую душу протагониста. Именно наличие «детскости» в характере героя и позволяет говорить о романе воспитания, несмотря на его внешнюю зрелость. То же замечание распространяется и на роман Е. Замятина «Мы», причем здесь герой, обретая душу, меняет устоявшуюся, уже привитую Единым Государством идеологию, то есть перевоспитывается, и поэтому, вероятнее, справедливо было бы отнести этот роман именно к роману перевоспитания. Однако обратимся к нашему начальному тезису: в романе перевоспитания герой должен знать альтернативные пути своего развития и сознательно игнорировать их. В этом отношении Д-503, несмотря на свой физиологический возраст, схож с ребен- ком: он знает и верит только в то, что ему внушили, о чем свидетельствует наивная восторженность первых строк его дневника: «Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда услышит в себе пульс нового, еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно не я» [Замятин 1988, 8]. Поэтому для дифференциации жанра необходимо учитывать следующее: наивность сознания протагониста в начале его пути характерна для романа воспитания, в то время как отличительными признаками романа перевоспитания становятся сформированность мировоззренческой позиции героя на момент его трансформации (в противовес роману воспитания герой не является tabula rasa), сознательное противление новым идеям, ломанная траектория пути его развития.
Следует отметить, что роман перевоспитания строится на оппозиции «свой – чужой». Герой, как правило, находится «по ту сторону» системы, сознательно не желая встраиваться в нее. Обычно подобное отрицание связано не столько с непоколебимой верой в устоявшиеся воззрения, сколько с непониманием нового мировидения или нежеланием попытаться понять его. Таким образом, мировоззренческая метаморфоза, которая происходит с главным героем, имеет важную особенность: принятие в итоге той идеологии, которая изначально намеренно и сознательно отрицалась. М.А. Литовская предлагает схему фабулы романа перевоспитания:
…первичное воспитание силами старого мира – неготовность к существованию в условиях новой действительности – перевоспитание силами нового мира – радостное понимание необходимости подобного рода воздействия и свободное существование в условиях новой действительности [Литовская 2008, 16–17].
Справедливости ради, отметим, что все перечисленные фазы проходит Пелагея Ниловна в провозглашенной советской критикой «истоком» соцреа-листической литературы «Матери» М. Горького. К. Кларк, называя горьковскую «Мать» романом воспитания, отмечает, что «в отличие от традиционного романа воспитания, ее финальная инкарнация была уже определена, когда она начала свой путь к “сознательности”» [Кларк 2002, 57]. В этом смысле каждый роман перевоспитания так или иначе предлагает читателю заданный путь героя, особенно это касается соцреалистического романа, в котором на передний план выводится оппозиция «старого» / «нового», буржуазного прошлого / светлого коммунистического будущего: переосмысливая мировоззрение, герой находится в парадигме только этих категорий, а потому, отказываясь от индивидуалистского мировосприятия, он непременно придет к «общему», приобщится к «большой семье».
Возвращаясь к тезису М. Бахтина и Т. Мотылевой о соответствии процесса перевоспитания личности процессу исторической ломки, необходимо подчеркнуть, что роман перевоспитания большей частью представлен в протока-нонической фазе [Гюнтер 2000, 282]; после официального же провозглашения соцреализма художественным методом роман перевоспитания встречается все реже и вскоре вовсе исчезает. Поэтому отнюдь не удивительно, что эту романную разновидность породило предчувствие революционных преобразований («Мать» М. Горького) и сам процесс исторической ломки. Если стабилизация ситуации, произошедшая к середине 1930-х, ослабила интерес писателей к идейной «перековке» человека, и, соответственно, к роману перевоспитания, то в литературе 1920-х – начала 1930-х гг. этот тип романа активно функционирует.
Так, «Приключение дамы из общества» (1923) М. Шагинян, обозначенное автором как «маленький роман», повествует о перестройке буржуазного мировоззрения героини, самоопределении ее в новом, социалистическом обществе. Романное действие сосредотачивается вокруг этого идейного перелома и развивается параллельно с исторической ломкой – событиями Октябрьской революции.
Перевоспитание Алины Николаевны Зворыкиной проходит несколько этапов: этап столкновения мировоззрений; подготовительный, в процессе которого героиня приходит к разочарованию в прежних идеалах; промежуточный этап, кризис которого заключается в осознании Алиной Николаевной невозможности следования прежним убеждениям; рубежный этап, который проводит четкую границу между прошлой и новой жизнью героини, и, наконец, новая жизнь – полное восприятие социалистических идей. Опираясь на схему фабулы, предложенную М. Литовской, отметим, что последняя стадия в романе М. Шагинян не маркируется надлежащей ей свободой – вплоть до финала романа Алина Николаевна ведет внутреннюю напряженную борьбу с проявлениями «капризной жены породистого маленького человека с головкой страуса» [Шагинян 1978, 232]. Финалом, утверждающим «положительную программу» перевоспитания героини становится обретение ею собственной выстраданной правды – не просто разочарование, отчаяние или ненависть к буржуазному классу, но стойкое решение больше никогда не принадлежать этому кругу: «К вам и к таким, как вы, Вилли, – я не вернусь ни живая, ни мертвая, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра» [Шагинян 1978, 244].
Рассмотрим последовательно перечисленные стадии, оговорившись, что образ героини на начальном и заключительном этапах характеризуется предельной полярностью – в финале он оказывается не просто трансформирован, а как бы вывернут наизнанку: все, что было чуждо, становится родным и близким, все, что ужасало и порицалось, кажется единственно верным, все, что было естественным, становится наигранным и омерзительным.
Мировоззрение героини на начальном этапе оказывается сформировано в условиях старого мира – принадлежность ее к буржуазному классу маркируется такими чертами характера, как капризность, пресыщенность, склонность к скуке, узость мышления. Впрочем, Алина Николаевна и сама осознает это – новые слова, вырывающиеся у нее в разговоре с Екатериной Васильевной, оказываются ей удивительны: «…попробовала я спорить, удивляясь на самое себя, как это мой ротик, из года в год приучаемый к одному и тому же запасу слов, стал выговаривать такие, посторонние» [Шагинян 1978, 154]. Называя социалистов «подонками общества», она демонстрирует привычную шаблонность – встреча с Екатериной Васильевной, социалисткой и коммунисткой, кажется ей приятной и полезной вплоть до момента, когда она узнает о ее убеждениях. Впоследствии, осмысливая все произошедшее, она датирует свои приключения, а значит, и начало своего перевоспитания, именно моментом знакомства с Екатериной Васильевной [Шагинян 1978, 153]. Столкновение двух мировоззренческих систем и укладов общественного строя происходит в сознании протагониста на начальном этапе его трансформации, а потому становится судьбоносным. А пока этот конфликт порождает в сознании Алины Николаевны интерес, который сама она трактует как возможность «слышать и видеть нечто большее» [Шагинян 1978, 161]. Классовое мышление составляет всю ее сущность на этом этапе, а потому в сценах с носильщиком она легко оскорбляется его невоспитанностью, обрушивая на него мысленные обвинения. Начальный этап перевоспитания, казалось бы, оканчивается ничем - Алина Николаевна не только не готова к решительным переменам в своей жизни, ей даже не хочется сколько-нибудь задумываться о них. Однако напоследок она получает письмо от Екатерины Васильевны, в котором звучит ошеломляющая ее мысль: «Ваш муж не потому плох, что похож на страуса и вы его ни на сантим не любите, а потому, что с ним надо лгать, лицемерить, хитрить и нельзя иначе» [Шагинян 1978, 167]. Мысль эта распространяется не только на мужа героини, но - шире - на все ее окружение и на класс, к которому она принадлежит. Поиск тех, с кем можно говорить правду, а также поиск своей правды становятся желанной целью Алины Николаевны.
Подготовительный этап откроет всю справедливость последнего суждения Екатерины Васильевны - неверная трактовка героиней ее слов приведет к азартному желанию говорить правду всем без исключения. Под прицел правдолюбия Алины Николаевны впоследствии попадут сестра Василия Сергеевича Бабетта и авантюрист Новосельский. Однако правда ради правды, превращенная, по сути, в азартную забаву, не приблизит героиню к социализму, приравняв ее к «нахалам». Сознание этого порождает в душе героини прозрение - первое ясное осмысление человека как непреложной ценности: «Тут я впервые поняла, как много значит человек для человека. Мы пустеем среди пустых» [Шагинян 1978, 178]. Развиваясь от момента прозрения к точке окончательного принятия новой действительности, героиня М. Шагинян проходит путь лишений - пережив революцию и добровольно отказавшись от очередного «бегства» с мужем, она пытается найти смысл жизни в заботе о людях, в любви к ним (опека над сиротами Люсей и Валей и над разоренным стариком камергером Ф.), однако, вместе с тем, она начинает все больше и больше ненавидеть большевиков:
Я была пострадавшей, была обывательницей, ненавидела большевиков, как палку, бьющую меня без устали по голове. <...> Жизнь сузилась до животной борьбы за существование. <.> Все шло мимо меня - события, люди, жизнь [Шагинян 1978, 196-197].
Переломным моментом в этой гонке за выживание становится встреча Алины Николаевны со старухой-богаделкой, которая открывает ей истину: «.поплачь-поплачь да скажи про себя: народ терпел и мне велел!» [Шагинян 1978, 201]. С этого момента Алина Николаевна понимает и принимает то, что случилось с ней - не ненавидит, не озлобляется, не сопротивляется, не осуждает:
Что такое со мной случилось? С сотнями, с тысячами Дунь, Мат-реш, Любаш случалось то же самое ежедневно, ежесекундно, под всеми широтами и долготами земного шара <.> У половины человечества - нет, больше - руки были подобны моим с детства до старости. У половины человечества никогда не было полного сна, полной сытости, большего пространства жизни, чем удушливое, темное, тяжкое от работы сегодня [Шагинян 1978, 202].
Переосмысление прежней жизни приводит ее к постижению справедливости жизни сегодняшней; смирение же перед гнетущей действительностью позволяет войти в «большую семью», миф о которой реализуется в романе в сцене митинга и добровольного труда. Почувствовав себя частицей толпы, героиня испытывает нечто похожее на катарсис – несмотря на физическую изможденность, душевный подъем ее достигает такой силы, что все прежние муки ныне начинают казаться оправданными: «…я весело вскидывала киркой. Мне было хорошо, впервые хорошо на душе. Осмысленность вошла в мою жизнь. Я соединила ее с другими жизнями. Я укрепила свою позицию» [Шагинян 1978, 206]. Социалистический пафос, который наполняет душу Алины Николаевны, перерождает ее. Сцена ударного труда на пределе физических сил с последующим обмороком и длительным лечением является в романе моментом символической смерти прежней личностной сущности героини (кстати, в классическом и модернистском романе воспитания этот мотив составлял основу архетипа инициации). Символическая смерть Алины Николаевны в фабульной схеме романа перевоспитания является тем пограничным моментом, который окончательно разрывает оставшиеся связи героини с прежней жизнью:
Теперь разговоры о «хамах» заставляли меня стискивать зубы. Теперь вид белоручек вызывал непонятное чувство брезгливости. Я выброшена из своего класса. И я начинаю медленно прирастать к другому, новому классу [Шагинян 1978, 211].
Художественное чутье М. Шагинян, стремление запечатлеть ломку человеческой личности в ее болезненности, сомнениях, страхах, метаниях не позволило изобразить безмятежную радость существования героини в новом классе. Эта часть пути перевоспитания Алины Николаевны лишена пафоса соцреалистической эйфории, который воплотится впоследствии, к примеру, у А. Бондина в «Матвее Коренистове». «Приключения дамы из общества», напротив, вскрывают тончайшие оттенки рождения нового советского человека.
Примечательно, что на протяжении всего романного действа хронотоп произведения маркируется чертами авантюрного характера – беспрестанная смена места героини М. Шагинян (из Австрии в Швейцарию, затем в Рим, из Рима в Санкт-Петербург и обратно на маленький кубанский курорт) является отражением ее мятущейся души, ищущей правду. Символично, что, окончательно разочаровавшись в своем окружении, она дважды предпринимает попытку остановиться – сначала отказывается ехать в Европу, а затем в Новороссийск. Этот нелегкий выбор оказывается сопряжен с ее душевным состоянием – впервые между личным комфортом и заботой о других она выбирает второе: «Пустота, равнодушие, скука, томленье упали с меня, как чешуя. <…> Это было моим обновленьем» [Шагинян 1978, 191]. Последующие пространственные перемещения героини в романе происходят в рамках одной области, однако то, что они не прекращаются, свидетельствует и о ее внутреннем формировании. Попадая из приморского курорта в городок к матери Безменова, Алина Николаевна начинает «медленно прирастать к другому, новому классу» [Шагинян 1978, 211]. Убегая же из этого городка, в надежде встретиться с камердинером Ф., она осознает:
…пройдя через труд, нищету, болезнь, опростившись, выживши, причислив себя к классу, имеющему мозоли на ладонях, – я сохранила глубоко внутри существо, чуждое всему пережитому. Я открыла в себе нечто, подобное атавистическому отростку на ушах, и мне было горько мое унизительное открытие… [Шагинян 1978, 238].
Если в предыдущих произведениях читателю не сообщается о детстве и юности героя – воспитание каждого из них a priori осуществлялось в соответствии с порядками старого мира, на пору которого пришлось их взросление, то в романе Б. Ясенского «Человек меняет кожу» (1933) детство Джима Кларка приходится на годы забастовок рабочих: отец его состоит членом революционного Общества индустриальных рабочих мира, и маленький Джим пытается осознать страшное слово – «уоббли». Все детство и юность Кларка – пример его отца, доказывающий, что капитализм «является единственным стимулом человеческой изобретательности и энергии» [Ясенский 1988, 10]. Это путь человека, который был предан своими единомышленниками-революционерами, а после выхода из тюрьмы смог обеспечить себе и Джиму безбедное существо- вание только отказавшись от прежних революционных идей. Хотя Кларк приезжает в Советский Союз, будучи приверженцем капиталистов, он не осознает себя ни по одну, ни по другую сторону:
Джимми не любил политики и не читал брошюр. Они напоминали ему заказы, выхлопотанные его отцом у социалистических синдикатов ценой одной пощечины. Своим безработным коллегам, которые заговаривали с ним языком прокламаций и излагали теорию переустройства мира, Джим отвечал неизменно, что он сомневается в научности такой теории, при помощи которой одна партия может доказывать необходимость уничтожения старого порядка, а другая – необходимость его сохранения [Ясенский 1988, 182].
Оппозиция «свой / чужой» реализована не в сознании Кларка, как в предыдущих произведениях. Во-первых – территориально: Кларк – американец, чужак в прямом смысле слова, человек другой национальности и культуры. Во-вторых – идеологически: советские коммунисты воспринимают американского инженера настороженно – в разговоре с Полозовой он прямо говорит об этом:
Вам кажется, раз я американец, инженер и не состою в коммунистической партии, – значит, я – буржуй, враг. Это пустяки. Что вы обо мне знаете? Ничего. <…> Может быть, во мне больше пролетарской крови, чем в вас [Ясенский 1988, 175].
Приезд Кларка в Советский Союз – формальная смена территории – оборачивается для него сменой и мировоззренческой позиции. Он, равно, как Алина Николаевна и Коренистов, искренне не понимает и до определенного момента не принимает социалистической идеологии, а потому его перевоспитание – это не просто просвещение, но внутренняя перестройка, формирование новых представлений о мире, который недавно был для него чужим.
В романе Б. Ясенского идея перевоспитания воплощена уже в самом названии: «кожа» в понимании главного героя представляет собой «подлинную индивидуальность» человеческой личности, в понимании же Полозовой – «кожа» – условность, шелуха, которую необходимо для того, чтобы сделать первый шаг к коммунистическому обществу. «Врасти» в коммунистическое общество, согласно Полозовой, возможно не иначе, как «поменяв кожу»: «живя в нашей стране нельзя быть посторонним наблюдателем» [Ясенский 1988, 106]. Таким образом, она сообщает Кларку о единственном для него пути. Здесь Полозова транслирует глубинное понимание будущей культуры соцреализма, в которой «надо либо полностью раствориться, либо быть отвергнутым ею. Позиция нейтрального наблюдателя ведет к уничтожению наблюдателя» [Паперный 1996, 249]. Для Полозовой социализм – «атрофированная индивидуальность» [Ясенский 1988, 106], а потому «смена кожи» для Кларка равна избавлению от нее.
Отметим, что американский инженер приезжает в Советский Союз с определенными убеждениями, которые и высказывает товарищу Полозовой в первой же дискуссии: он критикует советскую государственную систему, позволяющую гражданам «в половине их жизненного пути менять место, занимаемое ими в обществе» [Ясенский 1988, 106]. Однако эта дискуссия не остается бес- плодной: спустя время Джим изменяет своим же убеждениям – забастовка рабочих, требующих прибавить зарплаты, приводит к коллапсу на строительстве, Кларк же, следуя примеру Полозовой, втягивается в работу: «Американский инженер, залезший ночью на экскаватор, чтобы работать всю смену простым драгером – такое Андрей Савельич видел впервые» [Ясенский 1988, 262].
Нельзя не отметить и мотив одиночества, который, как и в предыдущих произведениях, играет важную роль в «программе» перевоспитания героя. После того, как Кларк вопреки своим убеждениям садится за руль экскаватора, в его сознании происходит переворот – чувство одиночества, мучавшее его в первые дни приезда, бесследно исчезает [Ясенский 1988, 267]: наказание за непонимание и неприятие социалистической идеологии снимается. Полозова оказывается права: «живя в нашей стране нельзя быть сторонним наблюдателем». Оканчивается роман самоотверженным подвигом Кларка, который, рискуя жизнью, приводит в головное управление отряд и предотвращает налет банды басмачей.
Отметим, что роман перевоспитания в фазе протоканона соцреализма изобилует черно-белой графикой, маркирующей оппозицию двух миров – старого и нового. Такая особенность диктуется стремлением «не только выработать для себя принципы жизни в становящемся, складывающемся обществе, но и преодолевать ложные, антигуманные навыки и взгляды, которые прививались с детства» [Мотылева 1982, 383]. Фактически во всех произведениях с окончательным перевоспитанием героя «снимается» оппозиция старого / нового мира и достигается всеобщая гармония.
Резюмируя все, сказанное выше, заключим, что появление романа перевоспитания, на наш взгляд, обусловлено самим социокультурным контекстом. 1920-е гг. – первое постреволюционное десятилетие – время общественных потрясений, осмысления произошедшего перелома, и оно вынужденно ставит героев ранней советской литературы перед выбором, обязывая отказываться от привычных форм понимания мира, ибо «анализ психологии отдельной личности – это был путь к постижению психологии социальной» [Мотылева 1982, 369]. Перевоспитание отдельной романной личности в советской литературе 1920-х – начала 1930-х гг. не только явилось ключом к пониманию механизмов социальной «перековки», но и служило весьма показательным примером для читателей: идеологическим изменениям подвержен каждый – и беспечная «дама из общества» (Алина Николаевна Зворыкина в «Приключении дамы из общества» М. Шагинян), и неграмотный мужик (Матвей Коренистов из одноименного текста А. Бондина), и даже капиталист (Джим Кларк в романе «Человек меняет кожу» Б. Ясенского).