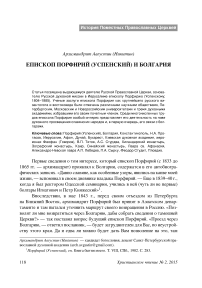Епископ Порфирий (Успенский) и Болгария
Автор: Никитин Архимандрит Августин
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История поместных православных церквей
Статья в выпуске: 2 (61), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выдающемуся деятелю Русской Православной Церкви, основа-телю Русской духовной миссии в Иерусалиме епископу Порфирию (Успенскому;1804-1885). Ученые заслуги епископа Порфирия как крупнейшего русского ви-зантолога и востоковеда были отмечены различными научными обществами, Пе-тербургским, Московским и Новороссийским университетами и тремя духовнымиакадемиями, избравшими его своим почетным членом. Среди многочисленных тру-дов епископа Порфирия особый интерес представляет его деятельность на ниведуховного просвещения славянских народов и, в первую очередь, его связи с бол-гарами.
Порфирий (успенский), болгария, константинополь, н.а. про-тасов, иерусалим, афон, дунай, бухарест, киевская духовная академия, иеро-монах феофан (говоров), в.п. титов, а.с. стурдза, хиландарский монастырь, зографский монастырь, каир, синайский монастырь, лавра св. афанасия, александро-невская лавра а.п. лебедев, п.а. сырку, феодор студит, пловдив
Короткий адрес: https://sciup.org/140190080
IDR: 140190080
Текст научной статьи Епископ Порфирий (Успенский) и Болгария
Первые сведения о том интересе, который епископ Порфирий (с 1833 до 1865 гг. — архимандрит) проявлял к Болгарии, содержатся в его автобиографических записях. «Давно славяне, как особенные узоры, явились на канве моей жизни, — вспоминал в своем дневнике владыка Порфирий. — Еще в 1839–40 г., когда я был ректором Одесской семинарии, учились в ней (чуть ли не первые) болгары Игнатович и Петр Княжеский»1.
Впоследствии, в мае 1843 г., перед своим отъездом из Петербурга на Ближний Восток, архимандрит Порфирий был принят в Азиатском департаменте и там пытался уточнить маршрут своего возвращения в Россию. «Позволят ли мне возвратиться через Болгарию, дабы собрать сведения о тамошней Церкви?» — так поставил вопрос будущий епископ Порфирий. «Проезд через Болгарию, — ответил посланник, — будет затруднителен для Вас, по неустройству этого края. Да и едва ли можно будет дать Вам позволение на это, там
(турецкие власти. — Авт. ) возведут на Вас небылицы, злоупотребят Вашим именем. Итак, не желайте себе неприятностей»2.
23 мая 1843 г. (здесь и далее — по старому стилю) архимандрит Порфирий выехал из Петербурга в Одессу, а из Одессы морем — на Ближний Восток. В Константинополе он имел встречу с патриархом Германом, и в ходе беседы разговор зашел, в частности, о болгарах. По словам Константинопольского патриарха, он предпринял печатание богослужебных книг на славянском языке с московских изданий для снабжения ими болгарских храмов, и уже был напечатан Октоих. Два экземпляра этого издания о. Порфирий отправил в Санкт-Петербург обер-прокурору Святейшего Синода Н.А. Протасову (1799– 1855, обер-прокурор с 1836 по 1855 гг.), сообщая при этом, что патриарх Герман «желает напечатать Евангелие на том же языке (уже вышло объявление о нем, которое при сем прилагается), но по недостатку людей, сведущих основательно церковно-славянский язык, встречает затруднение в напечатании его в том виде и порядке, в каком обыкновенно печатаются греческие богослужебные Евангелия, в которых чтения расположены не по историческому порядку происшествий, а по порядку праздников и недель, начиная с первого дня Пасхи. На вопрос патриарха, есть ли в России подобные Евангелия на славянском языке, я отвечал, что видел такое Евангелие в Вильне, в православном монастыре Свя-тодуховском, и что если Его Святейшеству угодно будет иметь его для образца при печатании, то, без всякого сомнения, можно достать его из России»3.
20 декабря 1843 г. архимандрит Порфирий прибыл в Иерусалим. В течение двух с половиной лет своего первого пребывания на Востоке о. Порфирий много ездил по Палестине, Сирии, Египту, был в Синайской пустыне. Уже в первые дни своего пребывания в Святой Земле о. Порфирий снова соприкоснулся с болгарскими проблемами. Дело в том, что тогдашний игумен Саввинского монастыря по происхождению был болгарином и, по-своему желая независимости своей родине, выражал это в несколько своеобразной форме. По словам этого игумена, «болгары, приходя сюда на поклонение, рассказывают на духу тайно, что в Англии ныне нашелся потомок того болгарского царя, который, не могши заплатить условленную сумму туркам за оказанную ими помощь болгарскому народу, ушел в Англию со своим семейством и с документами, а турки сделались владыками болгар, яко заложенных им собственным царем их. Этот потомок объявил всем царям европейским, что он теперь в состоянии уплатить туркам условленную цену и даже с процентами, и потому объявляет свои права на престол болгарский»4. Архимандриту Порфирию, как церковному историку, привыкшему опираться на документально подтвержденные факты, такие сведения показались странными, но он сумел сделать из этого правильный вывод о том, что «и ложные слухи в народе показывают брожение, движение, стремление этого народа к известной цели, например, к независимости»5.
Еще в самом начале своего пребывания в Иерусалиме, в 1844 г., архимандрит Порфирий занес в свой дневник мысль об учреждении в этом городе Русской миссии6. И хотя с того времени до воплощения идеи в жизнь (1847) прошло несколько лет, известие о возможном учреждении Русской Духовной миссии в Иерусалиме встревожило местную греческую иерархию. Как отмечал архимандрит Порфирий, греки «опасаются соединения болгар с русскими и лишения доходов. Болгары будут предпочтительно ходить в русскую церковь. Греки лишатся доходов и влияния на болгар и прочих единоверцев, исключая греков»7.
Посетив Синай и Египет, архимандрит Порфирий выехал на Афон, где пребывал в течение года (1845–1846). Он описывал там хризовулы болгарских, русских, сербских, греческих, валахских и молдавских царей и князей, копировал славянские и греческие надписи на монастырских зданиях и гробницах, крестах и иконах. Отец Порфирий не ограничивался лишь сбором научного материала, но и осуществлял сравнительный анализ манускриптов, обнаруженных им в монастырских книгохранилищах. Об этом свидетельствует письмо, посланное им с Афона прот. М.К. Павловскому, в котором о. Порфирий излагает следующую просьбу: «Усердно прошу Вас купить болгарские грамоты, изданные в Одессе г. Априловым, и переслать их ко мне на Афон через посредство Я.И. Каймакана. Если Вы не найдете их в книжных лавках, то выпросите для меня одну книжечку у самого издателя. Он знает меня»8.
После годичного пребывания на Афоне архимандрит Порфирий, обогащенный разнообразными материалами, покинул Святую гору и морем направился на родину. Ему удалось бросить взгляд на берега той страны, где он так стремился побывать. В своем дневнике от 26 июля 1846 г. о. Порфирий сделал следующую запись: «Карантин в Браилове. С парохода я видел Варну и благо- словил Бога, научившего там персты наших воинов на брань. В русском устье Дуная воспылало мое сердце славянское и я пел:
“Дунай ли мой Дунай, сын Иванович Дунай”.
Честные казаки стерегут левый берег этой заветной реки. Я видел уютные избушки их, видел их копья и считал их мерные шаги. Они поглядывают за Дунай, чуя там своих братьев угнетенных. Чутье русское — чутье необманчивое. Действительно, за Дунаем живут братья славяно-болгары и ждут к себе братьев руссов на пир и мир и вечное за одно под сению креста и русского орла. Ждите, братцы, ждите. Придем мы, братцы, придем»9.
По пути на родину о. Порфирий посетил Бухарест и осмотрел его христианские святыни. В монастыре Кольцу о. Порфирия навестили четыре болгарина во главе с Христофором Мустаковым и сообщили ему о нестроениях, которые возникали среди православных болгар из-за постоянного вмешательства в их церковную жизнь со стороны турецких властей и греческого духовенства. По словам о. Порфирия, эти четверо болгар «жаловались на властолюбие, корыстолюбие и холодность к ним греческих архиереев; рассказывали, что болгары подавали прошение султану Абдул-Меджиду (во время путешествия его) об удалении тырновского митрополита Неофита, грека, и о дозволении иметь одноплеменных с ними архипастырей, и что Великая Церковь Константинопольская, узнав об этом прошении, сменила Неофита и на место его прислала сербского митрополита, грека же, внушив Порте политическую недоверчивость к архиереям из болгар. Рассказав же сие, прибавили, что и этот митрополит не люб болгарам, и что Тырнов желает иметь или своего единоплеменного архипастыря, или варнского архиерея, который знает, по крайней мере, язык болгарский»10.
Упрекнув греков в том, что они не только не способствуют, но даже препятствуют просвещению Болгарии, болгарские посланцы продолжали: «Мы одни между народами сидим во тьме; нам нужен свет; мы просим его у Бога; мы способны и готовы принять его, но не от латинян и не от протестантов. Из Парижа требовали десять болгарских юношей для безмездного обучения их там. Американские миссионеры предлагали нам подобную услугу. Но мы опасаемся всех их, потому что они не имеют правой веры и Божией благодати, нам люб только чистый свет Православия»11.
После этого болгары просили о. Порфирия походатайствовать в Святейшем Синоде о принятии 12 болгарских юношей в Киевскую духовную семинарию на казенный счет, кого они сами изберут и пришлют. Архимандрит Порфирий посоветовал им написать прошение об этом и приложить к нему, вместо подписей, одни именные печати из предосторожности, как бы не пропало у него их прошение, и обещал вручить его обер-прокурору Святейшего Синода графу Протасову, добавив при этом: «Не ручаюсь вам за успех дела, который зависит от благословения Божия и от ваших молитв». «Болгары отменно благодарили меня, — добавляет о. Порфирий, — и под влиянием радости открылись, что они внесут мое имя в книгу, в которой записываются ими благодетели болгарского народа»12.
Осенью 1846 г. архимандрит Порфирий вернулся в Петербург и сразу же отправил в Святейший Синод письмо следующего содержания: «В бытность мою в Бухаресте тамошние почетные болгары И. Селиминский, Христофор Му-стаков, Петр Ранцов и другие, уговорили меня принять прилагаемое при сем прошение о воспитании 12 юных болгар в Киевской семинарии и через мое посредство повергают сие прошение к стопам Вашего сиятельства. Вместо подписей имен и прозваний просителей приложены одни печати из предосторожности, как бы врученное мне прошение каким-либо случаем не попалось людям, которые не должны знать о воспитании болгар в России»13.
В этом официальном документе о. Порфирий не имел возможности до конца выразить свое отношение к данному делу. Но он доверил свои чувства дневнику, и в этот же день там появилась такая запись: «Сего же дня препровождено было мною прошение бухарестских болгар о принятии 12-ти юных родичей их в Киевскую семинарию. Да даст им Господь по сердцу их! Болгары — родня нам. По родству и по любви Христовой мы должны сообщить им свет, который озаряет нас, и которого у них нет. Тьма им неприятна, губительна. Они жаждут просвещения. Им хочется быть благоустроенным и благополучным народом. Святое хотение, достойное исполнения!»14
О результатах усилий, предпринятых о. Порфирием, можно узнать из его дальнейших записей. Впоследствии, в 1848 г., переписывая свой дневник набело, о. Порфирий сделал следующую добавку: «Я исполнил свое обещание, и Бог благословил мое ходатайство. Из Бухареста приняты в Киевскую семинарию 11
болгар в 1847 г.. Шесть из них учатся на казенный счет, а 5 содержатся иждивением тамошнего митрополита Филарета»15. В другом месте книги своих воспоминаний архимандрит Порфирий еще раз вернулся к этому событию, отметив, что «в 1846 г. болгары, живущие в Бухаресте, подали мне прошение об обучении 12 молодых болгар в Киевской семинарии с тем, чтобы по возвращении их на родину на места их поступали другие двенадцать, но были приняты только шесть»16.
Несколько лет спустя, находясь в Киеве, о. Порфирий так охарактеризовал свою деятельность на ниве духовного просвещения: «Бог сподобил меня быть зачатком духовного образования двух православных народов — арабского и болгарского. Итак, никто не скажет о мне: он праздно прошел по земле. Свидетели правды моей суть юные арабы в Иерусалиме и юные болгары в Киеве. Первые образуются по моему настоянию, вторые — по моему ходатайству»17.
Но заботы о. Порфирия не ограничились устройством в Киевскую семинарию болгарских юношей. В своем письме к инспектору Московской духовной семинарии А.Ф. Карасевскому он снова хлопотал за болгарского студента, прося оказать тому возможное содействие: «У вас в Москве находится один молодой болгарин, Иван Васильев Шоп. Он приехал в столицу для получения образования, так нужного болгарам, но бедняга не имеет ни покровителей, ни благодетелей. Поручаю его Вашей любви и ради Бога прошу Вас отыскать его в Староконюшенной улице в доме Кожевниковой у А. Невского и представить ректору Алексею, а его благочестие поручило бы единоверного болгарина владыкам и архимандритам московским. Исполните долг братолюбия и помогите иностранцу»18.
Как уже было отмечено, усилия архимандрита Порфирия по учреждению Русской Духовной миссии в Иерусалиме в 1847 г. увенчались успехом, и его назначили ее начальником. Выехав из Петербурга 14 октября 1847 г., о. Порфирий и его спутники — бакалавр Санкт-Петербургской духовной академии иеромонах Феофан (Говоров; впоследствии — ректор этой академии) и два студента Петербургской духовной семинарии, П. Соловьев и Н. Крылов — направились в Палестину. По пути в Иерусалим они посетили Константинополь, где архимандрит Порфирий вновь столкнулся с проблемами духовного окормления болгарских христиан. В своем письме к дипломату румыно-молдавского проис- хождения на русской службе А.С. Стурдзе (1791–1854) о. Порфирий сообщал, что в Константинополе живет папский миссионер, который хорошо знает церковнославянский язык. По словам о. Порфирия, этот миссионер «закупил здесь богослужебные книги, печатанные в России, и послал их к папе, а турецкому министру иностранных дел показал в них моления об истреблении агарянского царства. И вот теперь здешние книгопытатели вырезывают эти моления и вырывают те страницы, где напечатаны имена наших царей, цариц и их чад»19.
В связи с этим о. Порфирий пишет далее: «Жаль мне сердечных болгар, которые охотно покупают наши богослужебные книги. Я боюсь, как бы агаряне не стали притеснять их под предлогом розыска этих книг в городах и селах, для уничтожения в них слов, противных их агарянскому владычеству»20.
Опасения о. Порфирия были справедливы. Трудности с просвещением болгар продолжались в течение ряда лет, и в 1852 г. это снова нашло свое отражение в его записях: «Нынешний Вселенский владыка Анфим негоден, препятствует нам помогать болгарам и Амидийскому митрополиту Макарию, не входя в Порту с ходатайством за них. Наши церковные книги, вывозимые болгарами из России, поступают здесь в турецкую цензуру. Один из цензоров, именно Чивини, указал Порте в этих книгах те места, где хулятся агаряне. Порта приказала выдирать все эти места. Таким образом, наши книги портятся безжалостно, а иные и сожигаются. Вероятно, из Петербурга придет в Порту напоминание о том, чтобы она не жгла их и учредила бы цензуру вместо светской духовную»21.
Находясь в Константинополе, архимандрит Порфирий встречался здесь с русским послом В.П. Титовым и, несомненно, обсуждал с ним подобные вопросы. Об этом свидетельствует содержание записки В.П. Титова от 24 апреля 1848 г., хранящейся в рукописном архиве о. Порфирия. В этом документе, озаглавленном «О Православной Церкви на Востоке», содержатся, в частности, следующие предложения: «Усилить особливо в духовных Академиях (Русской Православной Церкви. — А.А.) не только древний эллинский язык для чтения в подлиннике восточных святых отцов, но и разговорный новогреческий. Завести при них же кафедры южнославянских наречий, сербского и болгарского. На иждивение духовного ведомства или доброхотных благотворителей посылать людей даровитых и трудолюбивых для посещения святых мест и пребывания особливо там, где должны храниться собрания книг и рукописей, например, в Афонской горе, в монастыре св. Иоанна Рыльского и т.д. Готовить полную документальную историю патриархий славянских: российской, сербской, бол-гарской»22.
Помимо оказания помощи и личного общения с болгарскими христианами о. Порфирий также стремился вносить свою лепту в разработку истории Болгарской Церкви. В этом отношении весьма интересна его исследовательская деятельность на Афоне и в Палестине. Следует упомянуть о научных связях, которые установились между архимандритом Порфирием и игуменом афонского Хиландарского монастыря, который в те годы принадлежал болгарским насельникам. Так, в своем письме этому игумену от 8 апреля 1848 г. о. Порфирий сообщал о том, что намерен написать историю этой афонской обители, и в связи с этим просил игумена сообщить ему ряд сведений о Хиландарском монастыре, в том числе — имеющих отношение к Болгарии. «Сообщите, — просил он, — число метохов ваших в Румелии и Болгарии, помня слова Спасителя: “имущему дано будет и преизбудет”; известите, давно ли и почему оставили Хиландар сербы, и когда начали жить в нем болгары? Не бойтесь сообщить мне это известие. Ибо во имя Бога говорю Вам, что в России вовсе не думают отнять у вас монастырь и передать его сербам»23.
Архимандрит Порфирий интересовался также церковно-литературными связями Хиландара с Россией, поэтому в перечне поставленных им вопросов встречаются такие просьбы, как: «Перепишите всю грамоту русского царя Бориса Годунова, всю грамоту царицы Марфы об Архангельском монастыре и малый типик св. Саввы, хранящийся в Постнице в Карее, и выпишите из помянника имена царей сербских и русских, и других князей, патриархов и архиереев, которые благотворили Хиландару; напишите, не было ли каких пожертвований от императриц Елизаветы Петровны и Екатерины Великой»24.
В свою очередь о. Порфирий сообщал игумену Хиландарского монастыря о том, что он также собрал ряд рукописей, содержащих важные сведения об истории этой обители. Среди множества житий и хризовулов, собранных им, имелись такие документы, как копия с хризовула болгарского царя Константина Асеня, а также письмо хиландарских монахов к русскому царю Иоанну Васильевичу Грозному; хризовул Иоанна Грозного и выписки из других хризовулов русских царей25.
В этом письме о. Порфирий вскользь упоминает о трудах на пользу Болгарии, которые он осуществлял еще будучи первым ректором учрежденной в Одессе в 1828 г. Херсонской духовной семинарии. Завершая свое письмо к хи-ландарскому игумену, он просил его: «Не откажите в просьбе русскому архимандриту, который первый начал принимать болгар в Одесскую семинарию»26. Кроме того, о. Порфирий обещал выслать на нужды Хиландарского монастыря 500 пиастров, а также ходатайствовать перед Святейшим Синодом о том, чтобы хиландарским насельникам было разрешено ездить в Москву за сбором милостыни на основании хризовулов российских царей и устроить там часовню для постоянного пребывания двух или трех монахов Хиландарского монастыря27.
Это письмо о. Порфирий послал из Иерусалима, где он по-прежнему занимался библиографическими изысканиями. Так, 10 августа 1848 г. он обнаружил в Вифлеемской базилике среди прочих книг греческое Евангелие на пергаменте, в четвертую долю большого листа, написанное в XI в. Из приложенного к нему месяцеслова было видно, что оно принадлежало какой-то церкви в Константинополе, вероятно Халкопратийской. Эта рукопись содержала две приписки по-гречески, причем во второй из них сообщалось: «В 1841 г. 25 апреля пришел в святой Вифлеем законный пастырь его и митрополит господин Дионисий Янополитский (из Ямболя. — А.А. ), болгарин»28.
Через год, будучи в Каире, архимандрит Порфирий сделал еще одно открытие. В Джуванийском подворье Синайского монастыря в Каире он обнаружил рукопись, содержащую перевод Священного Писания и церковных книг с греческого языка на славянский, сделанный неким старцем Иоанном Болгарином на Святой горе Афонской в Лавре св. Афанасия29. Как писал об этом сам о. Порфирий, «на Синае удалось мне решить вопрос, который по некоторым данным, давно беспокоил мой рассудок, именно: один ли святой Кирилл с Мефодием перевел Свящ. Писание на славянский язык? Оказалось, что некий старец Иоанн Болгарин на горе Афонской в Лавре св. Афанасия перевел это Писание и многие другие книги на родной язык. Я читал его переводы, некогда занесенные на Синай, и занимался сравнением их с другими подобными перево-дами»30.
Находясь на Ближнем Востоке в течение ряда лет, архимандрит Порфирий любил мечтать о грядущем торжестве Православия, и записи об этом он, по традиции, делал в своем дневнике в конце каждого года. Так, 31 декабря 1848 г., будучи в это время в Бейруте, он записал следующее: «Не люблю я разъединения племен народных и предсказываю слияние всех славян в один народ. Господи, сделай их братьями и однодомками! Политика России на Востоке должна обещать Грузии, Армении, Аравии, Индии, Эфиопии, Сербии, Болгарии и Молдовалахии свободу и независимость под хоругвию православия, но в едином и нераздельном союзе с собою»31.
Некоторое время спустя он вновь высказал сходные мысли о неразрывной связи судеб России и Болгарии, а также ряда других балканских народов. «Россия исполнит Богом предопределенное и данное ей дело великое, мировое, — писал о. Порфирий, — она покорит Кавказ и приблизится к английской Индии, став твердо в глуби Средней Азии, как отпор Англии, освободит от турецкого ига болгар, сербов и черногорцев, как освободила молдаван и валахов…»32.
Живя на Святой Земле, архимандрит Порфирий по-прежнему поддерживал связи с православными болгарами. Это были как духовные лица, постоянно проживавшие в Палестине, так и болгарские паломники. 12 февраля 1851 г. о. Порфирий сделал краткую запись: «Узнал, что 5 дней тому назад скончался игумен Рамлийского монастыря, старец Захария. Его похоронили в монастырском саду. С 1843 г. я знал покойного Захарию. Маститый старец был прост и молчалив... Блаженной памяти отец Захария родом был болгарин и русских любил горячо»33.
Более подробно о. Порфирий сообщал о встрече, которую он имел 17 января 1852 г. в Киеве с болгарским иеромонахом Нафанаилом (тот с 1839 г. обучался в Кишиневе, Одессе и в Киевской духовной академии и был намерен далее отправиться в Москву и в Петербург). Как отметил архим. Порфирий, «наш Св. Синод уже давненько дал 10 тысяч рублей серебром на учреждение средоточного болгарского училища; пожертвованы также церковная утварь, ризница, книгопечатный прибор и почти все русские книги церковные и другие. Но это училище не учреждено, потому что в сие дело вмешался известный Александр, по прозванию Экзарх, молодой болгарин, получивший образование в Париже, и убедил нашего посланника Титова в Константинополе раздать помя- нутую сумму на разные училища болгарские, уже заведенные. Сумма роздана и теперь не на что вывезти из Одессы книги, типографию и церковные вещи»34.
О. Нафанаил сообщил архимандриту Порфирию, что намерен поселиться на своей родине — в македонском городе Ускупе35 — и посвятить силы образованию болгарского юношества вместе со своим братом Захарием Княжским, который учился у о. Порфирия в Одесской семинарии. Прощаясь с о. Нафанаилом, архимандрит Порфирий сказал ему: «Вам, первым просветителям болгарского народа, нужно твердое упование на Бога, благоразумие, единодушие, самоотвержение до мученичества и средоточное училище. Как зарождается человек? Сперва образуется сердце и голова, потом вырастают все прочие части тела. Подобным образом должно совершиться и возрождение целого народа. Пусть у вас будут сердце и голова, т.е. вера и просвещение, сосредоточенное где бы то ни было. Из этого средоточия разовьется полная жизнь болгарского народа. А вы, труженики веры и науки, получите венцы от Отца светов и заслужите памятку в истории»36.
Шестилетнее пребывание о. Порфирия на Ближнем Востоке прервала начавшаяся в октябре 1853 г. русско-турецкая война. В мае 1854 г. он выехал из Иерусалима и, посетив Италию, через Вену и Варшаву 2 октября 1854 г. прибыл в Петербург. Поселившись в Александро-Невской Лавре, о. Порфирий занялся составлением отчетов и систематизацией научного материала.
Он смог снова отправиться на Восток лишь в 1858 г. и по пути в Палестину провел несколько месяцев на Афоне, а также посетил знаменитые Метеор-ский и Олимпский монастыри в Греции. Здесь о. Порфирий по-прежнему уделял большое внимание изучению болгарской церковной культуры, обогатившей христианское искусство балканских народов: «В Метеорах и Олимпском монастырях я нашел образчики сербо-болгарского иконописания, — отмечал он. — Они отличаются от произведений греческой кисти колоритом темнокрасноватым. 4 из них, именно, лики евангелистов болгарского письма 1337 г. приобретены мною для издания в свет»37.
Следует также уделить внимание пребыванию о. Порфирия в афонском Зографском монастыре, где он побывал в июне 1859 г. Здесь он провел несколь- ко недель в напряженных трудах, об интенсивности которых свидетельствуют некоторые отрывки из его дневниковых записей: «24 июня 1859 г. В Зографе братья славяно-болгары приняли меня радушно и поместили в наилучшем ар-хондарике, в котором мне и просторно, и светло, и покойно. Спаси их Господи, а меня укрепи на предлежащий мне подвиг... Готовы у меня особые тетради для записи архивных и книжных занятий моих здесь...
29 июня. Сегодня в соборной церкви монастыря я служил Божественную литургию с болгарами старцами. После службы мне принесли Апостол церковный, написанный на бумаге, в лист, в монастыре Чирепище в 1630 г., и пожертвованный в Зограф в 1656-е лето Господне. Перед началом его помещены 6 небольших статей разного содержания...
Июнь, от 1-го до 11-го. Все эти дни я прилежно занимался своим делом: списывал надписи, пересмотрел все славянские книги в благоустроенной монастырской библиотеке и перебелил весьма много разных юридических актов, редко выходя за ограду обители для прогулки...»38.
«17 июля 1859 г., по окончании своих занятий в Зографе, архимандрит Порфирий отправился в Хиландар. “Здесь, — отмечал о. Порфирий, — у меня было много дела такого же, как и в прочих монастырях афонских. Оно удержало меня в этой сербской (ныне болгарской) обители до конца месяца августа”».39
Как известно, после окончания Крымской войны между Константинопольским патриархом и представителями болгарского народа завязались переговоры о признании самостоятельности Болгарской Церкви. Однако патриарх отказался удовлетворить эти требования, в результате чего среди болгар усилилось недовольство патриаршим престолом. В те годы вопрос о предоставлении автокефалии Болгарской Церкви активно обсуждался как в России40, так и на Ближнем Востоке; с проблемой пришлось столкнуться и архимандриту Порфирию. В этом отношении представляет интерес его встреча с Александрийским патриархом Каллиником, имевшая место 28 ноября 1860 г. в предместье Константинополя. Когда разговор зашел о Болгарии, патриарх пожелал узнать мнение Святейшего Синода Русской Православной Церкви и русского правительства о споре болгар с греками. «Я сказал ему, — пишет архимандрит Порфирий, — что желанное мнение неизвестно мне, и от себя прибавил вот что Вам, грекам, владыка, естественно сочувствовать и содействовать идеям и стремлениям греков, а нам, славянам, естественно быть на стороне славян в Болгарии. Но благоразумные между нами жалеют о реченной распре и не одобряют не подготовленной автокефалии Болгарской Церкви, в которой духовное просвещение весьма скудно, однако желают, чтобы для болгар совершалось богослужение на славянском языке, который должен быть изучен детьми и в школах, и чтобы они имели своих, родных по языку и крови епископов хоть половину на первый раз. К сему я присовокупил еще и то, что нам желательно, чтобы вы не смешивали действий болгарского общества в России с видами нашего прави-тельства».41
Архимандрит Порфирий был вынужден очень осторожно высказывать свои взгляды по вопросу о болгарской автокефалии. Но его позиция была предельно ясной, и об этом свидетельствует один разговор, который произошел у о. Порфирия в Иерусалиме. Когда архимандрит Порфирий изложил свое мнение по болгарскому вопросу, один из членов Русской Духовной миссии возразил ему, говоря: «Россия оказывает свое покровительство болгарам и всячески ослабляет благотворное влияние на них греческих архиереев, предполагая дать им церковную автокефалию». На эти слова о. Порфирий резко возразил, сказав: «Болгары нам братья, и мы освободим их, чего бы это ни стоило»42.
Стоит отметить, что стремление болгар к церковно-политической независимости оказывало влияние и на соседнюю Румынию. В одном из своих писем (от 29 ноября 1860 г.) архимандрит Порфирий писал о том, что влахомолдав-ский господарь Иоанн Куза намерен сделать Румынскую Церковь независимой от Цареградского патриарха и подчинить ее управлению одного митрополита и румынского синода. «Такое намерение в связи со стремлением болгар к церковной независимости есть замечательное проявление нашего времени»43, — сделал вывод о. Порфирий. В этот же день он отметил, что «министр Горчаков мироволит болгарам и прочит им автокефалию церковную»44.
Архимандрит Порфирий внимательно следил за процессом борьбы за независимость, которая велась болгарскими церковными кругами. По его мнению (высказанному в дневниковой записи от 15 декабря 1861 г.), греческое духовенство в Константинополе действовало благоразумно, уступая требованиям болгар шаг за шагом, чтобы не возбудить у турок подозрения относительно уча- стия греков в борьбе этих славян, стремящихся к политической независимости путем установления автокефалии. Как отмечал о. Порфирий, греческое духовенство уже сделало болгарам три уступки: «1. напечатало для них богослужебные книги с московского издания их, 2. ввело преподавание славянского языка на острове Халки и 3. дало полианийским болгарам епископа болгарина»45.
В эти годы русская общественность активно помогала болгарам в их борьбе за церковную и политическую независимость. В 1858 г. в Москве был учрежден Славянский благотворительный комитет, главной задачей которого была помощь братскому болгарскому народу, причем учреждение это носило не политический, а образовательный и благотворительный характер. Вскоре было основано отделение этого комитета в Петербурге, а в 1866 г. — в Киеве.
К этому времени в жизни о. Порфирия произошло важное событие: в 1865 г. он был рукоположен во епископа Чигиринского, викария Киевской епархии. Тринадцатилетний период пребывания епископа Порфирия в Киеве явился расцветом как его научно-литературной деятельности, так и церковнообщественной. В 1870 г. владыка Порфирий возглавил отделение Славянского благотворительного комитета в Киеве и на этой должности принес большую пользу делу духовного окормления братьев-славян.
Событием огромной важности для балканских славян явилась Русско-турецкая война 1877–1878 гг., положившая начало политической независимости Болгарии. Свой посильный вклад в это великое дело независимости внес и епископ Порфирий. Как вспоминал он в своих заметках, 8 ноября 1879 г. главное управление Общества попечения о раненых и больных воинах, «за оказанные мною пособия им во время войны России с Турцией (1877–1878) прислало мне высочайше установленный знак Красного Креста для ношения его на груди, при своем свидетельстве за № 15693-м. Этот знак вместе со свидетельством о нем я получил в Москве 12 января 1880 г. при отношении ко мне киевского генерал-губернатора Черткова от 23 декабря 1879 г., за № 1346, и о получении его уведомил этого сановника 17 января, написав ему, между прочим, следующие строки: “Уведомляю Вас о сем, вспоминая искренние и благодарные слова раненых воинов, помещенных в благоустроенной мной больнице Киево-Михайловского монастыря: «Мы в рай попали»”».46
В последние годы епископ Порфирий был поглощен заботами о достойном использовании тех бесценных научных материалов, которые он собирал в течение всей своей жизни. В частности, он беспокоился за судьбу своей обширной библиотеки, которую желал передать в достойные руки. В качестве возможного будущего владельца епископ Порфирий рассматривал и болгарское настоятельство в Одессе. В одном из своих писем (от 17 октября 1883 г.) он высказывал желание передать свою библиотеку в Болгарию за скромное вознаграждение, отмечая при этом, что «если не истрачен значительный капитал реченно-го настоятельства, то оно сделало бы наиполезнейшее для воскрешенной нами Болгарии пожертвование, снабдив ее духовным брашном, которого у нее нет и, вероятно, долго не будет без помощи с нашей стороны. Я сему настоятельству отдам библиотеку,... если оно позаботится о пересылке ее от Москвы до Одессы на свой счет. Болгария у меня в виду даже и по тому, что я первый в свое время учил болгар в Одесской семинарии, будучи ректором ее, и первый ходатайствовал о приеме болгар в Киевскую семинарию в нашем Синоде и министерстве иностранных дел (1846), каковое ходатайство и было уважено там и тут»47.
Но желанию епископа Порфирия не суждено было сбыться. Вскоре он получил ответ на свое письмо, в котором сообщалось, что «болгарское настоятельство едва покрывает насущные скромные нужды, а княжество об ином озабочено, а не о книгах»48. Поскольку судьба библиотеки оставалась нерешенной, незадолго до своей кончины владыка Порфирий составил духовное завещание; всю свою библиотеку, состоявшую из семи с лишним тысяч книг, он завещал Св. Синоду, который затем передал ее в Московскую синодальную библиотеку.
Местом упокоения епископа Порфирия стала Екатерининская церковь московского Новоспасского монастыря. На мраморной плите памятника, согласно воле почившего, была сделана надпись: «Здесь возлег на вечный покой преосвященный епископ Порфирий Успенский, автор многих сочинений о христианском Востоке. Молитесь о нем»49.
Подводя итог деятельности епископа Порфирия, можно отметить, что все его труды характеризуются глубокой преданностью Православию, служением своей Церкви и отечеству, что дает основание повторить слова профессора А.П. Лебедева: «Этого мужа христианской науки и православного дела нельзя не причислить к благим деятелям на ниве Православной Церкви»50.
Приложение
Помимо обширной библиотеки епископ Порфирий имел огромное количество рукописей русских, церковнославянских, греческих, арабских, сирийских, эфиопских, грузинских и на других языках. В 1883 г. его собрание было приобретено петербургской Публичной библиотекой. «Приобретение такой замечательной коллекции, — говорилось в отчете библиотеки, — отечественное книгохранилище может приписать единственно желанию преосвященного Порфирия оставить свое собрание в России, так как на поступавшие к нему неоднократно предложения заграничных библиотек и любителей он отвечал постоянным отказом».51
В 1891 г. профессор Петербургского университета П.А. Сырку (1855– 1905) издал «Описание бумаг епископа Порфирия (Успенского), пожертвованных им в императорскую Академию наук по завещанию» (СПб., 1891), в котором, в частности, имеется упоминание о материалах, относящихся к истории Болгарии. Публикуемый ниже перечень составлен на основании «Описания» П.А. Сырку. Основные рукописные материалы о Болгарии содержатся в одном томе, состоящем из 192 листов, это статьи на греческом и русском языках52.
-
1. Три хризовула Василия Болгаробойцы, данные болгарскому архиепископу Первой Юстинианы53;
-
2. Печатный русский перевод Г. Недетовского грамоты Константинопольского патриарха Каллиста клиру города Тернова54 ;
-
3. Две греческие грамоты патриархов Константинопольских Нила (1381) и Антония (1392) о поставлении бдинских митрополитов Кассиана и Иосифа55;
-
4. Извлечение из рукописи славянского перевода Хронографа Манассии по списку монаха Рафаила 1550 г., хранившемуся в Хиландарском мо-настыре56;
-
5. Большое извлечение о Болгарии из Полного славянского летописца, купленного епископом Порфирием в скиту Ксенофонтова монастыря у монаха Артемия, родом болгарина, в 1846 г.57;
-
6. Христианские крали (короли) в Болгарии (из Истории славянских народов А. Раича)58;
-
7. Письма папские (26) к болгарским царям и другим лицам по болгарским делам59;
-
8. Прежние отношения Римских пап к Болгарской Церкви60;
-
9. Сношения Болгарской Церкви и Русской по делам церковным, из книги Муравьева «Сношения России с Востоком», чч. 1 и 2, и другим сочинени-
-
10. Подлинное автобиографическое письмо к преосвященному Порфирию болгарина Захарии Княжеского из Русчука от 1865 г.62;
-
11. Распря между болгарами и греками63.
Помимо этой подборки материалы о болгарах имеются и в других частях рукописного наследия епископа Порфирия:
-
1. Два отрывка о болгарах (из катехизических поучений Феодора Студи-та)64;
-
2. Хронология царей, патриархов, великих писателей, обрядов, ересей. Рукопись почти вся написана рукой епископа Порфирия. В ней содержатся хронологические списки и статьи на русском, французском и греческом языках, в том числе ряд известий о христианских кралях в Болгарии (по
-
А. Раичу), Царственник, или История болгарская (по будимскому изданию 1844 г.)65;
-
-
3. Устав евангельских чтений на весь год (извлечено из славяно-болгарского Четвероевангелия, напечатанного при Иоанне Бессарабе в 1512 г.), которое хранилось в Александро-Невской Лавре в Петербурге66;
-
4. Приписка 1595 г. попа Илии из Пловдива на славянском рукописном Евангелии афонского Свято-Павловского монастыря67;
-
5. Письма от болгар 1846 г., числом четыре, из них одно греческое нескольких болгар из Бухареста о насилиях турок над христианами, одно в русском переводе прошение к султану о назначении в болгарские епархии болгарских епископов, одно письмо от врача И. Селиминского и одно от попа Ивана X. Васильева. После этого, конце книги, помещены: одна пригласительная повестка (6 февраля 1847 г.) от директора духовноучебного управления при Св. Синоде, на которой о. Порфирием отмечено: «Был. Решено принять 12 болгар в Киевскую семинарию»68.
Перу епископа Порфирия принадлежат исследования о Болгарии:
-
1. «Проповедники в Болгарии, Молдовалахии и Угорской Руси»69;
-
2. «Славяне племени арийского». В этом сочинении излагается первоначальная история славян. Часть данной статьи, где говорится о болгарах, изложена на восьми печатных листах, взятых о. Порфирием из его «Истории Афона»70.
Кроме того, сведения о болгарах, о болгарской церковной культуре и о международных связях болгар имеются в трудах епископа Порфирия, посвященных истории Афона:
-
1. Первое путешествие в афонские монастыри и скиты в 1845 г. Ч. 1. Киев, 1877; Ч. 2 (в 1846 г.). М., 1880.
-
2. Второе путешествие по Святой горе Афонской в годы 1858, 1859 и 1861, и описание скитов афонских. М., 1880.
Список литературы Епископ Порфирий (Успенский) и Болгария
- Краткий обзор собрания рукописей, принадлежащих Преосвященному епископу Порфирию, а ныне хранящихся в императорской Публичной библиотеке. СПб., 1885.
- Московские церковные ведомости. 1885. № 27.
- Сырку П.А. Описание бумаг епископа Порфирия (Успенского), пожертвованных им в императорскую Академию наук по завещанию. СПб., 1891.
- Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. Т. III. СПб., 1896.
- Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. Т. IV. СПб., 1896.
- Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего Т. VI. СПб., 1900.
- Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. Т. VII. СПб., 1901.
- Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. Т. VIII. СПб., 1902.
- Лебедев А.П. Преосвященный Порфирий (Успенский): По поводу столетия со дня его рождения (1804-1904)//Богословский вестник. 1904. № 9. С. 81-103.
- Материалы для биографии епископа Порфирия (Успенского). Т. I. СПб., 1910.
- Материалы для биографии епископа Порфирия (Успенского). Т. II. СПб., 1910.