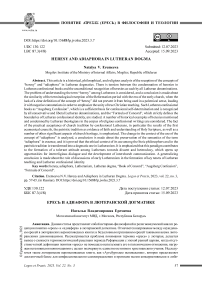Ересь и адиафора в лютеранской догматике
Автор: Еремеева Н.В.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Понятие αιρεσισ (ересь) в философии и теологии: от античности до современности
Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Данная статья представляет собой историко-философский и религиоведческий анализ рецепции понятия «ересь» и «адиафора» в лютеранской догматике. Отмечается напряжение между осуждением ересей в лютеранских вероисповедных книгах и безусловным признанием ересей таковыми всеми лютеранскими деноминациями. Рассматривается проблема понимания термина «ересь» у лютеран, делается вывод о схожести терминологической рецепции периода Реформации с эпохой ранней церкви, когда отсутствие четкой дефиниции понятия «ересь» не помешало использовать его в полемическом отношении, нагружая негативными коннотациями с целью подчеркнуть единство истинного христианского учения. Исследуются такие лютеранские вероисповедные книги, как «Аугсбургское исповедание», которое представляет достаточный базис для конфессионального самоопределения и признано всеми консервативными и либеральными лютеранскими деноминациями, и «Формула Согласия», строго определяющая границы лютеранской конфессиональной идентичности. Рассматривается ряд исторических примеров ересей, упомянутых и осужденных лютеранскими теологами в корпусе вероисповедных сочинений. Подчеркивается факт практического принятия конфессиональными лютеранами церковной традиции, в частности итогов первых вселенских соборов, святоотеческой традиции как свидетельства веры и понимания Священного Писания, а также ряда других значимых аспектов церковного наследия. Анализируется изменение контекста применения понятия «адиафора», делается вывод о сохранении семантики термина «адиафора» по существу, доказывается, что этический контекст его применения у философов-стоиков и в святоотеческой традиции трансформируется в лютеранстве в догматический. Подчеркивается, что данная парадигма способствует формированию терпимого отношения лютеран к инакомыслию и инославию, что открывает возможности для межрелигиозного диалога и развития межцерковного общения. Делается обобщающий вывод о роли дискуссий раннего лютеранства в становлении ключевых догматов лютеранского учения и лютеранской конфессиональной идентичности.
Ересь, адиафора, лютеранство, лютеранская догматика, «Книга Согласия», «Аугсбургское исповедание», «Формула Согласия»
Короткий адрес: https://sciup.org/149145058
IDR: 149145058 | УДК: 130.122 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2023.3.7
Текст научной статьи Ересь и адиафора в лютеранской догматике
DOI:
Цитирование. Еремеева Н. В. Ересь и адиафора в лютеранской догматике // Logos et Praxis. – 2023. –
Т. 22, № 3. – С. 57–65. – DOI:
Лютеранство исторически сформировалось как богословское движение. Известно, что Мартин Лютер никогда не собирался ни раскалывать церковь, ни становиться основателем новой конфессии или духом и мозгом светской «магистерской Реформации» [Макграт 1994, 25]. Тем не менее споры и разногласия всегда сопровождали развитие лютеранской мысли, причем яростная полемика по тем или иным вопросам вероучения происходила не только между евангелистами-лютеранами и католиками, но и внутри самого протестантского лагеря. В данной статье ставятся задачи рассмотреть проблему понимания терминов «ересь» и «адиафо-ра» у лютеран, историю осуждения ересей периода раннего лютеранства в конфессиональных вероисповедных книгах, особенности контекстуального использования лютеранами понятия адиафоры и влияние богословской полемики первых десятилетий становления лютеранства на формулировки ключевых догматов лютеранского вероучения и лютеранскую идентичность.
Уже при жизни Лютера наметились разногласия в стане его последователей, нет единства среди лютеранских церквей и сегодня, и все же абсолютное большинство современных лютеранских церквей объединяется в две крупные ассоциации – более многочисленную Всемирную лютеранскую федерацию (Lutheran World Federation) и более консервативный Международный лютеранский совет (International Lutheran Council). Всемирная лютеранская федерация насчитывает 149 церквей, которые объединяют более 77 млн верующих из 99 стран [Member Churches web]. Политика Всемирной лютеранской федерации является более либеральной, и лютеранская идентичность ее членов определяется следованием учению о спасении по благодати и этике христианской свободы в служении ближнему [Lutheran Identities web]. В связи с данными установками, Всемирная лютеранская федерация поддерживает, например, женское священническое служение [Women and Gender Studies web]. В Международном лютеранском совете состоит около 60 церквей-участников, ассоциированных участников и прочих участников, имеющих иной статус [Membership web]. Необходимо отметить, что подавляющее большинство церквей, состоящих в Международном лютеранском совете, также являются и членами Всемирной лютеранской федерации [Members web], несмотря на ряд разногласий, в том числе по вопросам сохранения традиционных ценностей [ILC Statements web].
Хотя многообразие и многочисленность лютеранских деноминаций в мире вызывает определенные сомнения в их доктринальном единстве, тем не менее, общим для членов всех лютеранских общин является признание Священного Писания как основы вероучения и опора на вероисповедные книги как догматические сочинения, таким образом, лютеранство является исторически конфессиональным. Основание единства догматического фундамента современного лютеранства, формализации и установления конфессиональных границ учения очерчено рамками корпуса сочинений под названием «Книга Согласия» (1580). Однако тексты «Книги Согласия», хотя и приобрели большое историческое значение, не обладают одинаковым авторитетом среди всех лютеранских деноминаций. Так, «Формула Согласия» (1577), последняя из частей «Книги Согласия», ставшая основой для формирования собрания вероисповедных документов, не получила признания, например, в ряде скандинавских стран [Хегглунд 2001, 235–236]. Безусловное признание всего корпуса «Книги Согласия», обозначенное Международным лютеранским советом [History web], не является таковым для церквей-участниц Всемирной лютеранской федерации. Последние особое значение придают внесенным в «Книгу Согласия» вселенским символам веры и «Аугсбургскому исповеданию» (1530) [Constitution… web], самому раннему из официальных исповедных документов лютеран. Данный факт особого положения «Аугсбургского исповедания» и его ценности для лютеран наряду с древними Символами веры можно отчасти объяснить тем, что «Формула Согласия» позиционируется как не привносящая ничего нового, что бы противоречило «Аугсбургскому исповеданию» [Хегглунд 2001, 236]. Тем не менее в «Формуле Согласия», подводящей итог богословским спорам периода раннего лютеранства, границы учения определяются более точно, в том числе через осуждение ряда богословских взглядов, становящихся таким образом ересями с позиций собственной догматики, формирующейся в течение уже полувека становления лютеранства.
Таким образом, для установления конфессиональных границ современного лютеранства необходимо обратиться, прежде всего, к «Аугсбургскому исповеданию», признанному всеми консервативными и либеральными лютеранскими деноминациями, и «Формуле Согласия», строго определяющей границы лютеранской конфессиональной идентичности. Непререкаемо авторитетный в советское время Ф. Энгельс называл догматическое «Аугсбургское исповедание» «выторгованной конституцией реформированной бюргерской цер- кви» [Энгельс 1989, 41], а его составителя, ближайшего соратника Лютера Филиппа Ме-ланхтона – «прообразом филистерского, чахлого, кабинетного ученого» [Энгельс 1989, 49]. Отмеченные в «Аугсбургском исповедании» явные уступки католической церкви и императорской власти, его общий миролюбивый компромиссный тон – свидетельства не столько дипломатический усилий Ф. Меланхтона, сколько озабоченности Лютера вышедшей из-под контроля народной Реформацией, переросшей в крестьянскую войну 1524–1525 гг. [Августин (Никитин) 2011, 62]. Необходимо принять во внимание тот факт, что поздний период деятельности Лютера, к которому можно отнести и создание «Аугсбургского исповедания», отмечен грузом пастырской ответственности за людей, покинувших католическую церковь. Они нуждались в решительном духовном руководстве и строительстве новой церковной организации на прочном фундаменте христианской традиции. Известное обвинение лютеран в отказе от церковного предания и попирании церковных традиций в достаточной степени огульно, в особенности в отношении конфессионального лютеранства, хотя напряжение между отрицанием особого статуса церковного предания, которое провозглашают лютеранские теологи в вероисповедных книгах, и, с другой стороны, следованием ему в практическом отношении, очевидно. Библейские основания лютеранского вероучения делают необходимым признание лютеранами и итогов первых вселенских соборов, и святоотеческой традиции, и ряда других значимых аспектов церковного наследия. Обращениями к творениям святых отцов как свидетельству веры и понимания Священного Писания и возможности благочестивого отвержения ложных догматов обильно наполнены и трактаты и проповеди Лютера, и все без исключения документы «Книги Согласия» [Formula Concordiae 1921, 778]. Примечателен и тот факт, что ереси, названные таковыми «Аугсбургским исповеданием», изучены и осуждены уже в святоотеческую эпоху. Примирение данного противоречия через принципиально подчиненный статус предания Священному Писанию как Слову живого Бога, являющемуся критерием оценки всякой традиции, оставляет, согласно нормам лютеранско- го учения, возможность формирования адекватного толкования Библии в лоне традиции [Хегглунд 1999, 11–12]. При этом в лютеранской догматике изначально постулируется необходимость различать традицию, относящуюся к вероучению, которая проверяется ее отношением к Библии, и традицию установлений, не имеющих библейского основания, в отношении которой необходимо руководствоваться принципом христианской свободы [Хегглунд 1999, 12].
Во многом благодаря именно практическому принятию церковной традиции и сам Лютер, и его соратники зачастую не уделяли внимания определению и анализу уже сложившихся понятий и доктрин, а принимали или отвергали их по уже сложившемуся канону. Похожая терминологическая рецепция отмечается и в истории ранней церкви. Отсутствие четкой дефиниции понятия «ересь» не помешало использовать его в полемическом отношении, нагружая негативными коннотациями с целью подчеркнуть единство истинного христианского учения в отличие от пестроты школ языческой философии, из каковой и был заимствован прежде нейтрально окрашенный термин [Винрих 2014, 11]. Так, в «Аугсбургском исповедании» мы находим несколько поименованных ересей, однако само понятие «ересь» не подвергается никаким уточнениям и принимается без оговорок как должное. В первом артикуле о Боге осуждаются анти-тринитарные ереси (в латинском тексте употребляется термин haereses ), такие как манихейство, валентинианство, арианство, евноми-анство и ересь самосатскую [Confessio Augustana 1921, 42]. О валентинианстве пишет прославившийся своей борьбой с гностической ересью Ириней Лионский в трактате «Против ересей», подробно рассматривая это учение, возводящее происхождение Христа и Святого Духа к эонам плеромы [Ириней Лионский 2008, 28]. Ириней подчеркивает, что гностическое учение есть ни что иное как компиляция всех широко известных философских воззрений древних [Ириней Лионский 2008, 148], призывает к смиренной любви вместо надмевающего мудрствования и настаивает, что гарантией сохранения истинного учения является следование церковному (апостольскому) преданию [Ириней Лионский 2008, 225].
Осуждение этой и прочих указанных ересей мы находим у таких деятелей святоотеческой эпохи как Тертуллиан, Ипполит Римский, церковный историк Евсевий и других, формирующих ересиологическую доксографию наподобие философской доксографии школы Диогена Лаэртского [Винрих 2014, 10].
Постулируя учение о первородном грехе, лютеране осуждают пелагианское учение об оправдании собственными силами [Confessio Augustana 1921, 43], опираясь на богословие Августина епископа Гиппона – краеугольный камень в основании богословия Лютера. Заданная Августином задача о свободной и порабощенной воле решается, очевидно, через аксиому о первородном грехе. Для человека первородный грех непреодолим, пока это не будет сделано Богом, так как, по мнению Августина, греху подвержена вся природа человека, а не только воля [Аврелий Августин 2001, 64]. В четвертом артикуле «Аугсбургского исповедания» о невозможности оправдания делами, но верой ради Христа, одном из самых спорных в силу лапидарности изложения и значимости для лютеранской идентичности, мы не находим осуждения иного мнения, но оно имплицитно подразумевается, ибо учение об оправдании разводит лютеран с католиками и православными по разные стороны баррикад. В истории раннего лютеранства имеется упоминание о попытке лютеранско-православного диалога, когда Меланхтон в 1559 г. передал константинопольскому патриарху «Аугсбургское исповедание» с целью рассмотреть возможность сближения церквей. На фоне разрыва с католицизмом, анафематствования и объявления самих лютеран еретиками контакты с древней христианской церковью могли бы стать значительным апологетическим аргументом для лютеранства, тем не менее, отказ константинопольского патриархата признать sola fide и частичное неприятие лютеранами церковного предания сделали общение церквей на тот момент невозможным [Софронова, Трофимова 2019, 25].
Однако становление лютеранского учения сопровождалось и внутренними разногласиями, которые можно назвать ересями, исходя из общепринятого понимания ереси в святоотеческий период. Жесткому осуждению уже в «Аугсбургском исповедании», пятый артикул, подверглись лидеры Крестьянской войны мятежники-анабаптисты, отвергающие старые добрые традиционные церковные порядки служения и преподавания таинств [Confessio Augustana 1921, 44]. Детальный разбор и осуждение прочих собственно лютеранских ересей мы находим только в «Формуле Согласия», тем не менее безусловное признание «Формулы Согласия» в церквях консервативного направления не является таковым среди лютеран-либералов, что делает вопрос о конфессиональной идентичности современного лютеранства более острым. Иоганн Эпиний, один из учеников Лютера, проповедовал о сошествии Христа в ад только душой, без тела. Имя Эпиния не упоминается в IX артикуле «Формулы согласия», и напрямую не отрицаются эти, справедливо говоря, сходные с умеренным монофизитством взгляды, противоречащие Халкидонскому догмату. Сказано лишь о непостижимости нераздельного единства божественной и человеческой природ Христа, и подчеркнуто, что в данном вопросе следует руководствоваться верой в спасение и не помышлять о предметах, разуму недоступных [Formula Concordiae 1921, 826]. Осуждение близкого к маркионитству антиномизма одного из соратников Лютера Агриколы на диспуте в Торгау в 1527 г. стало одним из стимулов для скорейшего догматического оформления лютеранского учения о вере оправдывающей (fides iustificans), предложенного Лютером и сформулированного Меланхтоном в обширном четвертом артикуле «Апологии Аугсбургского исповедания» [Apologia Confessionis Augustanae 1921, 134]. Иоганн Агрикола, впрочем, оставался приверженцем своего учения до самого конца и, несмотря на публичные обличения, продолжал учить о необходимости «чистой» проповеди Евангелия [Исаев 2000, 12]. Но больше всего копий было сломано в неутихающих спорах все о том же учении об оправдании, знаковом, центральном для лютеран, учении, которое представляет собой «не просто одну из прочих догматических статей» в «Аугсбургском исповедании» [Августин (Никитин) 2011, 80].
В ходе ожесточенной полемики сформировали свои тезисы о человеческой греховности и оправдании М. Флаций и непримиримый
Андреас Озиандер, богослов и ученый, горячий поборник аскезы обожения [Исаев 2000, 15], духовный соратник православного имяс-лавия и протестантского методизма и, говоря шире, всего спиритуалистического протестантизма. Возможно, М. Флаций явился «ересиархом» поневоле, в пылу спора высказавшись однажды, что первородный грех стал субстанциальной сущностью, природой человека, но не отказался от этой мысли, по существу сходной с манихейскими дуалистическими взглядами, осужденными еще Августином [Исаев 2000, 38]. Известно также, что Фла-ций почти буквально повторил мысль Лютера по данному поводу, из-за чего «второй великий Мартин» Хемниц, Якоб Андреэ и другие составители «Формулы Согласия» были вынуждены в первом же артикуле давать специальное пояснение, дабы ликвидировать путаницу, вызванную некорректным употреблением схоластической терминологии [Formula Concordiae 1921, 782]. Взгляды Озиандера, напротив, представляют собой продукт продуманного применения богословской логики в понимании артикула об оправдании. Юридическая терминология Лютера о вменении (imputatio) Христовой праведности не раскрывала, по мнению Озиандера, всей мистерии оправдания, которую, в духе unio mystica, следовало рассматривать в неразрывной связи с учением о Боговоплощении. В «Нюрнбергской записке» он утверждает, что новый дух создается в человеке при соединении с Богом через веру, Бог усыновляет человека через пребывание в нем и, следовательно, оправдание основывается на праведности Христа, которая пребывает в верующем, а не на внешней, «вмененной» праведности [Курбатов 2022, 94–95]. В свете учения Флация, в котором мы узнаем этический пессимизм раннего Лютера, представления Озиандера о диви-низации оказались куда более созвучны учению восточной православной церкви, нежели понятны соратникам-лютеранам. Первый лютеранский приход в Москве, появившийся при толерантном к протестантизму Иване IV, мог быть наполнен сторонниками Озиандера, бежавшими от преследования на родине и избравшими Россию в качестве убежища именно из-за близости религиозных воззрений, а сам нюрнбергский проповедник до сего дня признается одним из провозвестников возможного лютеранско-православного сближения [Friesen 2017, 290]. Тем не менее следует отметить и многоаспектность учения об оправдании у самого Лютера, ибо Реформатор не отрицал, а, напротив, предполагал изменения в человеке вследствие оправдания при основополагающем «судебном» его понимании. Необходимо разделять «первую праведность» (iustitia prima), которая дается через веру и понимается как изменение личности оправданного, и «вторую праведность» (iustitia secunda), которую следует рассматривать как возможность совершения им добрых дел [Хегглунд 1999, 145–146]. Вера соединяет верующего со Христом и Христос действует в нем через веру, и все же «оправдание» как iustitia отличается от «возрождения» (regeneratio) или «оживления» (vivificatio) по существу, когда два последних термина означают «обновление» (renovatio), хотя и допускается синонимичное использование этих понятий там, где данное употребление не противоречит контексту, как гласит третий артикул «Формулы Согласия» [Formula Concordiae 1921, 792]. Майоризм – учение о необходимости добрых дел как обязательного (necessarium) условия спасения – защищал профессор Виттен-бергского университета Г. Майор [Исаев 2000, 20]. К синергизму, или полупелагианству, так или иначе склонялся на протяжении всей жизни Меланхтон и ряд других лютеранских теологов, таких как И. Пфеффингер и В. Штри-гель [Исаев 2000, 24]. Эти учения без упоминания имен, равно как и учение Н. Амсдорфа, ближайшего сподвижника Реформатора, о пагубности добрых дел для спасения, навеянное теологией «раннего» Лютера, осуждены в четвертом артикуле «Формулы Согласия» [Formula Concordiae 1921, 800].
Можно рассматривать дискуссии раннего лютеранства как схоластические споры о словах, но в итоге они привели к более глубокому пониманию учения об оправдании и, как следствие, формированию более точного богословского языка [Хегглунд 2001, 229]. Лютеранское учение об оправдании является мерилом всех прочих конфессиональных догматических установлений [Августин (Никитин) 2011, 80]. Сущность адиафорического спора это не просто разногласия в понимании того, что является необходимым для христианской жизни, а что можно отнести к категории безразличного (адиафора). В спорах гне-сиолютеран со сторонниками Лейпцигского интерима мы снова обнаруживаем поиск определения сущности учения, которой нельзя пренебречь, не сбившись с истинного пути. Важнейшей задачей автора Лейпцигского ин-терима (1548) Филиппа Меланхтона было донести до всех противоборствующих сторон – победившего в Шмалькальденской войне Карла V, правительство и пасторат захваченных земель и сохранивших независимость лютеранских княжеств – что вопросами, не влияющими на спасение, можно пренебречь ради сохранения мира и порядка в земной церкви [Исаев 2000, 14]. Этой цели и стремился достичь Меланхтон в составленном им документе, где призывал подчиниться католическим властям в деле церковных обрядов, коль скоро они прямо не осуждены и не запрещены в Библии. Такие маловажные предметы как семь таинств вместо двух при сохранении двух главных, установленных самим Христом, каноническое подчинение папе и прочие человеческие установления не должны заботить совесть христианина, ибо соблюдение или несоблюдение их не решает судьбу верующего в вечности. Их можно определить греческим понятием «адиафора» – безразличное, заимствованном ранней церковной традицией из учения стоиков [Абрамов, 149–150], тем не менее, необходимо констатировать, что изначально этический контекст применения термина меняется на догматический в ходе полемики между протестантскими теологами. Логика Меланхтона текла вполне в духе Лютера, ибо Реформатор учил, что никакое доброе дело не спасает и не оправдывает, и никакое злое дело не осуждает, но только неверие [Лютер 1997, 29–30]. Однако именно по вопросу свободы и принуждения и возникли возражения у противников Меланхтона: если католическая сторона принуждает в вещах внешних, значит, налицо отрицание противником нашей христианской свободы, и мирно дожидаться возможности вести богословский диалог – значит предавать исповедание веры и свободу, дарованную Евангелием, а это уже никак нельзя отнести к категории адифорического [Хег-глунд 2001, 233]. Среди противников Меланх- тона мы находим вышеупомянутых «ересиархов» – Флация, Озиандера, Амсдорфа, Штригеля и еще более 400 теологов и пасторов, многие из которых поплатились за свои убеждения жизнью. В вопросах исповедания для совести и веры нет ничего неважного, кратко выразил общее убеждение гнесиолю-теран-противников интерима Маттиас Флаций [Исаев 2000, 14], его точка зрения в итоге и победила, о чем недвусмысленно свидетельствует десятый артикул «Формулы Согласия» [Formula Concordiae 1921, 826]. Интерим был аннулирован вследствие изменения политической конъюнктуры, Меланхтон признал, что был неправ, однако попытки разрешения спорных вопросов через применение адиафоры в период становления лютеранского вероучения производились не только в рамках одной деноминации, но и, усилиями Меланхтона, при урегулировании разногласий между христианскими конфессиями. Лютеранское богословие формировалось не в идеальном замкнутом пространстве и, следовательно, его развитие не было обусловлено только внутренними факторами. Постепенно идущие прежде параллельным курсом протестантские церкви тоже стали оформлять свои конфессиональные границы, как это сделала и церковь лютеранская, но окончательно их связь утрачена не была. Ранний протестантизм представлял собой органическое единство лютеранства и кальвинизма, с естественным взаимным обогащением и влиянием друг на друга [Troeltsch 1912, 44–45]. Попытки прийти к согласию по вопросам таинства причастия, учения о предопределении и содействии благодати способствовали формированию догматических границ ветвей протестантизма. В спорах о предопределении и, особенно, о таинстве причастия проявился дипломатический талант Меланх-тона, который пытался достичь компромисса с кальвинистами путем создания особого измененного «Аугсбургского исповедания» [Исаев 2000, 45], которое кальвинисты подписали, часть лютеранских теологов, получивших имя «криптокальвинисты», поддержали, но лютеране большинстве своем решительно отвергли. Общая для всех реформатов – кальвинистов и цвинглиан – позиция в понимании причастия как простого хлеба и вина, которые обозначают (significat) Тело и Кровь Хри- ста либо в которых Христос присутствует лишь духовно, противоречит лютеранскому догмату о подлинном присутствии (est) Тела и Крови Христа в хлебе и вине. Подвести данные разногласия под понятие «адиафора» не удалось бы никому, в том числе и в силу того, что Лютер сам встречался с Цвингли в присутствии «третейских судей» М. Буцера и И. Эколампадия в 1529 г., и вопрос о причастии стал единственным, в котором реформаторы не нашли общего языка. Объединения не случилось, рационализм Цвингли в отношении понимания причастия был непоколебим, и Лютер в грубой форме подытожил невозможность договориться, бросив на прощание нечто вроде «у вас иной дух, чем у нас» и «лучше римская месса, чем significat» [Исаев 2000, 37]. Не под силу было преодолеть Лютеров убежденный мистицизм в этом вопросе и Меланхтону. Как образно высказывается автор одного из учебников по лютеранской догматике консервативного направления Д. Мюллер, Лютер совершенно прав, говоря, что нет ни одного места в Библии, где слово «есть» нужно понимать как «означает» или «символизирует» [Мюллер 2016, 569]. В итоге спор разрешился закреплением в седьмом артикуле «Формулы Согласия» понимания причастия согласно учению Лютера в редакции М. Хемница и осуждением всех «сакраментариев», отрицающих реальное присутствие Тела и Крови Христа в хлебе и вине в таинстве причастия [Formula Concordiae 1921, 808–809]. Реформаты же получили реальную возможность самоопределиться после 1648 г., когда по Вестфальскому миру кальвинизм был признан отдельным вероисповеданием [Исаев 2000, 47].
В качестве вывода следует отметить ряд особенностей в понимании понятий «ересь» и «адиафора» у лютеран. Во-первых, рецепция термина «ересь» в целом не противоречит церковной традиции, однако осуждение ересей в лютеранских вероисповедных книгах не влечет за собой безусловного признания их ересями всеми лютеранскими деноминациями в силу того, что не все составляющие «Книги Согласия» пользуются одинаковым авторитетом в различных лютеранских церквях. Особенно это касается неортодоксальных учений периода становления конфессионального лютеранства, осужденных в «Формуле Согласия». Во-вторых, изначально этический контекст применения термина «адиафора» у стоиков и в святоотеческой традиции трансформируется в лютеранстве в догматический, хотя семантика термина по существу сохраняется. Как следствие, формируется толерантное отношение лютеран к инакомыслию и инославию – они могут быть оспариваемы и даже осуждаемы, но не являются препятствием к церковному общению. В-третьих, единство самих лютеран определяется принципом sola Scriptura, и «Аугсбургское исповедание», являясь отражением этого принципа, представляет достаточный базис для конфессионального самоопределения, которое включает в себя в том числе возможность межрелигиозного диалога и развития в рамках освященной Священным Писанием традиции.
Список литературы Ересь и адиафора в лютеранской догматике
- Абрамов 2013 – Абрамов А.В. Проблема адиафоры в этике и учении Феофана Затворника // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. № 1. С. 149–151.
- Августин (Никитин) 2011 – Августин (Никитин), архимандрит. Аугсбургское исповедание – вероучительная книга лютеранства // Христианские чтения. 2011. № 2 (37). С. 54–138.
- Аврелий Августин 2001 – Аврелий Августин. О свободе воли // Антология средневековой мысли. В 2 т. Т. 1. СПб.: РХГИ, 2001. С. 25–65.
- Винрих 2014 – Винрих Л. Изменчивый образ инакомыслия: ересь в раннехристианский период // Вестник ПСТГУ. Серия II, История. История Русской Православной Церкви. 2014. Вып. 4 (59). С. 9–27.
- Ириней Лионский 2008 – Ириней Лионский. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2008.
- Исаев 2000 – Исаев С.А. Ереси и расколы в раннем лютеранстве. СПб.: Светоч, 2000.
- Курбатов 2022 – Курбатов А.Г. «Большая Нюрнбергская записка» – начало теологии Андреаса Озиандера // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2022. Т. 23, № 1. С. 89–98. DOI: 10.25991/VRHGA.2022.23.1.007
- Лютер 1997 – Лютер М. Свобода христианина // Избранные произведения. СПб.: Лютер. наследие, 1997. С. 4–43.
- Макграт 1994 – Макграт А. Богословская мысль Реформации. Одесса: ОБШ «Богомыслие», 1994.
- Мюллер 2016 – Мюллер Д.Т. Христианская догматика. СПб.: Лютер. наследие, 2016.
- Софронова, Трофимова 2019 – Софронова Л.В., Трофимова М.А. Лютеранство в XVI веке между католицизмом и православием: tertium datur // Современная научная мысль. 2019. № 4. С. 22–26.
- Хегглунд 1999 – Хегглунд Б. Модель веры: руководство по догматике. СПб.: Алетейя, 1999.
- Хегглунд 2001 – Хегглунд Б. История теологии. СПб.: Светоч, 2001.
- Энгельс 1989 – Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. М.: Изд-во полит. лит., 1989.
- Apologia Confessionis Augustanae 1921 – Apologia Confessionis Augustanae // Liber Concordia Triglotta. St. Louis: Concordia Publishing House, 1921. P. 97–451.
- Confessio Augustana 1921 – Confessio Augustana // Liber Concordia Triglotta. St. Louis: Concordia Publishing House,1921. P. 37–95.
- Constitution… web – Constitution oh the Lutheran World Federation / Our Lutheran Identity
- [Lutheran World Federation] // https://www.lutheranworld.org/who-we-are/ourlutheran-identity
- Formula Concordiae 1921 – Formula Concordiae // Liber Concordia Triglotta. St. Louis: Concordia Publishing House, 1921. P. 775–843.
- Friesen 2017 – Friesen W. Andreas Osiander: An Ideologue of Russian-German Rapprochement Efforts // Религия. Церковь. Общество. 2017. № 6. С. 284–295. DOI: 10.24411/2308-0698-2017-00014
- History web – History [International Lutheran Council] // https://ilc-online.org/about-us/history/
- ILC Statements web – ILC Statements [International Lutheran Council] // https://ilc-online.org/news/ilc-statements/
- Lutheran Identities web – Lutheran Identities [Lutheran World Federation] // https://www.lutheranworld.org/what-we-do/theology/lutheran-identities
- Member Churches web – Member Churches [Lutheran World Federation] // https://www.lutheranworld.org/member-churches
- Members web – Members [International Lutheran Council] // https://ilc-online.org/members/
- Membership web – Membership [International Lutheran Council] // https://ilc-online.org/aboutus/membership/
- Troeltsch 1912 – Troeltsch E. Protestantism and Progress. L.: Williams & Norgate, 1912.
- Women and Gender Studies web – Women and Gender Studies [Lutheran World Federation] // https://www.lutheranworld.org/what-we-do/theology/women-and-gender-studies