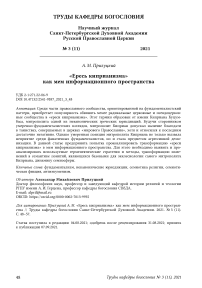"Ересь киприанизма" как мем информационного пространства
Автор: Прилуцкий Александр Михайлович
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 3 (11), 2021 года.
Бесплатный доступ
Среди части православного сообщества, ориентированной на фундаменталистский паттерн, приобретает популярность обвинять менее радикальные церковные и псевдоцерковные сообщества в «ереси киприанизма». Этот термин образован от имени Киприана Куцумбаса, митрополита одной из неканонических греческих юрисдикций. Будучи сторонником умеренно-фундаменталистских взглядов, митрополит Киприан допускал наличие благодати в таинствах, совершаемых в церквах «мирового Православия», хотя и относился к последним достаточно негативно. Однако умеренная позиция митрополита Киприана не только вызвала неприятие среди фанатичных фундаменталистов, но и стала предметом агрессивной демонизации. В данной статье предпринята попытка проанализировать трансформацию «ереси киприанизма» в мем информационного пространства. Для этого необходимо выявить и проанализировать используемые герменевтические стратегии и методы, трансформацию изменений в семантике понятий, являющихся базовыми для экклесиологии самого митрополита Киприана, динамику семиосферы.
Фундаментализм, неканонические юрисдикции, семиотика религии, семиотическая фикция, антиэкуменизм
Короткий адрес: https://sciup.org/140294183
IDR: 140294183 | УДК: 2-1:271.22-86-9 | DOI: 10.47132/2541-9587_2021_3_48
Текст научной статьи "Ересь киприанизма" как мем информационного пространства
About the author: Alexander Mikhailovich Prilutsky
Doctor of Philosophy, Professor and Head of the Department of the History of Religions and Theology, Herzen Russian State Pedagogical University; Professor at the Theology Department, St. Petersburg Theological Academy.
The article was submitted 04.08.2021; approved after reviewing 31.08.2021; ac-cepted for publication 07.09.2021.
Отличительной чертой религиозной ситуации, характерной для информационного общества, является активное формирование того, что можно условно определить как «виртуальные симулякры», — имитация деятельности в виртуальном пространстве Интернета превращается в самоценную замену реальной деятельности, сам факт присутствия в информационном поле обретает самостоятельное онтологическое значение вне связи с реальным миром. Феномен информационного фантома состоит в том, что смешение достоверной, недостоверной и заведомо неполной информации приводит к тому, что данные контент-анализа интернет-публикаций становится проблематично экстраполировать на реальный мир, а частотность интернет-публикаций перестает быть критерием оценки массовости соответствующих им явлений и процессов, проистекающих в реальном мире. Подобные тенденции отчетливо прослеживались уже в 90-е гг. прошлого века в связи с актуализировавшейся тогда проблемой репрезентативности виртуализированного дискурса. Так, например, огромные тиражи листовок Белого Братства, их массовое распространение в социосфере российских и украинских городов создавали эффект завышенной валидности: в реальности численность этого НРД, по данным религиоведческих исследований, никогда не превышала 5.000 человек.
В настоящее время данные тенденции продолжают усиливаться, что связано, прежде всего, с совершенствованием информационных технологий, превращением Интернета в массовый информационный ресурс, дешевый, доступный, фактически свободный от идеологического регулирования и вообще внешнего управления1. При этом легкость размещения и тиражирования информации, использование анонимных и псевдонимных способов ее маркирования затрудняют верификацию репрезентативности интернет-источников, особенно распространяемой в результате различных информационных и семиотических каскадов2.
Одним из подобных информационных фантомов можно считать движение так называемых «непоминающих священников» (далее — «непоминающих»), представители которого массово представлены в Интернете и намного более скромно — в реальном мире3. Проведенный небольшой опрос показателен: из опрошенных мною коллег, занимающихся религиоведческими исследова-ниями4, все в процессе своей профессиональной деятельности ранее встречали информацию о движении непоминающих (прежде всего на просторах Интернета), 8 экспертов из 10 опрошенных были хорошо знакомы с видеоматериалами непоминающих и смогли назвать и охарактеризовать интернет-ресурсы, на которых они размещены, но при этом никто из опрошенных не обладал какой-либо конкретной и достоверной информацией о реальных непоминающих общинах, не присутствовал на их богослужениях, не имел представления о реальной численности непоминающих общин. В большинстве случаев опрошенные коллеги ограничивались общими словами — «где-то в области», «где-то на окраинах», «далеко», «в каких-то селах» и т. п. Примерно такова же информированность большинства священнослужителей канонической Русской Православной Церкви Московского Патриархата — о непоминающих многие слышали, их ролики в Интернете смотрели, знают отдельные имена, но вся информированность по этому вопросу ограничена общими сведениями, почерпанными из многочисленных, но малоинформативных в плане конкретики видеозаписей.
Эффект завышенной валидности налицо: на основе интенсивности интернет-публикаций можно сделать вывод о том, что движение непоминающих многочисленное и распространенное, в реальности же никаких признаков присутствия непоминающих в качестве актора религиозной ситуации наблюдать не приходится. За пределами очень ограниченного хронотопа, на тенденции религиозной ситуации на сколько-нибудь значительном уровне они не влияют и влиять не могут. Некоторое увеличение их влияния на социум, наблюдаемое в современных условиях травмирующего действия противоэпидемических мероприятий, является временным и очевидно не приведет к сколько-нибудь серьезным изменениям религиозной ситуации в целом.
Тем не менее это явление интересно: на его материалах можно изучать специфические черты формирования религиозных информационных мемов — частотного герменевтического кода, семиотизирующего принадлежность к религиозным и пара-религиозным субкультурам, в том числе ориентированным на существование в виртуальном мире.
Движение непоминающих священников представляет собой весьма малочисленное, но, как уже было отмечено выше, широко представленное в Интернете фундаменталистское направление в современном православии5, отличительной чертой которого является отказ от литургического поминания Патриарха и епархиальных архиереев, как зараженных «всеересью экуменизма» и утративших, в силу этого, благодать. В отличие от других фундаменталистских расколов, непоминающие не имеют собственной трехчастной иерархии, поэтому в их среде нет епископов, а само движение преимущественно состоит из священников (как белых, так и монашествующих), получивших рукоположение в Русской Православной Церкви Московского Патриархата, что позволяет ставить вопрос о том, что данное движение скорее является псевдофундаменталистским6. Некоторые из непоминающих, осознавая собственную каноническую уязвимость, подменяют проблему формальноканонического статуса заявлениями о том, что они являются «духовными детьми» или «находящимися в духовном общении» с епископами различных юрисдикций, известными своими антиэкуменичными взглядами. Некоторые из непоминающих заявляют о том, что они находятся под канонической властью епископов различных юрисдикций, нарушая тем самым само понятие канонической территории. Впрочем, эта проблема снимается утверждениями о том, что канонические правила не действуют в чрезвычайных условиях массового отступничества епископата; эту ситуацию они экстраполируют на современное состояние Православной Церкви. Следует сразу отметить, что утверждение о том, что в настоящее время канонические нормы действуют особым, избирательным образом, обретает черты устойчивой теоло-гемы, необходимой для решения апологетических задач. Разумеется, право выбора того, какие каноны продолжают действовать, а какие более не применимы, они оставляют за собой и принципиально избегают формулировать какие-либо критерии этого: таким образом формируются своего рода «пустые рамочные понятия», заполнение которых всецело зависит от прагматики и конъюнктуры современности. При этом многие из них продолжают служить на антиминсах, освященных каноническими епископами Русской Православной Церкви Московского Патриархата, что находится в явном противоречии с их же экклезиальными и сотериологическими установками.
Одним из общих информационных мемов, крайне популярных среди виртуальных субкультур непоминающих, является утверждение о начавшихся гонениях. Инициаторами и непосредственными «исполнителями» гонений якобы выступают российские спецслужбы, Роспотребнадзор, МЧС, ГИОП, КУГИ и т. д., местная власть и даже канонические епископы и священники. В тексте, распространяемом последователями непоминающего священника Александра Сухова, прямо утверждается, что «местный архиерей совместно со спецслужбами … присылал автоматчиков» для стрельбы по воротам церковного здания, в котором собирается община фундаменталистов. В экспертном заключении, подготовленном мною по запросу компетентных органов, мне пришлось высказать обоснованное сомнение в добрых и здравых намерениях автора процитированного выше заявления. Однако чаще гонения интерпретируются менее конкретно и аргументированно: под ними понимаются любая критика деятельности непоминающих со стороны представителей канонической Церкви и любые факты проверки общин контролирующими органами. Интент-анализ позволил нам даже выявить словосочетание «гонение в виде непонимания», которое фигурирует в видеоматериалах непоминающих. Заявления о «начале гонений» весьма импонируют большинству верующих, вовлеченных в субкультурные коммуникативные группы, поскольку формируют представления о собственной духовной элитарности (принадлежность к «Церкви мучеников») при том, что фиктивный характер самих гонений (что, разумеется, открыто не артикулируется) делает их совершенно безопасными.
Однако, если «гонения» являются мемом, общим для большинства субкультур «альтернативного православия», то наиболее радикально настроенная часть движения выработала собственную мемосреду, основным мемом которой является «ересь киприанизма». Данное словосочетание не только регулярно воспроизводится в дискурсе, но и по технологии информационного каскада распространяется в информационной среде, проникая в ее различные страты.
Проведенный нами неколичественный контент- анализ7 выявил регулярное воспроизведение данного словосочетания в видеозаписях непоминающих священников и мирян, текстах, принадлежащих священнослужителям и неканонических юрисдикций, в комментариях к новостным материалам религиозного содержания, в материалах, размещенных в социальных сетях и комментариях к ним. Характерным является и демотиватор с фотографией умершего старостильного митрополита Киприана, регулярно тиражирующийся в соответствующей информационной среде.
Сразу отмечу, что в плане семиотической прагматики использование данного мема направлено на дискредитацию более умеренных представителей движения, которые не готовы в своей критике экуменизма делать столь же радикальные выводы сотериологического и сакраментологического характера.
Понятие «ересь киприанизма» восходит к экклезиологическим взглядам митрополита Киприана (Димитриоса Куцумбаса), главы греческой неканонической старостильной юрисдикции «Синод противостоящих», изложенным в небольшом трактате «Екклезиологические тезисы, или изложение учения о Церкви для православных противостоящих ереси экуменизма».
Экклезиология митрополита Киприана основывается на тезисе, согласно которому «лица, заблуждающие в правильном понимании веры, и тем согрешающие, но еще неосужденные церковным судом, являются заболевшими членами Церкви»8.
Далее митрополит Киприан обосновывает вывод о том, что таинства, совершенные заблуждающимися, но не осужденными Церковью клириками, являются действенными, при этом особо подчеркивается действенность рукоположений, совершаемых епископами, над которыми не было произведено церковного суда. В качестве главного аргумента митрополит Киприан использует тезис о том, что церковный суд не принадлежит отдельным лицам, поэтому, если кто-то обвиняет клирика в ереси, то это обвинение не имеет никаких сакраментологи-ческих последствий — право суда принадлежит всей Церкви, является соборным деянием, вопреки которому никто не может присваивать себе право низлагать клириков: «Мнение отдельного верующего не может заменить соборного приговора Церкви и ее Господа, Иисуса Христа, даже если дело останется неразрешенным до Второго Пришествия»9. Действенность таинств, совершаемых клириками, относящимися к числу «болящих членов Церкви», не распространяется на прещения, которые они налагают на тех, кто противостоит их еретическому, но не осужденному еще учению. Возвращение «болящих членов Церкви» ко всей полноте церковной жизни, согласно учению митрополита Киприана, «легко, лишь бы они сами пожелали этого благословенного возвращения»10.
Как мы видим, экклесиологические взгляды митрополита Киприана, на фоне радикальных утверждений большинства непоминающих, носят весьма умеренный характер, так как они не предполагают однозначных радикально-фундаменталистских оценок мирового Православия как лишенного благодати сообщества, таинства которого априорно являются недействительными, душепагубными и ведущими к вечной погибели. И именно последнее делает их принципиально неприемлемыми для радикалов: сам факт возможной действенности таинств «мирового Православия» делает существование общин непоминающих священников не только канонически очень уязвимым, но и сакраментологически лишенным смысла. Одно это допущение дезавуирует основной апологетический аргумент — каноническое несовершенство институтов непоминающих (отсутствие епископата, нарушение принципов канонической территории, неканоничное использование антиминсов и мира, нарушение ряда других канонических правил) оправдывается указанием на тотальную безблагодатность Церквей «мирового Православия», на фоне которой перечисленные канонические и вытекающие из них догматические нарушения могут объясняться «меньшим злом».
Именно эти соображения и обращают на экклесиологию митрополита Киприана odium большинства непоминающих, а само учение этого митрополита, обвиненное в еретичности, становится основанием для формирования мема «ересь киприанизма», используемого для сплочения единомышленников ради противостояния всеобщему отступничеству, которое проявляется не только «открыто», но и в более «коварных формах», дискредитации оппонентов и, в итоге, формирования сектантских субкультур алармистско-эсхатологического типа. «Искатель мира и любви с еретиками еп. Киприан Оропосский, положивший начало новой ереси, получившей название по его имени»11 становится для «ревнителей» символом апостатии и воистину демонической фигурой, более пугающей их зачастую нездоровую и легковозбудимую психику, нежели «открытые либералы и экуменисты».
Здесь стоит отметить, что о «ереси киприанизма» сегодня можно узнать почти исключительно из Интернета. Вероятность, что вы встретите данное словосочетание в устных дискурсах повседневности, практически равна нулю. Однако, в интернет- баталиях, обличительных и увещевательных роликах, в трансляциях проповедей, т. е. в дискурсной среде виртуального пространства, «ересь киприанизма» не только регулярно воспроизводится, но фактически превратилась в мем.
Однако для того, чтобы сформировать данный мем и запустить в его в информационное пространство, противникам «киприанизма» было необходимо обосновать оценку данного учения в качестве «ереси». Сложность этой задачи была в значительной степени обусловлена тем, что объявляя себя последовательными и строгими защитниками Православия, непоминающие были вынуждены действовать в хорошо стратифицированном пространстве православной каноники, не имея фактически никаких инструментов принятия канонически значимых решений, поскольку проведение какого-либо «собора», отвечающего каноническим нормам, было и остается невозможным в силу очевидных обстоятельств, в которых существуют общины непоминающих. Отчасти это признают и сами борцы с киприанизмом: «Тем не менее, кто-то может надеяться доказать, что все же киприанизм не осужден Вселенским Собором. Однако, безопасно ли глотать хорошо известный яд только потому, что он официально не объявлен ядом некой властью? Никаким Вселенским Собором не были осуждены ни коммунизм, ни сергианство, ни экуменизм, ни римо-католицизм, ни его отпрыск, протестантизм. Должны ли мы молчать, когда все больше душ страдает и гибнет, пока мы ждем Вселенского Собора? Да и какие Церкви составят такой Собор? Истинно-православные Церкви разъединены и малочисленны; они борются за свою организацию и должны двигаться среди опасных рифов современных ересей, основывающихся на светском гуманизме»12.
Среди этих обстоятельств основным является фактическое отсутствие канонического епископата; уже один этот факт делает невозможным проведение церковного Собора какого-либо уровня, могущего претендовать на принятие канонически-значимых решений. В связи с этим непоминающие были вынуждены разработать определенные герменевтические механизмы, позволяющие если не преодолеть данную сложность, то минимизировать ее последствия для имиджа движения. К таковым относятся:
— Попытка обосновать положение о том, что канонические нормы действуют только в условиях нормально, стабильного функционирования церковных институтов. Сейчас же, в условиях «войны», которую развязали экуменисты-отступники, должны действовать иные канонические нормы, подобные «законам военного времени»;
— Апелляция к церковным прецедентам, якобы обосновывающим возможность существование Церкви без епископов и осуждения ереси без соборного суда;
— Эксклюзивная герменевтика текстов отцов Церкви, основанная на тенденциозном подборе выдержек и их интерпретации, не учитывающей контекст; при этом зачастую негативная оценка каких-либо учений отдельными отцами интерпретируется как эквивалент церковно-канонической санкции;
— Демонизация оппонентов, использование пейоративной лексики.
В результате распространения мема «ересь киприанизма» в информационном пространстве произошли некоторые изменение в семантике понятия, являющегося базовым для экклесиологии самого митрополита Киприана, на первый взгляд малозаметные, но весьма показательные. Для митрополита Киприана, как это явственно следует из текста его «экклесиологических тезисов», понятие «больные члены Церкви» подразумевает необходимость их «уврачевания» — «больные должны выздороветь», причем, процесс этот является «простым». Для разработчиков мема «ересь киприанизма» акцент в интерпретации данного понятия был сделан на онтологическом статусе
«больного» — «больной, значит живой, не умерший». Подобная онтология была объявлена несовместимой с «верностью Православию», а в киприаниз-ме начали подозревать всех, кто критикуя экуменизм при этом отказывался заходить в этой критике так далеко, как того требовали идеологи непоминающих. Так, например, некоторые клирики, разделяющие общие установки непоминающих, разрешают своим последователям в крайних случаях посещать храмы «мирового Православия». Это формирует ситуацию, предполагающую выбор герменевтической стратегии объяснения этого разрешения. Поскольку сама по себе такая практика может рассматриваться как основание для прецедента, а может ограничиваться жестким контекстом: это всецело зависит от герменевтических установок. Иными словами: при анализе этого разрешения акцент может быть сделан на условиях этого посещения («экстренная ситуация»), и тогда само по себе разрешение не дает каких-либо поводов для обвинений в «криптоэкуменизме» — как известно, в крайнем случае даже мирянин может совершать крещение. А можно акцент сделать на самом факте потенциального разрешения, из которого при помощи методов приращения смысла извлечь необходимые данные для обвинений и демонизации противников. И обвинение в «ереси киприанизма» оказывается в данном случае вполне работающей методикой. В принципе это согласуется с герменевтической стратегией, которую мы ранее обозначили как «осажденная крепость» — для усиления социальной устойчивости субкультурной группы она вынуждена постоянно продуцировать алармистские настроения, формировать враждебную дискурсивную среду, чтобы потом апеллировать к самому факту ее существования. Поэтому на смену «одним врагам» («открытым экуменистам») по мере затихания информационного каскада и генерируемого им скандала должны своевременно приходить другие — более коварные, а значит, и опасные.
В результате обвинениями в «ереси киприанизма» могут решаться следующие цели:
-
— Формирование модальности страха (в традиционной православной культуре существует исторический страх перед «ересью» и «еретиками»);
-
— Дискредитация противников, особо актуальная при борьбе за власть и влияние в субкультурных группах, построенных по типу авторитарноригористических обществ;
-
— Формирование представлений о собственной исключительности (коль скоро все кругом еретики, и даже столь близкие нам сообщества — тоже еретические);
-
— Сплочение адептов ради противостояния новой страшной ереси (формирование упомянутого мировосприятия осажденной крепости);
-
— Формирование герменевтического кода, позволяющего направлять коммуникационные процессы, влиять на коммуникативную модальность (ср. «Вот тоже, как услышу я слово “жупел”, так руки-ноги и затрясутся…» А. Н. Островский «Тяжёлые дни»).
Иными словами, произнося «ересь киприанизма», говорящий не только свидетельствует о своих экклезиальных предпочтениях (принадлежит или симпатизирует радикальному крылу непоминающим), но и выражает свое неприятие любых компромиссов не только с «мировым Православием», но и с менее радикально настроенными сообществами. Будучи мемом информационного пространства, словосочетание «ересь киприанизма» выполняет, однако не только функцию семиотического маркера-пароля и инструмента формирования коммуникативной модальности. Его использование позволяет реализовывать стратегии диффамации конкурентов и различные манипулятивные технологии управления поведением адептов соответствующих сектантских обществ.
Список литературы "Ересь киприанизма" как мем информационного пространства
- Головушкин Д. А. Православный фундаментализм: возвращение к осмыслению // Философская мысль. 2016. № 1. С. 111-155.
- Головушкин Д. А. Современный православный фундаментализм or псевдофундаментализм? // Известия Иркутского государственного университета. Сер.: Политология. Религиоведение. 2018. Т. 25. С. 92-102.
- Киприан, митрополит Оропосский и Филийский. Екклезиологические тезисы, или Изложение учения о Церкви для православных противостоящих ереси экуменизма // Блог о. Сергия Кондакова. URL: http://kondakov.ws/blog/Mitropolit-Oroposskiy-i-Filiyskiy-K (дата обращения: 15.10.21).
- Мелехов В. Киприанизм: крипто-экуменизм - ересь наших дней // Ортодоксия и гетеродоксия. URL: http://www.ortho-hetero.ru/index.php/theology-aecum/1521 (дата обращения: 15.10.21).
- Пашинян И. А. Контент-анализ как метод исследования: достоинства и ограничения // Научная периодика: проблемы и решения. 2012. № 3. С. 13-18.
- Прилуцкий А. М., Лебедев В. Ю. Семантика и семиотика мифологизированного информационного скандала. СПб., 2021. 160 с.
- Прилуцкий А. М., Лебедев В. Ю. Современное движение непоминающих священников: опыт семиотическо-религиоведческого анализа // Вестник ПСТГУ. Сер. 1: Богословие. Философия. Религиоведение. 2020. № 88. С. 103-120.
- Слово непоминающего иеромонаха Христофора к ревнителям Православия // Соборяне. URL: http://soborjane.ru/2017/06/15/slovo-nepominajushhego-ieromonaha-hristofora-k-revniteljam-pravoslavija/ [Видеозапись] (дата обращения: 15.10.21).