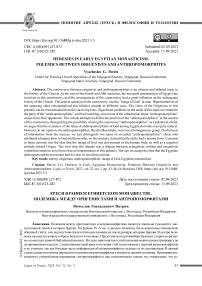Ереси в раннем египетском монашестве. Полемика между оригенистами и антропоморфитами
Автор: Патрин В.Г.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Понятие αιρεσισ (ересь) в философии и теологии: от античности до современности
Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Полемика между оригенистами и антропоморфитами является довольно туманной и дискуссионной темой в истории Церкви. На рубеже IV-V вв. в данную полемику были вовлечены монашеские общины Египта, и ее последствия оказали большое влияние на последующую историю Церкви. В центре полемики находился вопрос «образа Божьего» в человеке. Представители противоборствующих сторон по-разному осмысляли данный библейский концепт. Взгляды оригенистов в этой полемике можно реконструировать по сохранившимся текстам. Существенные проблемы в изучении этой темы связаны с партией антропоморфитов и их учением, так как большая часть информации об антропоморфитах исходит от их противников. В данной статье делается попытка определить позицию антропоморфитов в контексте данной полемики. Признавая возможность употребления выражения «антропоморфиты» как полемического клише, мы утверждаем, что существование идей антропоморфизма Бога среди египетских монахов было вполне естественным. Однако, на наш взгляд, антропоморфиты, как и мессалиане, не были однородной группой. На основании информации источников можно выделить два типа так называемых антропоморфитов: тех, кто приписывал Богу человеческий облик, и тех, кто, напротив, отрицал, что божество имеет человеческий облик. Общим в этих течениях была идея о том, что образ Божий присутствует и в человеческом теле, а также негативное отношение к Оригену. Мнение о том, что этот спор был спором между евангельским реализмом и оригенистическим символизмом, нам представляется слишком вольной интерпретацией данной полемики. Также мы не можем согласиться с идеей, что движение египетских антропоморфитов уходило корнями в еврейский мистицизм.
Ересь, оригенизм, антропоморфизм, образ божий, египетское монашество
Короткий адрес: https://sciup.org/149145055
IDR: 149145055 | УДК: 1(100)(091):27-872 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2023.3.5
Текст научной статьи Ереси в раннем египетском монашестве. Полемика между оригенистами и антропоморфитами
DOI:
Цитирование. Патрин В. Г. Ереси в раннем египетском монашестве. Полемика между оригенистами и антропоморфитами // Logos et Praxis. – 2023. – Т. 22, № 3. – С. 43–48. – DOI:
Полемика между оригенистами и антропоморфитами в целом является довольно туманной и дискуссионной темой в истории Церкви [Patterson 2011, 9–35]. На рубеже IV–V вв. в данную полемику были вовлечены монашеские общины Египта, и последствия это полемики оказали большое влияние на последующую историю Церкви. Началом событий послужило праздничное послание Александрийского патриарха Феофила 399 г., в котором он осудил антропоморфизм, но которое встретило крайне негативную реакцию среди египетских монахов. В центре полемики находился вопрос «образа Божьего» в человеке. Если доктрину «оригенистов» в этой полемике можно реконструировать по сохранившимся текстам, причем даже в этой реконструкции ученые не во всем согласны [Bunge 2009, 9–42], то богословская система антропоморфитов ставит перед исследователями множество проблем. Большая часть информации об антропоморфитах исходит от их противников, таких как прп. Иоанн Кассиан [Jean Cassien 1958, 75–79] и Сократ Схоластик [Socrate de Constantinople 2006, 288–291]. Единственным источником сведений об этой полемике со стороны самих египетских антропоморфитов является агиографический источник – Житие аввы Афу [Driton 1915–1917; Болотов 1886; Gould 1992, 550]. Согласно прп. Иоанну Кас-сиану и Сократу Схоластику, большинство монахов Нижнего Египта, возмущенных праздничным письмом Феофила, принадлежали к антропоморфитам [Guillaumont 2004, 59–60]. Однако следует с осторожностью относиться к этой информации, так как сами наименования «оригенисты» и «антропоморфиты» являются полемическими клише [Clark 1992, 6–7], которые давали друг другу представители противоборствующих групп, не очень заботясь о корректности. В то же время мы не можем согласиться с отцом Георгием Флоровским [Florovsky 1975a; Florovsky 1975b] и Г. Гульдом [Gould 1992], которые отрицают существование антропоморфизма как такового среди египетских монахов. Мы полагаем, что антропоморфиты, как и мессалиане, не были однородной группой. Это наше главное замечание по отношению к предыдущим исследованиям, посвященным полемике между антропоморфитами и оригенистами, поскольку в них антропоморфизм представлен слишком однородным. На основании информации источников можно выделить по крайней мере два типа так называемых антропоморфитов: тех, кто приписывал Богу человеческий облик (авва Серапион из собеседований Иоанна Кассиа-на), и тех, кто, напротив, отрицал, что божество имеет человеческий облик (Епифаний Кипрский, авва Афу). Общим в этих течениях была идея о том, что образ Божий присутствует и в человеческом теле, а также их негативное отношение к Оригену. Мнение Георгия Флоровского, что этот спор был спором между евангельским реализмом и оригенис-тическим символизмом нам представляется слишком вольной интерпретацией данной полемики. Также мы не можем согласиться с идеей, высказанной А. Голициным и П. Паттерсоном, о том, что движение египетских антропоморфитов уходило корнями в еврейский мистицизм.
Праздничное письмо патриарха Феофила 399 г. спровоцировало сильную негативную реакцию среди египетских монахов. К сожалению, это письмо не сохранилось, поэтому о его содержании остается только догадываться. По мнению авторов, поддерживающих оригенистов, в частности, Иоанна Кассиана, монахи были возмущены тем, что в этом письме Феофил отрицает, что Всемогущий Бог имеет человеческую форму [Jean Cassien 1958, 75–76; Иоанн Кассиан 1993, 350]. В соответствии с Житием аввы Афу, представляющим точку зрения антропоморфитов, монахи были скандализированы отрывком, в котором патриарх якобы отрицает образ Божий в людях, утверждая, что «образ Божий не тот, что носим мы, человеки» [Болотов 1886, 349]. Оба текста свидетельствуют, что предметом спора был вопрос об «образе Божием», однако в них по-разному расставлены акценты. В первом случае говорится о человеческих чертах Бога, то есть о его антропоморфности, а во втором – об «образе Божием» в человеке, включая и его тело.
В оригенизме концепт «образа Божьего» имел практическое значение в качестве посредника на пути к познанию Бога, что отразилось, в частности, в учении о молитве Еваг-рия Понтийского [Guillaumont 1958, 111; Patrin 2016, 351–359]. С точки зрения оригенистов, вопрос о наличии «образа Божия» в человеческом теле был логически связан с антропоморфизмом Бога. В этой системе образ Божий не мог иметь какую-либо материальную форму, в том числе человеческого тела, так как Бог нематериален. Прп. Иоанн Кассиан, Сократ Схоластик и другие противники антропоморфизма в своих обвинениях делали упор на этом моменте. При этом существуют свидетельства о борьбе иерархов Церкви с идеями антропоморфизма Бога в конце IV – начале V в. [Patterson 2011, 75–117; Wickham 1983, 132–221]. Праздничное письмо Феофила, спровоцировавшее монахов, по всей видимости, являлось частью этой общей полемики. Поэтому, вопреки мнению Флоровского и Гульда, мы не можем отрицать существование антропоморфизма как такового среди египетских монахов, значительная часть которых происходила из простых людей.
На наш взгляд в словах аввы Серапиона выражен основной смысл концепта «образ Божий» в религиозной практике простых людей – он актуализирует реальность Бога. Для того чтобы обратиться к Богу в молитве, человек должен иметь представление или образ Бога. Наличие в текстах Священного Писания антропоморфных выражений по отношению к Богу обусловливает возможность существования веры в антропоморфного Бога как у современных христиан, так и у христиан различных эпох без наличия какой-то особой «доктрины». Истоки этой формы мышления лежат глубоко в психологии человека. Так, авва Исаак объясняет антропоморфизм (Бога) у людей, не подвергшихся влиянию язычества, как следствие их невежества и простоты, для которых отрывок из Быт 1:13 служит аргументом для их веры: «Это заблуждение хотя по сказанному происхождению и срослось с чувствами некоторых, однако под предлогом следующего свидетельства: сотворим человека по образу Нашему и подобию, по неискушенности или невежеству привилось и в душах тех, которые никогда не были осквернены языческим суеверием, так что ересь антропоморфистов произошла от превратного толкования, и поэтому с упорным извращением настаивают, что безмерное и простое существо Божие сложилось с нашими чертами, в образе человеческом» [Иоанн Кассиан 1993, 353].
Как мы уже писали, антропоморфизм – это явление, во многом связанное с психологией человека. Это примитивное представление о Боге, и слова аввы Исаака о связи антропоморфизма с невежеством и простотой также справедливы сегодня по отношению к христианской народной вере. Люди до сих пор используют представления об антропоморфизме Бога как самый простой способ актуализации бытия Божьего. Это самая простая форма «божественного реализма». Можно заключить, что конфликт между антропоморфитами и оригенистами в Египте был конфликтом между народной, простой верой и верой основанной на философских принципах. Одни не могли усвоить доктрину, полную абстракций, другие презирали банальный образ мышления простых людей, считая его примитивным. Стенания аввы Серапиона в изложении Кассиана нам кажутся вполне соответствующими реакции простых людей, когда им объясняют, что представлять Бога в человеческом облике неверно. Авва принимает логическое доказательство апофатического богословия, но его реакция, отличающаяся искренностью, показывает, что он не смог принять это учение в качестве своего «мистического» пути. То, что является логическим следствием принятия этого богословия, – «освобождение» разума от представления о Боге, – вызвало у него очень болезненные чувства утраты Бога. Таким образом, мы предполагаем, что агрессия антропоморфитов по отношению к оригенистам была в значительной степени реакцией простых людей на попытки интеллектуалов лишить их доступного им опыта Бога. В тоже время, нужно отметить, что молитвенная практика аввы Евагрия, противопоставляемая молитве антропоморфитов, также имела свой способ актуализации Бога. В ней не только предполагалось избегание «телесных» образов во время молитвы, но также было необходимым использовать «истинный» образ Бога – человеческий ум, и через созерцание ума вступать в общение с Богом. Таким образом, в определенном смысле это тоже форма антропоморфного «божественного реализма», поскольку она уподобляет божественную природу одной из частей человеческой природы (уму) и считает возможным общение с Ним через этот «божественный образ» в человеке.
Оригенисты связывали тему образа Божия с молитвенной практикой, и именно в контексте этой практики они находили поддержку своим обвинениям. Но если простых мо-нахов-антиоригенистов, таких как авва Сера-пион, можно было обвинить в антропоморфи-зации Бога, то другие противники оригенис-тов не считали Бога антропоморфным (например, Епифаний Кипрский и авва Афу, к которым присоединился потом патриарх Феофил), и именно их позиция в итоге была признана Церковью. Для этих противников оригенизма образ Бога не имел функционального значения для молитвенной практики, но рассматривался ими в контексте веры и экзегезы.
В Житии аввы Афу в качестве главного предмета спора представлен вопрос о наличии образа Божия в человеческих телах. Аргументы, которые в диалоге с аввой Афу патриарх Феофил высказывает против этого присутствия, можно разделить на две части: во-первых, телесные недостатки противоречат Божественному совершенству, во-вторых, образ Божий был утрачен в потомках Адама из-за грехопадения [Болотов 1886, 350–351]. Нужно отметить, что данные аргументы не позволяют говорить о том, что патриарх Феофил придерживался оригенистической точки зрения. Так первый аргумент патриарха, который можно назвать «эстетическим», в принципе, для оригенистов не имел значения, поскольку они полностью исключали телесность из образа Божия. Второй аргумент Феофила также ближе к тем идеям, которые в конфликте разрабатывали противники оригенистов. Именно свт. Епифаний Кипрский обвинял Оригена в отрицании наличия образа Божия в потомках Адама [Епифаний Кипрский 1872, 86], в то время как ни оригенисты, ни их защитники не обращали на это никакого внимания [Gould 1992, 550–551, 555; Clark 1992, 92]. В данном случае, по всей видимости, мы имеем дело с интерпретаций идей Оригена его оппонентами. Таким образом, согласно информации из Жития, идеи Феофила изначально были весьма далеки от оригенизма.
А. Голицин, а затем П. Паттерсон высказывают мнение, что идеи анропоморфизма египетских монахов уходили корнями в еврейский мистицизм [Patterson 2011, 25–31]. Эта гипотеза безусловно интересна, но слишком спекулятивна. Она основана, прежде всего, на предположении, что слова Кассиана о «еврейской слабости» [Иоанн Кассиан 1993, 353] являются намеком на связь антропоморфизма египетских монахов с еврейской мистикой созерцания вечного, божественного тела [Patterson 2011, 30–31]. Но если допустить такое, то это означает, что большинство монахов Нитрии (Нижний Египет) находилось бы под влиянием иудейской мистики. Но тогда у нас бы имелись более надежные свидетельства об этом, чем двусмысленное выражение Кассиа-на и аллюзии в апокрифических текстах библиотеки Наг-Хаммади (которая географически, к тому же, находилась в другом регионе – в Верхнем, а не Нижнем Египте). Существенным контраргументом против идеи Голицина и Патттерсона являются антииудейские высказывания самих антропоморфитов. Так в Житии аввы Афу подвижник, говоря о Евхаристии, относит к иудеям тех, кто не верит, что хлеб и вино – это Тело и Кровь Христа [Болотов 1886, 351]. Таким образом, противники ори-генизма дистанцировались от иудаистского образа мышления, а само обвинение в «иудаизме» в рассматриваемых текстах, скорее всего, является полемическим клише.
В связи с тем что в Житии аввы Афу ничего не говорится о человеческом облике Бога, отец Георгий Флоровский сделал вывод, что в этой полемике антропоморфитская традиция была более ортодоксальной, чем ори-генистская, поскольку антропоморфиты представляли «евангельский реализм» воплощенного Бога, а Кассиан и Сократ отстаивали «оригенистский символизм» [Florovsky 1975a, 96]. Тот факт, что патриарх Феофил принял критику монахов на свое праздничное письмо, а после этого события, как и раньше, критиковал антропоморфизм [Russell 2007, 196], говорит о том, что данная реакция монахов не была защитой, или, по крайней мере, явной защитой идеи антропоморфизма Бога. Монахи пришли к патриарху, чтобы выразить протест против отрицания того, что человеческий облик является образом Бога. Но, как мы уже писали выше, это не означает, что в этой монашеской среде, состоящей в основном из простых людей, не было более радикальных идей об антропоморфизме Бога. Также ни один текст не приводит факт Воплощения Бога-Слова в качестве аргумента со стороны антропоморфитов в их полемике с оригенистами. Таким образом, мнение Флоровского о том, что данный конфликт является христологическим спором между «евангельским реализмом» антропоморфитов и «оригенистским символизмом», является довольно вольной интерпретацией данной полемики.
Список литературы Ереси в раннем египетском монашестве. Полемика между оригенистами и антропоморфитами
- Болотов 1886 – Болотов В.В. Житие блаженного Афу, епископа Пемджеского // Христианское чтение. 1886. № 3–4. С. 334–357.
- Епифаний Кипрский 1872 – Епифаний Кипрский, святитель. Творения. Ч. 3. М.: тип. В. Готье, 1863.
- Иоанн Кассиан 1993 – Иоанн Кассиан, преподобный. Писания. Сергиев Посад: РФМ, 1993.
- Bunge 2009 – Bunge G. Encore une fois : Hénade ou Monade? Au sujet de deux notions-clés de la terminologie technique d’Evagre le Pontique // Adamantius. 2009. Vol. 15. P. 9–42.
- Clark 1992 – Clark E. The Origenist Controversy: The Cultural Construction of an Early Christian Debate. Princeton: Princeton University Press, 1992.
- Driton 1915–1917 – Driton E. La discussion d’un moine anthropomorphite audien avec le patriarche Théophile d’Alexandrie en l’année 399 // Revue de l’Orient chrétien. 1915–17. Vol. 10. P. 92–100, 113–28.
- Florovsky 1975a – Florovsky G. The Anthropomorphites in the Egyptian Desert // Aspects of Church History. 1975. Vol. 4: Collected Works of Georges Florovsky. Belmont, MA: Nordland. P. 89–96.
- Florovsky 1975b – Florovsky G. Theophilus of Alexandria and Apa Aphou of Pemdje // Aspects of Church History. 1975. Vol. 4: Collected Works of Georges Florovsky. Belmont, MA: Nordland. P. 97–129.
- Gould 1992 – Gould G. The Image of God and the Anthropomorphite Controversy in Fourth Century Monasticism // Origeniana Quinta. Leuven: University Press, 1992. P. 549–557.
- Guillaumont 1958 – Guillaumont A. Les six centuries des “Kephalaia gnostica” d’Evagre le Pontique. Paris: Firmin-Didot, 1958.
- Guillaumont 2004 – Guillaumont A. Un philosophe au désert: Évagre le Pontique. Paris, 2004.
- Jean Cassien 1958 – Jean Cassien. Conférences VIII–XVII. Paris: Cerf, 1958.
- Patrin 2016 – Patrin V. La prière dans les Apophtegmes des Pères. Thèse de doctorat sous la direction de Bernard Flusin. Études grecques. Paris: Université Paris – Sorbonne, 2016.
- Patterson 2011 – Patterson P. Visions of Christ: The Anthropomorphite Controversy of 399 CE. An Abstract Presented to the Faculty of Graduate Education of Saint Louis University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, 2011.
- Russell 2007 – Russell N. Theophilus of Alexandria. The Early Church Fathers. London; New York: Routledge, 2007.
- Socrate de Constantinople 2006 – Socrate de Constantinople. L’Histoire ecclésiastique. Livres IV–VI. Paris: Cerf, 2006.
- Wickham 1983 – Wickham L. Cyril of Alexandria. Select Letters. Oxford: Clarendon Press, 1983.