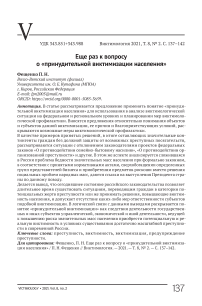Еще раз к вопросу о «принудительной виктимизации населения»
Автор: Фещенко П. Н.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Виктимология преступности
Статья в выпуске: 2 т.8, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается предложение применять понятие «принудительной виктимизации населения» для использования в анализе виктимологической ситуации на федеральном и региональном уровнях и планировании мер виктимологической профилактики. Вносятся предложения относительно понимания объектов и субъектов данной виктимизации, ее причин и благоприятствующих условий, раскрываются возможные меры виктимологической профилактики. В качестве примеров принятых решений, в итоге оставляющих значительные контингенты граждан без должной защиты от возможных преступных посягательств, рассматриваются ситуации с отклонением законодателями проектов федеральных законов «О противодействии семейно-бытовому насилию», «О противодействии организованной преступности» и другие. В этом же аспекте анализируется сложившаяся в России проблема бедности значительных масс населения при формально законном, в соответствии с принятыми нормативными актами, сверхобогащении определенных групп представителей бизнеса и приобретении предметов роскоши вместо решения социальных проблем народных масс, даются ссылки на выступления Президента страны по данному поводу. Делается вывод, что сегодняшнее состояние российского законодательства позволяет длительное время существовать ситуациям, переводящим граждан в категории потенциальных жертв преступности или же принимать решения, повышающие виктимность населения, и допускает отсутствие каких-либо мер ответственности субъектов подобной виктимизации. В логической связи с данными выводами раскрывается понятие «принудительной виктимизации» как следствия деятельности государственных и иных субъектов управленческой, экономической и иной деятельности, ведущей к повышению риска значительных масс населения приобрести потенциальную и реальную виктимность в условиях существования достаточно масштабной преступности в современной России.
Преступность, виктимность, виктимизация, предупреждение преступности
Короткий адрес: https://sciup.org/14118760
IDR: 14118760 | УДК: 343.851+343.988
Текст научной статьи Еще раз к вопросу о «принудительной виктимизации населения»
Исследуя причины и благоприятствующие преступности условия как массовые явления, в итоге ведущие к существованию преступности в сегодняшнем состоянии миллионов зарегистрированных и еще большего числа латентных преступлений, криминологи в качестве важного элемента системы предупреждения преступности выделяют виктимологическую профилактику.
Как в любой деятельности, здесь необходимо реально представлять объем работы, объекты воздействия, распределять решение конкретных задач между различными субъектами, предусматривать критерии оценки результатов и т. д.
Применительно у уровню объектов профилактического воздействия традиционно выделяется виктимность— массовая, групповая, индивидуальная, причины возникновения виктимных качеств, исследуются субъекты виктимизаци и иные важные вопросы.
Из всего их множества в данной статье хотелось бы сосредоточить внимание на массовой виктимности и причинах ее возникновения, выделив, на наш взгляд, важный аспект «принудительной виктимизации», понимаемой автором как следствие деятельности различных субъектов, в результате которой граждане приобретают виктимные качества независимо от своего желания.
Постановка проблемы
Основную массу преступлений в России сегодня составляют преступления, которые были бы невозможны без наличия виктим-ных жертв: легкомысленных и доверчивых пожилых граждан, поддающихся на уловки «телефонных мошенников», бедных и нищих, не могущих обеспечить себя надежными средствами безопасности, включая благоустроенное жилье с домофоном, вынужденных проживать в окружении алкоголиков, соглашаться на работу в сомнительных учреждениях и т. д. и т. п.
Не требует сегодня дополнительных доказательств вывод, что снизить и даже ликвидировать преступность как массовое явление можно двумя путями: «ликвидировать» преступников —тех, у кого возникают мотивы совершения преступлений в силу объективных или субъективных причин и ликвидировать благоприятствующие условия для совершения преступлений, к числу которых относится наличие виктимных категорий населения.
На сегодняшний день в России при двух миллионах регистрируемых преступлений в 3–5 раз больше не попадает в регистрацию, образуя огромный массив не наказанных преступников, сохраняющих мотивацию, приобретающих криминальный опыт, организованность и т. д.
И если, с другой стороны, будут сохраняться миллионы потенциальных жертв, в итоге мы получим миллионы преступлений, что и фиксирует статистика последние 20 лет.
Важной проблемой в этой ситуации, на наш взгляд, является снижение массовой виктимности как составного элемента системы противодействия преступности в целом. При этом, если виктимологиче-ская профилактика целенаправленно ведет к снижению виктимности, то определенные действия или бездействие законодателей, предпринимателей, должностных лиц различного уровня, наоборот, ведут к росту числа «носителей виктимности» — потенциальных жертв преступных посягательств.
В этой связи, из всего многообразия видов виктимности мы считаем наиболее важным выделить массовую виктимность, приобретаемую помимо воли будущей жертвы, применив к ней определение «принудительной виктимизации» [2]. Если, например, человек сначала становится пьяным, а затем жертвой ограбления, то он, в принципе, мог это предполагать и принять упреждающие меры защиты, например, не пойти пешком, а уехать на такси. Когда же, например, в силу «интересов бизнеса», неожиданно резко повышаются цены, и целым социальным группам реально в итоге не хватает на жизнь — они этого не ожидали, не были готовы к такому развитию событий и массово переходят в категорию социально-незащищенного слоя общества с перспективой стать преступниками или их жертвами. Аналогичным образом можно рассматривать ситуации, когда законодатели принимают решения, оставляющие потенциальных жертв без необходимой защиты, оставляя, так сказать, «один на один» с преступниками.
Описание и результаты исследования
Исследование научной литературы и материалов практики, сообщений средств массовой информации приводят к выводу, что сегодня в России существует большая группа населения, имеющая реальные перспективы стать жертвами преступных посягательств в силу длительного существования т. н. «виктимогенных ситуаций», в условиях которых велика вероятность стать жертвой преступления.
Обращает на себя внимание, что сегодня практически не решен и даже, можно сказать, не ставится вопрос о кардинальном улучшении ситуации, предполагавшей бы установление ответственности законодателей и должностных лиц за массовую виктимизацию населения, оценку данных процессов и принятие соответствующих мер противодействия.
Например, не решается положительно вопрос относительно предлагаемого криминологами введения процедуры обязательной криминологической экспертизы проектов нормативных актов, показывавшей бы влияние принимаемых решений на изменения состояния преступности. Как следствие, никто и не отвечает в итоге за негативные последствия таких решений.
В качестве иллюстрации можно привести ситуацию с Законопроектом «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» — под различными предлогами он был в очередной раз отклонен — и кто ответит за тех пострадавших, в частности, детей, о которых ежегодно говорится в докладе Уполномоченного по правам ребенка при Президенте? В предыдущем докладе было сказано: «вызывает тревогу рост на 28,9 % количества предварительно расследованных тяжких преступлений, совершённых членом семьи в отношении несовершеннолетнего, с 454 в 2017 году до 585 в 2019 году…
Особую обеспокоенность вызывает рост на 9,4 % количества предварительно расследованных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, с 13 487 в 2017 году до 14 755 в 2019 году…»1.
Давайте посмотрим, что будет в следующем Докладе — и кто за это ответит? Кто не хочет внедрения «скандинавского опыта», когда после обнаружения «синяка» у ребенка он передается сразу же в нормальную семью?
Почему надо под различными предлогами противиться принятию закона и дожидаться очередной трагедии, аналогичной ситуации в Кировской области, когда 11-летний мальчик, систематически подвергавшийся насилию, ночью зарубил топором отчима-алкоголика? При этом семья долгое время состояла на всех видах профилактических учетов2.
Думаю, в общем виде понятно, что те законодатели, которые принимают или не принимают соответствующие решения, в итоге переводят или оставляют граждан в категории повышенного риска стать жертвой.
Сюда же можно отнести упорное нежелание законодателей вернуть в России смертную казнь, ссылаясь на что угодно, только не на результаты криминологической экспертизы. Сегодня смертная казнь применяется в 56 странах [1, с. 337], включая США, Китай и Японию, где преступность, прежде всего насильственная и коррупционная, в последние годы имеет ярко выраженные тенденции к снижению. Почему же мы не хотим быть в числе этих стран, увеличивая число жертв педофилов, убийц, коррупционеров и других особо опасных преступников?
Еще один пример подобной ситуации — современные положения УК и УИК РФ относительно исправления осужденных и оснований их освобождения из мест лишения свободы. Сегодня цель в УИК сформулирована как «исправление» — процесс без оценки результата, а не «исправить». В итоге даже самый злостный нарушитель режима выйдет на свободу день в день и, как показывает практика, большинство рецидива приходится на первый год после освобождения. Т. е. появляются всё новые и новые жертвы от тех же преступников.
Как известно, в ряде стран не исправившихся в местах лишения свободы преступников комиссия может своим решением оставить за решеткой еще на год, потом еще на год и т. д.— в интересах возможных жертв. Понятно, что ни административный надзор, ни уведомление потерпевшего об освобождении бывшего убийцы не убережет граждан от таких преступников.
Еще один аспект «принудительной виктимизации», на наш взгляд, связан со складывающейся ситуацией в отношении бедности российских граждан. Сегодня по статистике около 70 % выявленных преступников — лица без постоянного источника дохода, 20 млн проживают за чертой бедности, число безработных увеличилось на миллионы. Очевидно, что без кардинального изменения ситуации в экономической сфере эти люди или совершат преступления, или станут их жертвами. Но именно в этих условиях конкретные должностные лица или представители бизнеса повышают тарифы на ЖКХ, цены на продукты первой необходимости, вносят предложения об отмене льготной ипотеки и т. д.
При этом мы вообще ничего не слышим об этих лицах и их оценках как поступающих «не патриотично». В СМИ опять появилась публикация, что в условиях ухудшения жизни миллионов россиян «самый дорогой дом в США приобрел рос-сиянин»1, как незадолго до этого сообщалось, что самую дорогую яхту в мире опять же построили для россиянина… Президент сказал, что бизнес бы должен быть социально ответственным2, но ведь должны бы быть и конкретные меры ответственности за «отсутствие ответственности».
На наш взгляд, при формировании перечня очередных поправок в Конституцию было бы целесообразно указать в качестве «высшей ценности» «процветание России и рост благосостояния всего народа», а «патриотизм — деятельность по достижению данных целей». Тогда к бизнесменам— эгоистам и иным лицам можно было бы обоснованно предъявить претензии в том, что вывод миллиардов за границу вместо повышения зарплат работающим и создания новых рабочих мест противоречит Конституции РФ и ведет к росту преступности. Как сказал Президент РФ, «если вы работаете в России, здесь зарабатываете деньги, то нужно подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях, нужно подумать о будущих рабочих местах, о социальной сфере, об инфраструктуре. Надо вообще посмотреть на процессы подобного рода»3.
В аспекте массовой виктимологической профилактики также можно бы было надеяться и на принятие отвергнутого проекта ФЗ «О тунеядцах», в соответствии с которым появилось бы основание пресекать безбедное проживание на криминальные доходы профессиональных и организованных преступников, что в итоге вывело бы массы граждан из категории возможных жертв их преступной деятельности. Аналогичным образом можно бы оценить и длительное «торможение» принятия федеральный закон «О противодействии организованной преступности».
Рассмотренные и иные подобные примеры как следствие принятия или непринятия реальных решений, влияющих на латентную преступность или повышающих виктимность значительных масс населения, на наш взгляд, требуют дополнительного исследования и могут рассматриваться как реальный резерв оздоровления ситуации в российском обществе.
Заключение
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что сегодня на различных уровнях принимаются или не принимаются решения, существенно снижающие эффективность борьбы с преступностью и переводящие значительную массу граждан в категорию потенциальных жертв преступных посягательств, что целесообразно обозначить термином «принудительная виктимизация». Такая деятельность с указанными последствиями, в свою очередь, требует установления соответствующей ответственности для субъектов массовой виктимизации и разработки адекватных мер виктимологической профилактики.
Список литературы Еще раз к вопросу о «принудительной виктимизации населения»
- Гилинский, Я. И. К вопросу об эффективности наказания / Я. И. Гилинский // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XVIII Международной научно-практической конференции (Москва, 21-22 января 2021 г.).-Москва: РГ-Пресс, 2021.-776 с.
- Фещенко, П. Н. Криминологический и уголовно-правовой взгляд на проблему "принудительной виктимизации" населения и отдельных граждан / П. Н. Фещенко // Крминологический взгляд на российскую преступность: монография.- Филиал НОУ ВПО "СПбИВЭСЭП" в г. Кирове, 2011.-С. 112-119.