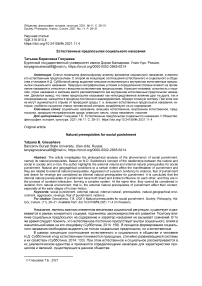Естественные предпосылки социального наказания
Автор: Татьяна Борисовна Гнеушева
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена философскому анализу феномена социального наказания, а именно его естественным предпосылкам. С опорой на концепцию соотношения естественного и социального в обществе и человеке Н.Д. Субботиной автор выделяет внешние естественные и внутренние естественные предпосылки социального наказания. Природно-географические условия в определенной степени влияют на проявление наказания и относятся к внешним естественным предпосылкам. Агрессия человека, склонность к насилию, страх наказания и желание мести рассматриваются как внутренние естественные предпосылки наказания. Делается вывод, что такие предпосылки оказывают как непосредственное влияние друг на друга, так и опосредованное, находятся в процессе постоянного взаимодействия, образуя сложную систему. При этом они не могут оцениваться в отрыве от природной среды, т. е. внешних естественных предпосылок наказания, которые, особенно на ранних этапах человеческой истории, воздействуют на их содержание
Социальное наказание, внешнее естественное, внутреннее естественное, предпосылки, природно-географическая среда, агрессия, месть, страх наказания, насилие
Короткий адрес: https://sciup.org/149136603
IDR: 149136603 | УДК: 316.613.4 | DOI: 10.24158/fik.2021.11.4
Текст научной статьи Естественные предпосылки социального наказания
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Улан-Удэ, Россия, ,
,
Наказание, являясь важным элементом механизма социальной регуляции, существует и развивается в рамках конкретного социума, подчиняясь закономерностям его развития. Поэтому влияние социальных предпосылок на содержание и характер наказания не вызывает сомнений. В то же время следует помнить, что естественное постоянно присутствует внутри социального, влияя в значительной мере на его специфику (Субботина, 2014: 156). В процессе формирования социального наказания необходимо выделять не только социальные предпосылки, но и естественные.
В рамках концепции соотношения естественного и социального в обществе и человеке Н.Д. Субботиной «под естественным понимаются природные, стихийно развивающиеся системы и их свойства» (Субботина, 2014: 133). При этом естественное и социальное рассматриваются в их диалектическом единстве и признаются определяющими началами для характеристики процессов и явлений, существующих в данном обществе.
Изучая вопрос о естественных предпосылках наказания, следует исходить из того, что в структуре естественного в качестве элементов выделяются внешнее естественное и внутреннее естественное. К первому относятся факторы окружающей среды, которые смогли избежать влияния человеческой деятельности. Ко второму можно отнести человеческий организм, особенности его физического и психического развития, присущие человеку от рождения потребности, закономерности естественно-групповых отношений, особенности, обусловленные делением людей по половому и возрастному признакам, природные объекты, используемые человеком в процессе деятельности, вовлеченные тем самым в сферу социального, но сохранившие и изначальные природные черты (Субботина, 2014: 150).
К внешним естественным предпосылкам социального наказания мы можем отнести природно-географические аспекты. Неблагоприятные природные условия, ограниченность природных ресурсов, дефицит пищи могут влиять на морально-психологические черты человека и, как следствие, на наказание. Так, у индейцев Великих равнин жестокое наказание ожидало нарушителей правил коллективной охоты на бизонов, поскольку один неверный шаг мог вспугнуть стадо и создать продовольственную проблему всему племени. На период подготовки и проведения подобной охоты индивидуальные устремления подчинялись общим интересам. Изобличенного браконьера-одиночку лишали добычи, избивали, ломали его оружие и разрушали жилище. В случае сопротивления его убивали на месте (Шепталин, 2019: 180).
С.В. Смирнов отмечает, что к качествам русского человека, сформированным под воздействием природных условий, относится жестокость1. Как правило, она не связана со стремлением индивида к получению материальной выгоды, а обусловлена необходимостью борьбы за существование в условиях сильной ограниченности пищевых ресурсов либо возможностей их добывать. Так, например, аграрный уклад жизни отразился на отношении русского человека к домашней скотине. В качестве одного из наиболее серьезных преступлений при этом считалась кража скота, в особенности лошади. Ведь ее потеря грозила разорением всего хозяйства, голодом и нищетой для крестьянской семьи. Поэтому пойманного при попытке украсть лошадь порой не просто убивали, но и подвергали жестоким истязаниям, чтобы страх перед подобной участью отвадил других воров.
Несмотря на то что связь между неблагоприятными климатическими условиями и жестокостью наказаний имеет место, считаем, что это лишь одна из множества предпосылок, действующих опосредованно. Помимо этого, существуют другие естественные предпосылки, влияющие на наказание. Так, к внутренним естественным предпосылкам наказания, которые обладают немаловажным значением, относятся агрессия и склонность к насилию.
Потребность человека в агрессии можно наблюдать уже на первобытной стадии развития общества (Субботина, 2010). Члены племени, преступившие табу (запреты), подвергались наказанию, порой жестокому. Следует отметить, что лица, осуществляющие наказание, во многом реализуют в своем поведении ту же потребность в агрессии и насилии, что и нарушители, однако опираются при этом на поддержку социума: «В этом состоит одно из основных положений человеческого уложения о наказаниях, и оно исходит из предположения, безусловно верного, что сходные запрещенные душевные движения имеются как у преступника, так и у мстящего общества» (Фрейд, 1988: 401).
Генезис института наказания напрямую обусловлен формированием институтов насилия и принуждения. Х.Д. Аликперов в работе «Неизведанные грани наказания и тайны его бытия» отмечает, что наказание не является средством реализации уголовно-правового принуждения, а лишь отражает эманацию насилия, служит формой его легализации» (2020: 46). Следует согласиться с тем, что термин «наказание» нельзя рассматривать изолированно от понятия «насилие», так как первый служит лишь внешней оболочкой, футляром второго. В естественной среде агрессивность и насилие выступают одним из законов природы, где в подавляющем большинстве случаев без них живому организму невозможно выжить. Так, известный этолог К. Лоренц рассматривал агрессию как филогенетически сложившуюся, генетически закрепленную инстинктивную программу поведения, выполняющую видосохраняющую функцию (Горохов, 2020: 149). По его мнению, «более чем вероятно, что пагубные проявления человеческого агрессивного инстинкта… основаны просто на том, что внутривидовой отбор в далекой древности снабдил человека определенной мерой агрессивности, для которой он не находит адекватного выхода при современной организации общества» (Лоренц, 1992: 27). Действительно, трудно представить себе человеческое общество без насилия, именно поэтому в ряде случаев общественное сознание допускает ситуации его оправданного применения.
К числу внутренних естественных реакций человека на наказание можно отнести такое эмоциональное состояние, как страх. Это чувствo имеет глубокие биологические корни, объединяет всех живых существ – как людей, так и животных. Польский психолог А. Кемпински, изучавший природу страха и его причины, выработал свой подход к классификации этого чувства. Он выделил следующие разновидности страха: биологический, социальный, моральный, дезинтеграционный (2001: 230). Особый интерес представляет социальный страх, возникающий в результате разобщения между индивидом и его ближайшим окружением (страх перед наказанием со стороны родителей, учителей, государства).
Страх перед наказанием можно рассматривать как чувственную составляющую стресса, вызванного угрозой лишений, страданий и т. п. Он является результатом нарушения индивидом установленных в определенном социуме правил. При этом нарушитель должен понимать, что его действия (или бездействие) повлекут негативную реакцию со стороны общества. Ожидание такой реакции (наказания) порождает страх, который имеет и физиологические проявления (учащенное сердцебиение, дрожь, прерывистое дыхание и т. д.).
Предупредительная составляющая наказания играет важную роль в обеспечении должного поведения со стороны членов социальной группы. Потому они должны осознавать сам факт наказуемости тех или иных поступков, что с точки зрения психологического воздействия на поведение выступает противовесом антисоциальной деятельности. Строгость наказания, непосредственно апеллирующая к чувству страха, имеет особое значение. При выработке мер ответственности и закреплении их в соответствующих законодательных актах государство не может этого не учитывать. Однако следует помнить, что «страх в малых дозах стимулирует, в больших – парализует» (Шевелев, 1997), поэтому использование чувства страха перед наказанием не должно выходить за определенные границы, иначе это приведет лишь к негативным последствиям.
К числу внутренних естественных предпосылок наказания следует отнести желание мести. Сенека считал, что месть приводит к высвобождению почти дикой силы. Желание мести находится, по его мнению, между социальным (свойственным человеческому роду) и животным (диким состоянием)1. Ученые, занимающиеся вопросами мести, в том числе кровной, отмечают, что сама природа человека содержит врожденные модели поведения (инстинкты), дошедшие до нас из древности. Они находятся под прессом социальных условностей, но окончательно избавиться от этого биопсихического заряда человек не способен. Это генетическое наследие сопровождает жизнь каждого и оказывает существенное влияние на его поведение.
В научной литературе значительное внимание уделяется кровной мести. Большинство исследователей сходится в том, что она выступала древнейшим проявлением идеи наказания. В общем виде она предполагает, что за зло, причиненное кому-либо тем или другим действием, должно непременно также воздаваться злом, что за всякой обидой должно следовать возмездие, отмщение. Это и есть талион. Если обида кровная, как, например, убийство, то месть также сопровождается кровным воздаянием (кровь за кровь). Такое воздаяние приобретает характер не просто мести, а нравственной обязанности (долга), освещенной многолетней традицией. В реализации своего права на месть человек осознает себя как личность, обладающую ценностью (достоинством, честью). Действия обидчика посягают на эту ценность, самовосприятие человека, и только через месть возможно восстановление своего статуса как в собственных глазах, так и в глазах общества. Тем самым потребность в мести неразрывно связана с внутренним чувством справедливости, желанием восстановить нарушенный «обидой» баланс.
Можно сказать, что кровная месть представляет собой древнейшую форму социальной защиты, которая была широкой распространена в общественной практике родоплеменного и следующего за ним раннегосударственного строя. Сама возможность (и одновременно необходимость) мести была связана с важнейшей общественной потребностью обеспечить защиту людей от внешней агрессии, в том числе представителей других социальных групп. Поэтому неверным будет вывод об изначально безнравственном характере кровной мести. Для своего времени она выступала необходимостью и соответствовала уровню нравственного развития того периода, являясь важным средством защиты первобытного социума, не выработавшего более совершенных способов обеспечения собственной безопасности.
Итак, внутренние естественные предпосылки наказания оказывают как непосредственное, так и опосредованное влияние друг на друга, находятся в процессе постоянного взаимодействия, формируя сложную систему. При этом они не могут рассматриваться в отрыве от природной среды, т. е. внешних естественных предпосылок наказания, которые воздействуют на их содержание, особенно на ранних этапах человеческой истории. По мере материально-технического развития общества роль природно-географических условий постепенно снижается, становится менее явной, главным образом в так называемых развитых странах, способных компенсировать часть негативного воздействия среды. Однако влияние внешних и особенно внутренних естественных предпосылок на социальное наказание сохраняется всегда и носит порой определяющий характер.
Воздействие естественных предпосылок (как внешних, так и внутренних) на феномен наказания позволяет лучше понять его природу, сущность, роль в обеспечении безопасности общества. Анализ этих предпосылок имеет не только теоретическую значимость, но и практическую, может непосредственно влиять на правовую политику государства в области наказания. Так, признание за наказанием функции устрашения как важного фактора предупреждения новых преступлений напрямую опирается на учет роли страха перед физическим и нравственным страданием в качестве внутренней естественной предпосылки наказания. Устрашением наказание фактически противостоит тем качествам, потребностям, желаниям, которые толкают человека на нарушение установленного порядка, предупреждая его о грядущих негативных последствиях. В то же время сознание наказуемости проступка удовлетворяет потребности пострадавшей стороны (социальной группы или отдельной личности) в восстановлении нарушенного порядка вещей и баланса интересов, снимая вопрос о частной мести. Признание того факта, что и само наказание является формой узаконенного насилия, пусть и оправданного интересами общества, приводит к выводу о необходимости жесткого контроля над системой исполнения наказания, чтобы предотвратить ее перерождение в инструмент удовлетворения человеческой потребности в агрессии. Тем самым анализ естественных предпосылок наказания (в особенности внутренних, непосредственно связанных с психическими процессами) выступает важным условием совершенствования системы противодействия противоправному поведению, фактором развития всей пенитенциарной системы.
Список литературы Естественные предпосылки социального наказания
- Аликперов Х.Д. Неизведанные грани наказания и тайны его бытия. СПб., 2020. 105 c.
- Горохов С.А. Феномен агрессии в понимании К. Лоренца и З. Фрейда: сравнительный анализ // Социально-гумани-тарные знания. 2020. № 4. С. 147–151. https://doi.org/10.34823/SGZ.2020.4.51406.
- Кемпински А. Страх // Психические состояния / сост. и общ. ред. Л.В. Куликова. СПб., 2001. С. 229–236.
- Лоренц К. Агрессия (так называемое зло) / пер. с нем. Г.Ф. Швейника // Вопросы философии. 1992. № 3. С. 5–38.
- Субботина Н.Д. Социальная эволюция и поведение человека: диалектика естественного и социального, сохранения и развития. М., 2014. 424 с.
- Суботина Н.Д. Естественные и социальные составляющие агрессии // Гуманитарный вектор. 2010. № 4 (24). С. 88–99.
- Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному; Страх; Тотем и табу : сб. / пер. с нем. Я.М. Когана, М.В. Вульфа. Минск, 1988. 496 с.
- Шевелев И.Н. Афоризмы, мысли, эмоции. М., 1997. 381 с.
- Шепталин А.А. Генезис и эволюция института наказания в первобытном обществе // Человек: преступление и нака-зание. 2019. Т. 27, № 2. С. 169–189. https://doi.org/10.33463/1999-9917.2019.27(1-4).2.169-189.