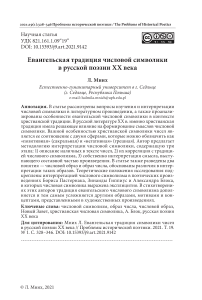Евангельская традиция числовой символики в русской поэзии ХХ века
Автор: Мних Людмила
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены вопросы изучения и интерпретации числовой символики в литературном произведении, а также проанализированы особенности евангельской числовой символики в контексте христианской традиции. В русской литературе ХХ в. именно христианская традиция имела решающее влияние на формирование смыслов числовой символики. Важной особенностью христианской символики чисел является ее соотношение с двумя сферами, которые можно обозначить как «позитивная» (сакральная) и «негативная» (грешная). Автор предлагает методологию интерпретации числовой символики, содержащую три этапа: 1) описание наличных в тексте чисел, 2) их корреляция с традицией числового символизма, 3) собственно интерпретация смысла, выступающего составной частью произведения. В статье также разведены два понятия - числовой образ и образ числа, обоснованы различия в интерпретации таких образов. Теоретические положения исследования подкреплены интерпретацией числового символизма в поэтических произведениях Бориса Пастернака, Зинаиды Гиппиус и Александра Блока, в которых числовая символика выражена эксплицитно. В стихотворениях этих авторов традиция евангельского числового символизма дополняется и тем самым усложняется другими образами, мотивами и концептами, представленными в художественных произведениях.
Числовой символизм, образ числа, числовой образ, новый завет, христианская числовая символика, а. блок, русская поэзия хх века
Короткий адрес: https://sciup.org/147227238
IDR: 147227238 | УДК: 821.161.1.09“19” | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9142
Текст научной статьи Евангельская традиция числовой символики в русской поэзии ХХ века
Ч исла являются универсальными концептами, определяющими наше понимание окружающего мира и произведений искусства. Числовой символизм широко представлен в литературных текстах, и поэтому он постоянно привлекает внимание исследователей. С анализом символики чисел связана интерпретация не только фольклорных и литературных текстов, но и памятников архитектуры, произведений живописи и музыки. Числа были предметом глубокого философского анализа как российских [Лосев] [Флоренский], так и зарубежных мыслителей [Кассирер]. Проблемы числового символизма интересовали также и российских литературоведов, исследовавших, например, роль символических чисел в древнерусской литературе в контексте христианской средневековой литературы [Кириллин] или символику чисел в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» [Ветловская, 1971].
В идейно-художественной структуре литературного произведения числа на разных уровнях и в разных аспектах встречаются довольно часто [Mnich]. Обобщая возможные случаи репрезентации числа в целостности художественного произведения, можно сделать вывод о том, что числовая символика может быть представлена в художественном произведении в трех аспектах:
-
1) аспект композиции художественного произведения (архитектоника художественного текста) — наиболее очевидный пример того, как за числовой символикой кроется идейноэстетическое значение структуры и замысла произведения; количество, порядок и взаимоотношение частей текста в этом случае соотносимы с символикой определенных чисел;
-
2) аспект пространственно-временной организации мира художественного произведения, который часто связан с мифопоэтической традицией числовой символики, отображающей архаические представления о пространстве и времени; числовые константы в этом случае являются характеристиками пространства и времени, а поскольку и пространство, и время — понятия мерные, то данный аспект изучения числовой символики наиболее существенно отображает связь между миром, в котором мы живем, и миром художественного произведения;
-
3) аспект художественного образа, который представляет случаи, когда то или иное число выступает «персонажем» поэтического произведения.
Отметим, что именно третий аспект чаще всего становится предметом интерпретации в литературоведческих работах.
При исследовании числового символизма в литературном произведении в аспекте художественного образа, имеет смысл различать два принципиально разные понятия — «числовой образ» и «образ числа». В первом случае число в литературном произведении функционирует в ситуации обязательной атрибутивной связи с конкретным художественным образом: «три дороги», «семь колоколен», «четыре стороны света» и тому подобные образы. Символика здесь двусторонняя, и она в равной мере зависит как от числа, так и от собственно художественного образа как определенного символа. Поэтому интерпретация символики числового образа усложнена, числовой символизм дополняется образным.
От такого «числового образа» принципиально отличается «образ числа» в художественном произведении, репрезентирующий число как таковое, сам феномен числа. Такая ситуация представлена, например, в стихотворении Иннокентия Анненского, посвященном символу бесконечности («перевернутой» восьмерке). Примеры «воспевания чисел» можно встретить и в поэзии Зинаиды Гиппиус. Назовем только наиболее яркие примеры образов чисел в лирике Гиппиус: стихотворение «13» («Тринадцать, темное число! ‥ »), которое, как следует из названия, посвящено символике числа тринадцать, стихотворение «Цифры», а также «Негласные рифмы». Стоит вспомнить в этом контексте известное стихотворение Валерия Брюсова «Числа», а также стихотворение Константина Бальмонта «Змеиное число», которое представляет поэтическое осмысление числа восемь. Все названные произведения, как правило, посвящены общекультурной семантике и символике отдельных чисел или же числу как таковому и представляют преимущественно античную традицию числовой символики. Числа в таких случаях в литературном тексте представлены как некие концепты, без соотношения с конкретными предметными образами.
В методологическом плане разграничение понятий «числовой образ» и «образ числа» имеет принципиальное значение, ибо позволяет говорить об определенной культурной традиции (или традициях) при интерпретации числового символизма в художественном произведении. Образ числа, как было отмечено выше, соотносится преимущественно с античной традицией, тогда как числовые образы могут сочетать в себе символику разных традиций. Как известно, символика чисел в культурных традициях может совпадать, но соотношение числа с наличной в литературном произведении системой образов позволяет определить культурную традицию (или традиции), в рамках которых возможна адекватная интерпретация числового символизма в литературном произведении. Так, например, образ «три брата» будет указывать на фольклорную традицию, в то время как числовой образ «три дня» (или «три ночи») может свидетельствовать как о фольклорной, так и о христианской традиции числового символизма.
Возвращаясь непосредственно к заявленной в статье проблеме, отметим, что евангельская числовая символика является частью двух более широких понятий — библейской числовой символики и числовой символики Нового Завета. Изучение числовой символики Нового Завета, а также исследование влияния новозаветного числового символизма на европейскую литературу и культуру имеют длительную традицию и связаны с разными аспектами интерпретации художественного произведения. Числовая символика Нового Завета стала основой для формирования и развития христианского числового символизма, который с опорой на тексты Нового Завета разрабатывался отцами Церкви (патристикой) и христианскими философами. Подчеркнем также, что некоторые произведения русской литературы изучены достаточно скрупулезно в плане христианской традиции числового символизма, например, романы Ф. М. Достоевского [Вет-ловская, 2007: 239–269], [Белов: 70, 96–97]. Сложнее обстоит дело с авторами, которые ориентировались на разные традиции (в том числе античную, иудейскую), как, например, Борис Пастернак.
В методологическом плане последовательность интерпретации числового символизма в литературном произведении предусматривает три этапа: 1) описание наличных в тексте или «заявленных» в архитектонике текста и художественном мире литературного произведения чисел; 2) соотношение этих чисел с определенной культурной традицией (или традициями);
-
3) интерпретация смысла и символики чисел с опорой на символику конкретной традиции или традиций. В случае европейской культуры мы можем говорить о наличии четырех магистральных традиций числового символизма: христианской, античной, иудейской или фольклорной (ее часто называют языческой). При этом первые три традиции отражены в соответствующих классических текстах, а фольклорная традиция представляет семантику определенной мифологической системы. Для культур европейского региона основные символические значения чисел формировались в границах индоевропейской мифологии, реконструированной в исследованиях Т. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова [Гамкрелидзе, Иванов]. Но мы можем говорить и о некоторых особенностях числового символизма, сформировавшихся позже и характерных, например, для славянской или германской мифологии.
В связи со сказанным отметим также, что, хотя во многих традициях символическая роль чисел первого десятка часто совпадает, числа в литературном произведении приобретают разную семантику, которая зависит от ориентации автора на конкретный текст культуры. В этом смысле число четыре, например, может иметь апокалиптическую традицию (быть символом конца света), а может символизировать воскресение из мертвых и Благую весть: в первом случае мы будем иметь дело с традицией Откровения Иоанна Богослова (знаменитые четыре всадника из шестой главы), а во втором с традицией Евангелия (четыре канонические Евангелия).
Однако сложность приведенной ситуации состоит и в том, что обе традиции (апокалиптическая и евангельская) представляют вместе новозаветную традицию числового символизма, которая в свою очередь является только частью более широкой библейской традиции. В Ветхом Завете число четыре символизирует прежде всего четыре реки Эдема (Быт. 2:10– 14), и в таком контексте семантика этого числа связана с идеей утраченного рая. Таким образом, библейская числовая символика может рассматриваться в трех разных контекстах: ветхозаветном, новозаветном и евангельском (последний будет только частью новозаветного). Приведенный нами пример числа четыре в этих контекстах будет символизировать три разные концепта: утерянный рай, апокалипсис и воскрешение из мертвых. Стоит также помнить, что все вышеназванные контексты числовой символики соотносятся с христианской традицией.
В связи со сказанным нужно специально подчеркнуть, что в европейском искусстве в целом, а в русской литературе в частности именно христианская традиция имела решающее влияние на формирование смыслов числовой символики. Эта традиция создавалась под воздействием как иудейских, так и античных источников (прежде всего учения неоплатоников) и стала составной европейской культуры как культуры христианской. После принятия христианства представляющая ее числовая символика в европейском искусстве последовательно вытесняет символику дохристианских верований (мифологическую, связанную с языческими верованиями), частично адаптируя ее. Стоит также отметить, что языческие традиции числового символизма иногда функционируют в литературных текстах (особенно в эпоху романтизма и модернизма) и свидетельствуют об ориентации автора на фольклор или национальную мифологию, но чаще всего христианская и языческая традиции налагаются одна на другую, прокладывая путь для синтеза в поэтическом символе.
В своем смысловом и образном содержании христианская числовая символика ориентирована в основном на текст Библии, а в более поздней традиции — на сочинения отцов Церкви. При этом нужно учитывать, что ветхозаветная символика чисел воспринимается в христианской традиции преимущественно сквозь призму числовой символики Нового Завета. Отсюда становится понятной принципиальная разница ветхозаветной иудейской и ветхозаветной христианской числовой символики: последняя невозможна без новозаветного контекста. Заметим также, что основоположные для христианской культуры теолого-философские аспекты символики чисел в христианском вероучении разработал Августин Блаженный [Бычков].
При изучении и интерпретации символики чисел в русле христианской традиции важно помнить, что одно и то же число в рамках данной традиции может выражать противоположные символические смыслы, быть семантически амбивалентным. Так, например, число два может символизировать священное единство (два Завета, две ипостаси Иисуса Христа), но может быть также символом двух полярных или несовместимых вещей (свет и тьма, добро и зло, праведник и грешник, жизнь и смерть, ад и рай). Таким образом, интерпретация числовой символики, ориентированной на традиции христианской эстетики, всегда будет зависеть от конкретного контекста, от мотивов и образов, которые могут «вывести» читателя и исследователя за пределы поэтического текста, указывая на контекст. Добавим также, что в христианской традиции выделяется ряд наиболее важных в символическом плане чисел (три, четыре, шесть, семь, двенадцать), символический смысл которых наиболее полно представлен в Апокалипсисе — итоговой книге Нового Завета. При этом очень важные для христианской традиции числа, прежде всего в их теологическом аспекте, в литературных произведениях представлены в меньшей мере. Таким, например, является необычное для поэзии число один, символизирующее Бога и в этом смысле выступающее очень редко в собственно литературных текстах.
Рецепция христианской числовой символики усложняется наличием большого количества комментариев к Библии вследствие существования разных традиций в самом христианстве. В одних случаях мы наблюдаем непосредственную ориентацию на текст Библии и желание «подстроиться», «приспособиться» к сакральному тексту. Такая тенденция существовала, например, в древнерусской литературе, в математико-астрономическом трактате Кирика Новгородца «Учение о числах». В других случаях текстуальная (библейская) числовая символика дополнялась и переосмысливалась под влиянием новых научных теорий в музыке и архитектуре, и такие тенденции мы наблюдаем, например, в эстетике барокко [Лобанова].
Важной особенностью христианской традиции в символике чисел является соотношение числовой символики с двумя сферами, которые можно обозначить как «позитивная» (сакральная) и «негативная» (грешная). Первая охватывает все, что связано с Богом, святостью, праведностью, добром, в то время как другая связана с дьявольскими силами и их проявлением в жизни людей. Такая «двойственность» по отношению к числовому символизму характерна также для античного гностицизма. Однако, как утверждают исследования (в частности, текстуальный анализ Кумранских свитков), христианская двойственность имеет не античные (гностические) истоки, а иудейские. В этой связи один из самых авторитетных исследователей христианской традиции в русской литературе С. Аверинцев отмечал: «“дуализм” Иоаннова корпуса (т. е. Евангелия от Иоанна и Посланий Иоанна) — эсхатологический подход, резко делящий бытие на “свет” и “тьму”, а человечество на “сынов света” и “возлюбивших тьму”, — постоянно относившийся за счет эллинистического гносиса, обнаружил свое теснейшее сродство с языком кум-ранских текстов» [Аверинцев: 486]. Можно утверждать, что в христианской числовой символике нет смыслов нейтральных по отношению к упомянутым выше двум полюсам, которые выражают христианскую концепцию мира и человека. Важно подчеркнуть, что в данном случае — это не простое деление на профанное и сакральное (что характерно и для других традиций), а концепция, которая выражает принципиальную, обусловленную христианской концепцией мира, борьбу добра и зла за судьбы людей. Христианская числовая символика тем более отличается от мифологической (языческой) семантики чисел, «нейтральной» в некоторых случаях (например, «четыре» — как четыре стороны света, «три» — как «тройное» устройство мира).
В свете сказанного подчеркнем, что христианская традиция числового символизма представлена не только Новым Заветом, но и текстами христианских философов и богословов, в своем развитии она «вобрала» и трансформировала символические смыслы чисел из других культур (античной и иудейской прежде всего) [Forstner].
Для наглядности представленных теоретических положений обратимся теперь к некоторым примерам из русской поэзии Серебряного века: речь идет о стихотворениях, в которых, с одной стороны, числовая символика выражена эксплицитно, на уровне художественных образов, а с другой — четко прослеживается именно евангельская традиция числового символизма.
Первый яркий пример евангельской традиции числового символизма представлен в стихотворении Б. Пастернака «Нас мало. Нас, может быть, трое…»1. Идейная концепция этого стихотворения зиждется на хрестоматийном евангельском афоризме — «Много званых, мало избранных», который в Библии связан с проповедью Иисусом атрибутов Царства небесного (Мф. 19:16; Лк. 14:24). Таким образом, идейный смысл стихотворения связан с определением троих избранных, которые противопоставляются всем остальным: их мало, только трое, но они «избранные» Богом для спасения, и именно им принадлежит будущее. Самые важные аспекты символики числа три, которые доминируют в общей концепции этого стихотворения следующие:
-
1) число три символизирует тройной союз поэтов и их единство (стихотворение именно о поэтах): трое образуют творческий союз, и в этом случае символика числа как бы проецируется на символику христианской Троицы с ее смыслом «триединства»;
-
2) в контексте евангельского числового символизма и в соединении с поэтическим мотивом «мало» число три репрезентирует идею избранности самого поэта в обществе; текст Б. Пастернака и контекст Евангелия вызывают прямую ассоциацию со словами Моцарта из «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина: «Нас мало избранных, счастливцев праздных, / Пренебрегающих презренной пользой, / Единого прекрасного жрецов»2; вместе с тем контекст Евангелия позволяет говорить о том, что в концепции стихотворения Б. Пастернака союз троих избранных поэтов является достаточным для спасения остальных: три апостола — Петр, Иаков и Иоанн — присутствовали во время Преображения Христа на горе Фавор [Хоппер: 3].
-
3) наконец, число три символизирует сакральность поэтического слова как такового, его таинственность и идейную силу, что выражено в следующих строчках стихотворения: «И — мимо! — Вы поздно поймете» (см.: [Mnich: 109]).
О символической значимости рассмотренной нами первой строки стихотворения Б. Пастернака с образом-мотивом «трое» свидетельствуют также и отклики, аллюзии у А. Ахматовой (стихотворение «Нас четверо») или у А. Вознесенского (стихотворение «Нас много. Нас может быть четверо»). Кстати, в стихотворении А. Вознесенского прослеживается противопоставление символики «мало» — «много»: символика мотива «много» как дьявольского, бесовского выступает в оппозиции к сакральному «мало»:
«Нас много. Нас может быть четверо.
Несемся в машине как черти » (курсив мой. — Л. М .)3.
Другой характерный пример числовой символики, тоже ориентированной на евангельский контекст, представлен в стихотворении З. Гиппиус «Не знаю я, где святость, где порок…». Это стихотворение посвящено Андрею Белому (Борису Бугаеву), а эпиграф из Евангелия от Марка (Мк. 6:5) явно указывает на то, что текст нужно читать в перспективе евангельской традиции (возможно, переосмысленной окружением Д. Мережковского и З. Гиппиус). Сам эпиграф — «…И не мог совершить там никакого чуда…» — отсылает нас к проблеме чуда и веры: это центральная тема стихотворения, которая дополняется числовым образом перекрестка трех дорог:
«Не знаю я, где святость, где порок, И никого я не сужу, не меряю.
Я лишь дрожу пред вечною потерею:
Кем не владеет Бог — владеет Рок.
Ты был на перекрестке трех дорог , —
И ты не стал лицом к Его преддверию… Он удивился твоему неверию
И чуда над тобой свершить не мог » (курсив мой. — Л. М .)4.
Лирический герой этого стихотворения оказывается на перекрестке трех дорог, в ситуации неверия. Для понимания общего смысла текста приведем полностью цитату из Евангелия от Марка, отрывок из которого З. Гиппиус взяла в качестве эпиграфа к стихотворению: «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их» (Мк 6:5–6). Как видим, предпоследний стих произведения почти повторяет слова Евангелия о неверии, и, таким образом, соотношение между эпиграфом и текстом З. Гиппиус выглядит намного сложнее: заявленное в эпиграфе чудо веры «скрывает» в себе имплицитно и проблему неверия, решение которой предлагает текст Евангелия. Сложность числового символизма в этом произведении состоит, однако, в том, что образ перекрестка трех дорог имеет явно фольклорное происхождение (достаточно вспомнить сказки и былины, герой которых оказывается на распутье трех дорог). Образ перекрестка трех дорог в стихотворении З. Гиппиус парадоксальный: ведь перекресток этимологически связан с понятием креста и двух (или четырех, если считать от пункта пересечения), а не трех дорог. Традиционный перекресток можно интерпретировать в ореоле семантики креста (распятия), в то время как три дороги не образуют перекрестка в этимологическом смысле этого слова. Таким образом, явный евангельский контекст этого произведения не соотносим с традиционным числовым символизмом, который в данном случае имеет прежде всего фольклорные корни. При этом евангельский контекст стихотворения не ограничивается эпиграфом, потому что стих «И никого я не сужу, не меряю» сразу же отсылает читателя к очень известному месту из Евангелия от Матфея: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф. 7:1–2). В стихотворении есть еще один числовой образ: Он Один. Как было отмечено выше, один как символ Бога достаточно редко встречается в поэтических текстах. Стихотворение З. Гиппиус представляет именно этот редкий случай. В русле сказанного оно образует сложную художественную целостность, ориентированную на идеи Нового Завета, связанные с проблемами веры и неверия, а также с моральными императивами Евангелия.
В русской поэзии Серебряного века есть примеры и более сложной семантики и символики чисел, ориентированной на евангельскую (и шире — христианскую) традицию. В этих случаях символика числовых образов дополняется и тем самым усложняется другими образами, мотивами и концептами, представленными в художественной целостности произведения. Один из таких примеров представлен в стихотворении А. Блока «О, нет! не расколдуешь сердца ты…», написанном в 1913 г. (первая публикация в 1914 г.). По своей структуре текст представляет монолог лирического героя, обращенный к возлюбленной. Стихотворение рассматривается в блокове-дении как образец лирики поэта периода третьего тома, то есть последняя часть «трилогии вочеловечения». Напомним, что такое определение своего творчества (три тома лирики как «трилогия вочеловечения») предложил сам поэт в известном письме А. Белому от 6 июня 1911 г.5 Важно отметить, что художественная целостность этого стихотворения представляет сложную идейно-символическую структуру, понимание которой ориентировано именно на христианскую числовую символику и ее евангельский контекст.
Числовой символизм в этом стихотворении отражает прежде всего православную христианскую традицию поминок: третий, девятый и сороковой день после смерти. Тема смерти в виде фольклорного мотива заколдованного мертвеца (символического «жениха») заявлена уже в первой строфе произведения:
«О, нет! не расколдуешь сердца ты Ни лестию, ни красотой, ни словом. Я буду для тебя чужим и новым, Все призрак, все мертвец, в лучах мечты»6.
Лирический герой стихотворения, таким образом, предстает в виде заколдованного мертвеца, в чем проявляется давняя фольклорная, а вместе с тем и литературная (романтическая) традиция. Лирическая героиня (символическая «невеста») не в силах расколдовать его сердца (то есть вернуть к жизни), и никакие «традиционные» средства не могут ей в этом помочь: ни сила слова или красоты, ни коварство лести. Перед нами образ заколдованного сердца, при этом само сердце выступает символом жизни: расколдовать сердце — и значит вернуть героя к настоящей жизни. Дальше лирический сюжет стихотворения переносится в область сна, что вполне естественно — сон ассоциируется обычно со смертью.
А упомянутые нами числа (три, девять, сорок) появляются вместе с соответствующими образами смерти и воскресения:
«И ты уйдешь. И некий саван белый
Прижмешь к губам ты, пребывая в снах. Все будет сном: что ты хоронишь тело, Что ты стоишь три ночи в головах.
Упоена красивыми мечтами, Ты укоризны будешь слать судьбе. Украсишь ты нежнейшими цветами Могильный холм, приснившийся тебе.
И тень моя пройдет перед тобою В девятый день , и в день сороковой Неузнанной, красивой, неживою.
Такой ведь ты искала? — Да, такой» (курсив мой. — Л. М. )7.
В приведенных цитатах перед нами два типа числовых образов: в одном случае представлена связь числовой символики с ночью («три ночи»), в двух других отражена связь с символикой дня («девятый день», «день сороковой»). Нужно также отметить, что в первом случае мы сталкиваемся с количественным числительным, а во втором — с порядковыми, что также вносит определенные смыслы в содержание числового образа: по времени три ночи, конечно же, длиннее, чем один день (девятый или сороковой).
Христианская православная традиция четко связывает числовую символику «трех ночей» с воскресением Иисуса на третий день после распятия, поэтому похороны тела, как правило, проводятся на третий день после смерти. Вполне понятно, что строфа, содержащая этот числовой образ, повествует о похоронах. Образ ночи в этом случае принципиально важен: лирическая героиня именно ночью стоит в головах мертвеца, такое ночное бдение свидетельствует о глубине чувств, поскольку христианский ритуал предусматривает, что на ночь с мертвецом остаются самые близкие люди (жена / муж, родители, дети). Дальше лирический сюжет стихотворения переносится во время после захоронения тела: лирическая героиня украшает могилу цветами, а лирический герой является уже только в виде бестелесной тени на девятый и сороковой день после смерти. Архетипическая связь образа тени со светом (без которого тень невозможна) объясняет семантику числового образа дня в этом случае. Одновременно образ тени традиционно связывает сюжет с символикой смерти: тень символизирует царство мертвых. Числа девять и сорок связаны в христианской православной традиции с празднованием поминок по усопшему на девятый и сороковой день после смерти, то есть с числом ангельских чинов (девять) и сорока днями проповеди Спасителя перед вознесением («…которым (апостолам. — Л. М.) и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием». — Деян. 1:3). Стоит также отметить, что числовой символизм представлен в этом стихотворении и в аспекте архитектоники текста: текст состоит из десяти катренов, т. е. сорока стихов.
Однако методологическую сложность интерпретации представляет именно образ третьего дня, который соотносим со словами Иисуса: «…ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (курсив мой. — Л. М .) (Мф. 12:40). В данном случае Иисус отсылает к Ветхому Завету, следовательно, иудейской традиции числового символизма, которая становится христианской только в контексте Нового Завета. Приведенные строки Евангелия позволяет рассматривать судьбу лирического героя А. Блока сквозь призму испытаний пророка Ионы, и этот аспект уже по-новому высвечивает смысл стихотворения и характер лирического героя.
Таким образом, стихотворение А. Блока отражает сложную в плане символики и семантики ситуацию диалога, в котором лирический герой проецирует себя на личность Иисуса (это подтверждает числовой символизм текста) и одновременно связывает свою судьбу с пророком Ионой, а также с другими персонажами европейской культуры. Символике смерти и воскресения подчинены все остальные символы стихотворения (цветовые, звуковые, чувственные), при этом вечная жизнь уготована не самому лирическому герою, но его стихам, чей «тайный жар» способен поддержать жизнь возлюбленной (вспомним здесь и блоковский «жар холодных чисел» из стихотворения «Скифы»).
Отметим специально, что соотношение лирического героя с судьбой Иисуса обозначено в художественной целостности стихотворения парадоксом: Иисус воскресает на третий день к вечной жизни, а лирической герой, наоборот, превращается в тень на пороге вечной смерти: лирическая героиня не в силах расколдовать сердца мертвеца и вернуть его к жизни — «О, нет! не расколдуешь сердца ты». При этом в сложной архитектонике стихотворения А. Блока все рассмотренные нами события первой части стихотворения происходят во сне лирической героини («Все будет сном»), а вторая часть стихотворения повествует о «воскресении» лирической героини — ее пробуждении от сна. Как отмечает И. Ковтунова в статье о роли лексических и семантических повторов в лирике Блока, «та, к которой обращено стихотворение, пробудится дважды: от неземного сна ( Тебя будить от неземного сна ) и от земной любви ( И вдруг — очнешься: пусто; нет огня ). После мучений второго пробуждения ей предстоит получить ответ, который послужит залогом жизни — тайный жар стихов. В ее сознании произойдет переход от образа человека (неживого) к образу поэта (дающего жизнь)» [Ковтунова: 350].
Приведенные примеры, конечно, не исчерпывают интерпретации целостного смысла рассматриваемых произведений, числовые образы являются только частью общей семантики текста. Рассмотренные нами случаи числового символизма свидетельствуют о разнородности и одновременно сложности семантики числа в литературном тексте, где число (числовой образ или образ числа) является всегда частью смысла художественного целого.
Стоит подчеркнуть, что для русской поэзии Серебряного века характерна преимущественно ориентация на христианскую традицию числового символизма, которая преломляется в художественной системе произведения в русле потребностей культурно-исторической эпохи и индивидуального стиля автора. Речь, конечно, не идет о строгом следовании православной традиции (случай А. Блока в этом смысле достаточно сложный), но о ее художественном воплощении, притягивании и отталкивании, поэтическом осмыслении и обыгрывании значений числового символизма в художественном произведения.
Список литературы Евангельская традиция числовой символики в русской поэзии ХХ века
- Аверинцев С. С. Послесловие // Христианство. Энциклопедический словарь: в 3 т. М.: Большая российская энциклопедия, 1995. Т. 3. С. 464-488.
- Белов С. В. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Комментарий. 2-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1984. 240 с.
- Бычков В. Эстетика Аврелия Августина. М.: Искусство, 1984. 264 с.
- Ветловская В. Символика чисел в «Братьях Карамазовых» // Труды отдела древнерусской литературы. Л., 1971. Т. 26: Древнерусская литература и русская культура ХУШ-ХХ вв. С. 139-151.
- Ветловская В. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». СПб.: Пушкинский Дом, 2007. 640 с.
- Гамкрелидзе Т., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы: в 2 т. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984. Т. 2.: Символика чисел и следы архаичного индоевропейского календаря. С. 440-1328.
- Кассирер Э. Философия символических форм. М.; СПб.: Университетская книга, 2002. Т. 2: Мифологическое мышление. 280 с.
- Кириллин В. Символика чисел в литературе Древней Руси (Х1-ХУ1 века). СПб.: Алетея, 2000. 320 с.
- Ковтунова И. Функции композиционных повторов в стихах А. Блока // Художественный текст как динамическая система. Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию В. П. Григорьева / отв. ред. Н. А. Фатеева. М.: Управление технологиями, 2006. С 348-355.
- Лобанова М. Н. Принцип репрезентации в поэтике барокко // Кон-текст-1988. М.: Наука, 1989. С. 208-246.
- Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М.: Мысль, 1994. 920 с.
- Флоренский П. Пифагоровы числа // Флоренский П. Соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. С. 632-646.
- Хоппер В. Ф. Числовая символика средневековья. Тайный смысл и форма выражения / пер. с англ. С. Федорова. М.: Центрполиграф, 2014. 221 с.
- Forstner D. Swiat symboliki chrzescijanskiej. Leksykon. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2001. 544 s.
- Mnich L. «Заметьте число, господа...»: Числовой символизм в русской поэзии ХХ века. Siedlce: Instytut Kultury Regionalnej i Badan Literackich im. Franciszka Karpinskiego, 2016. 196 с. (Сер. «Opuscula Slavica Sedl-censia»; tom IX).