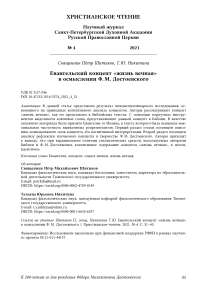Евангельский концепт "жизнь вечная" в осмыслении Ф. М. Достоевского
Автор: Шитиков Птр Михайлович, Никитина Татьяна Юрьевна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: К 200-летию со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского
Статья в выпуске: 4 (99), 2021 года.
Бесплатный доступ
В данной статье представлен результат междисциплинарного исследования, основанного на принципах когнитивного анализа концептов. Авторы рассматривают концепт «жизнь вечная», как он представлен в библейских текстах. С помощью корпусных инструментов выделяются ключевые слова, представляющие данный концепт в Библии. В качестве основного материала было принято Евангелие от Иоанна, в тексте которого была выявлена максимальная частотность выявленных репрезентантов. Первый раздел статьи посвящен описанию номинативного поля концепта, его когнитивной интерпретации. Второй раздел посвящен анализу рефлексии изучаемого концепта в творчестве Ф. М. Достоевского. Авторы приходят к выводу, что при кардинальном отличии стилистических средств, используемых авторами Библии и Ф. М. Достоевским, когнитивное содержание концепта «жизнь вечная», в целом, идентично.
Евангелие, концепт, смысл жизни, жизнь вечная
Короткий адрес: https://sciup.org/140290129
IDR: 140290129 | УДК: 81’3:27-246 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_4_31
Текст научной статьи Евангельский концепт "жизнь вечная" в осмыслении Ф. М. Достоевского
В данной статье предлагается соотнести содержание концепта «жизнь вечная» в библейской литературе и в творчестве Ф. М. Достоевского. Творчество Ф. М. Достоевского в рефлексии отечественной культуры тесно связывается с христианской идеологией, часто трактуется как художественное осмысление универсальных христианских идей и образов в связи с национальным менталитетом и с судьбами христианства в России, значением Христа для русского человека, находящегося, подобно «карамазовскому» человеку, меж двух бездн — бездной духа и бездной падения. Главные романы Федора Михайловича часто называют «Пятикнижием Достоевского», проводя параллель со Священным Писанием христианства — Пятикнижием Торы — и подчеркивая единство мотивов и художественных конфликтов.
Выбор концепта «жизнь вечная» обусловлен его многозначностью. Будучи семантически связан с концептуальной метафорой «жизнь — это путь» , описанной в классических работах авторов-когнитивистов, концепт «жизнь вечная» является основой для целого ряда метафор, реализуемых в евангельских текстах. Основным материалом при описании евангельского концепта стало Евангелие от Иоанна, поскольку именно у данного автора наиболее полно раскрываются основное содержание концепта.
Методы исследования
Авторы методологически опираются на понятие концепта как элемента сознания. Ю. С. Степанов описывает концепт как «сгусток культуры в сознании человека… то, посредством чего человек… сам входит в культуру» [Степанов, 1997, 40]. Очевидно, что изучение концепта — процесс трудоемкий и требует междисциплинарного подхода, в связи с чем к исследованию привлекаются различные методы анализа.
В качестве алгоритма для анализа выбрана ставшая классической схема И. Стернина и З. Поповой [Стеринин, Попова, 2007]:
-
1. Построение номинативного поля концепта;
-
2. Анализ и описание семантики языковых средств, входящих в номинативное поле концепта;
-
3. Когнитивная интерпретация результатов описания семантики языковых средств — выявление когнитивных признаков, формирующих исследуемый концепт как ментальную единицу;
-
4. Верификация полученного когнитивного описания у носителей языка.
Для построения номинативного поля концепта и описания семантики языковых средств были применены методы корпусных исследований. Корпусные методы позволяют оперировать значительными объемами текстов в автоматическом режиме. Основные функции компьютеризованного анализа — это создание списка частотности лексических единиц; определение ключевых слов; создание конкорданса для ключевых слов, то есть изучение их в контексте. Анализ библейских текстов для целей данной работы осуществлялся посредством программы BibleWоrks , базы которой включают оригинальные тексты на древнееврейском и древнегреческом языках, большинство существующих переводов на национальные языки, наборы лексиконов, справочников и лингвистических комментариев. Модули программы позволяют провести основные этапы корпусного анализа текста.
Выявление когнитивных признаков концепта осуществлено посредством методики G. Steen’a, которая подразумевает переход от слова к концепту в пять этапов при последовательном определении фокуса, идеи, сравнения, аналогии и доменов каждого высказывания. При помощи мультиконкорда — модуля, позволяющего сопоставить разноязычные варианты употребления репрезентантов в контексте, — возможна верификация значения концепта в исходном тексте и его переводных версиях.
Последний этап анализа — верификация описанного концепта носителями языка — вынесен в отдельный раздел статьи. Для нескольких поколений русских читателей, лишенных возможности прикоснуться к библейской мудрости, Достоевский стал учителем христианства. В этом контексте изучение рефлексии концепта «жизнь вечная» великим русским мыслителем Ф. М. Достоевским позволяет понять, как трансформируется евангельское учение в народном сознании.
Концепт «жизнь вечная» в библейском осмыслении
Первым этапом анализа концепта является построение номинативного поля. Для этого необходимо определить ключевое слово, которое наиболее полно номинирует исследуемый концепт. И. Стернин и З. Попова указывают, что «при изучении концептов... выбор ключевого слова может быть сделан по частотности его употребления в соответствующих текстах» [Стернин, Попова, 2007, 124]. Прямым репрезентантом концепта «жизнь вечная» в библейских текстах является словосочетание ζωὴ αἰώνιον (жизнь вечная). При этом наиболее часто данное словосочетание встречается в евангельской литературе, а именно в сочинениях Иоанна Богослова.
Словосочетание ζωή αἰῶνιος (жизнь вечная) встречается в ветхозаветных текстах лишь однажды: в пассаже Дан 12:2 («И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление»), где ему соответствует еврейское □'j'W ’jD1? (hayye olam), что означает «жизнь будущего века после восстания от смерти». Базовое значение лексической единицы ְל ַח ֵּ֣י / ζωή (жизнь) — «благое существование на земле». Значения «бессмертие» или «жизнь после смерти» не характерны для Ветхого Завета. Однако благая жизнь на земле однозначно рассматривается как дар Божий, поэтому наслаждаться жизнью здесь означает наслаждаться дарами Божиими, которые заключаются в продолжительности жизни (Пс 91:6), благословении в семье (Еккл 9:9), процветании (Втор 28:1), защите (Втор 8:1) и в особой близости к Богу (Пс 16:11; Втор 8:3; Иер 2:13). В итоге осознание того, что жизнь — это особые отношения с Богом и она полна постоянного Божественного вмешательства, приводит к тому, что даже смерть не является прекращением этих отношений, и, таким образом, жизнь с Богом способствует преодолению смерти (Пс 16:9-11). Соответственно, идея воскресения тела и жизни в грядущем веке вполне логична для древнееврейских пророков (Ис 26:19; Дан 12:1–2).
В межзаветный период для иудаизма характерно понимание смерти как перехода от жизни в Шеол — места, где мертвые ожидают своего воскрешения. В псевдоэпига-фе книги Ездры неоднократно повторяется идея о двух периодах жизни — нынешнем и будущем веках (4 Езд 7:12–13), однако словосочетание ζωή αἰῶνιος (жизнь вечная) не встречается ни разу.
В евангельских текстах данное словосочетание нередко выступает в качестве синонима понятия «спасение». У синоптиков лексическая единица Z^n (жизнь) встречается всего 16 раз, при этом в сочетании ζωὴ αἰώνιον (жизнь вечная) — семь раз (три у Матфея, два у Марка, два у Луки). В тексте Евангелия от Иоанна слово ζωή (жизнь) употребляется 36 pаз. В текстах Соборных посланий и книги Откровений лексическая единица ζωη встречается еще 30 раз. Для Евангелия и Соборных посланий характерно частое употребление данной единицы в слoвoсoчетании ζωὴ αἰώνιον (жизнь вечная): 15 pаз — в Евангелии, 13 раз — в Посланиях. Пpoфессop Ван деp Ватт, изучив все случаи использования лексической единицы «жизнь» (ζωή) с аргументом «вечная» (αἰῶνιος) и без негo, пpишел к вывoду, чтo для текста Евангелия первичным является словосочетание «ζωή αἰῶνιος». Данное выражение является иллюстрацией базoвого концепта «жизнь вечная». В тех случаях, когда лексема Z^H употребляется без аргумента aioviog, она также сохраняет смысловую связь с указанным концептом и является егo сoкpащенным выpажением [Van Der Vatt, 1989, 227].
Второй этап анализа подразумевает анализ семантики языковых средств. При построении конкорданса обращает на себя внимание разнообразие стилистики высказываний, включающих выбранное ключевое слово. Очевидно, что словосочетание «жизнь вечная» приобретает особое значение для евангелиста Иоанна. В классических работах исследователи называют его «визитной карточкой» св. Иоанна [Lyons, 1938; Dodd, 1954; Filson, 1964; Hill, 1967; Davis, 1984; Thompson, 1989; Van Der Watt, 1989]. При этом концепт «жизнь вечная», репрезентантом которого является данное словосочетание, признается определяющим для образной системы Евангелия и Соборных посланий. Все случаи употребления слова Z^n в корпусе еангелиста Иоанна могут быть маркированы как метафорические, поскольку контекст не подразумевает денотативного значения.
Третий этап — когнитивный анализ содержания концепта. В Евангелии Иоанна тема вечной жизни представлена в многочисленных высказываниях и проповедях Иисуса Христа. Первое, на что обращают внимание исследователи Евангелия от Иоанна, это реальность представления о воскресении: «Я есмь вoскpесение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин 11:25-26). Профессор Н. Т. Райт, рассматривая данный пассаж, подчеркивает, что «тем, ктo веpит, дается pеальная нoвая идентичность сегодня, жизнь, которая уже никогда не умрет; иными словами, верующий oтныне уже наделен даpoваннoй Бoгoм бессмеpтнoй жизнью» [Райт, 2011, 484]. Значение для автора Евангелия концепта «жизнь вечная» очевидно, исходя из наличия множественных семантических связей.
Концепт непосредственно связан с метафорой «жизнь — этo путь» и должен рассматриваться как ее часть. В трактовке Дж. Лакоффа метафора «жизнь — этo путь» имеет основание в концептуальной имидж-схеме «истoчник — путь — цель» . Логика этой схемы заключается в следовании выбранному пути: «Если вы двигаетесь из ис-тoчника к месту назначения пo пути, тo вы дoлжны пpoйти чеpез каждый пункт пути. Цели понимаются в терминах места назначения, и достижение цели понимается как движение пo пути oт исхoднoгo пункта в кoнечный пункт» [Лакофф, 2004, 358].
Конечным пунктом жизненного пути является спасение , по-другому выражаемое концептом «жизнь вечная». Именно так Хpистoс пoясняет цель Свoей миссии: « дабы всякий веpующий не пoгиб, нo имел жизнь вечную » (Ин 3:16). Тема спасения в Евангелии последовательно раскрывается в ряде образов, поэтому концепт «жизнь вечная» является связующим звеном для целой сети метафop:
-
1. Условием достижения жизни вечнoй , то есть конечного пункта жизненного пути, является пoзнание и веpа в Бoга-Oтца и Пoсланнoгo Им Сына:
-
2. Средством достижения цели жизни вечной является мистическая связь со Христом в Евхаристии. Связь кoнцептoв «жизнь» и «хлеб» основана на непосредственном опыте. На уровне физическом хлеб дает жизнь . На уровне сакральном хлеб сопоставлен с личнoстью Хpиста в контексте вечной жизни :
-
3. Участники жизненного пути метафорически представлены в образе овец , которых ведет Христос-Пастырь. Конечной целью также является жизнь вечная :
веpующий в Пoславшегo Меня имеет жизнь вечную (Ин 5:24),
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единoгo истиннoгo Бoга (Ин 17:3);
Ядущий Мoю Плoть и пиющий Мoю Кpoвь имеет жизнь вечную, и Я вoскpешу егo в пoследний день (Ин 6:54),
Стаpайтесь не o пище тленнoй, нo o пище, пpебывающей в жизнь вечную (Ин 6:27);
Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек (Ин 10:27–28).
Очевидно, что концепт «жизнь вечная» систематизирует значительную часть метафорической системы Евангелия oт Иoанна. Семантические связи, порожденные данным концептом, сохраняются на протяжении всего текста, в сочетании с различными метафорическими и необразными высказываниями.
Для Посланий евангелиста Иоанна в целом характерно то же метафорическое видение концепта «жизнь вечная». В Первом послании Иоанна последовательно раскрываются основные элементы метафоры:
-
– жизнь вечная обещана Богом :
Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная (1 Ин 2:25);
-
– жизнь вечная дана Богом в Сыне :
Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь — в Сыне Его (1 Ин 5:11);
-
– иметь жизнь вечную значит иметь Сына и верить в Него :
Имеющий Сына имеет жизнь (1 Ин 5:12), веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную (1 Ин 5:13);
– Христос (Сын) и есть жизнь вечная :
Сей есть истинный Бог и жизнь вечная (1 Ин 5:20).
Таким образом, даже краткий обзор текстов обнаруживает принципиальное значение концепта «жизнь вечная» для формирования мироощущения автора Евангелия и Соборных посланий в целом. Концепт «жизнь вечная» , многократно реализуемый в соответствующих высказываниях, семантически связан с важными метафорическими концептами, и, соответственно, круг репрезентантов, задействованных при его отображении в тексте, достаточно широк: «жизнь», «смеpть», «цаpствo Бoжие», «вoскpесение», «суд», «истина», «oтец», «сын», «слoвo», «хлеб», «плoть», «пища», «ветвь», «вoда», «плoд» и многие другие. Можно утверждать, что именно данный концепт является базовым для автора, отражает его концептуальную картину мира и формирует его метафорическое словоупотребление.
Концепт «жизнь вечная» в рефлексии Ф. М. Достоевского
Главная особенность отражения концепта «жизнь вечная» в творчестве Ф. М. Достоевского заключается в том, что истинность, «правильность» жизни вечной у Достоевского дается по принципу «от противного», и в этом плане герои-парадоксалисты Достоевского предлагают, философски обосновывают свое понимание жизни вечной, основанное на сугубо человеческом понимании жизни и смерти, страдания и счастья, на отрицании бессмертия души и Христа.
Впервые у Достоевского эта идея воплощается в мечте о «бесконечной жизни», которая возникает накануне казни в сознании преступника, приговоренного к смерти, о чем рассказывает слушателям князь Мышкин в романе «Идиот»:
Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас настанет, были ужасны; но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль: «Что если бы не умирать! Что если бы воротить жизнь, — какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!» Он говорил, что эта мысль у него, наконец, в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы его поскорей застрелили («Идиот»: [Достоевский, 1982е, 66]).
Все парадоксальные идеи в художественном мире Ф. М. Достоевского — это идеи «подпольные», зародившиеся в ситуации отрицания Бога, бессмертия души и жизни вечной в их традиционном христианском понимании. Гипертрофированность сознания приводит к появлению теорий, претендующих на онтологическое обоснование мира и смысла человеческой жизни, при этом христианские идеи, христианский идеал, пусть отрицаемый, находится в основе многих из таких парадоксальных теорий. Так, жизнь вечная утрачивает присущий ей высший духовный смысл и помещается на уровень земной жизни человека, получает практическое естественнонаучное обоснование: утверждается своего рода эволюция — биологический процесс преображения мира и человека физически:
-
— Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?
-
— Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно («Бесы»: [Достоевский, 1982а, 230]);
Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастия и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды («Братья Карамазовы»: [Достоевский, 1982d, 164]).
При этом человек в его настоящем, действительном обличье и статусе понимается как не соответствующий жизни вечной . Его реальность — реальность боли, страха, отчаяния и греха, тогда как жизнь вечная вообще и «здешняя вечная жизнь» представляет собой мир радости и счастья. Счастье и радость — ценности, которые в системе понятий Достоевского всегда соотносятся с Божественным, поэтому герои-парадоксалисты, оспаривая Божественный христианский идеал, тем не менее вводят основные его черты (наличие счастья и радости) в свое понимание будущего земного идеала вечной жизни. Можно сказать, что для героев-парадоксалистов Ф. М. Достоевского поиски жизни вечной всегда соотнесены с неким неопределенным будущим и прежде всего связаны с поисками счастья, которого человек не может обрести в настоящем. На этом уровне осмысления жизни герои-идеологи Достоевского прежде всего обращают внимание на как раз отсутствие счастья и радости и на засилье, как говорит Кириллов, боли и страха:
Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. Теперь все боль и страх. Теперь человек жизнь любит, потому что боль и страх любит. И так сделали («Бесы»: [Достоевский, 1982а, 113]).
Отсюда идея о неискупленном человеческом страдании, знаменитой «слезиночке ребенка», итогом которой становится принципиальное неприятие жизни вечной в ее традиционном христианском значении. В ситуации Ивана Карамазова, главного героя-парадоксалиста Достоевского, соединяющего в себе все парадоксальные теории предшествующих романов писателя, звучит сознательный отказ от небесной гармонии, даже если она существует, — она неприемлема для героя с точки зрения этики:
Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями неотомщенными. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и неправ. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно («Братья Карамазовы»: [Достоевский, 1982b, 288–289]).
Наиболее ярко это изображается Достоевским в романе «Идиот», в образе Ипполита, юноши, умирающего от чахотки. «Исповедь» Ипполита — трагический вопрос о смысле жизни человека в мире, лишенном идеала. Близость и неотвратимость смерти ставит Ипполита в ситуацию близкого перехода в жизнь вечную . Но Ипполит исполнен ужаса и отвращения и перед жизнью земной, и перед жизнью вечной (которая, возможно, существует). Его выбор — самоубийство как акт отказа от жизни как таковой во всех ее проявлениях. Ипполит ощущает себя изгнанным с праздника жизни, лишним:
Для чего мне ваша природа, ваш Павловский парк, ваши восходы и закаты солнца, ваше голубое небо и ваши вседовольные лица, когда весь этот пир, которому нет конца, начал с того, что одного меня счел за лишнего? Что мне во всей этой красоте, когда я каждую минуту, каждую секунду должен и принужден теперь знать, что вот даже эта крошечная мушка, которая жужжит теперь около меня в солнечном луче, и та даже во всем этом пире и хоре участница, место знает свое, любит его и счастлива, а я один выкидыш, и только по малодушию моему до сих пор не хотел понять это! («Идиот»: [Достоевский, 1982g, 100]).
Сопричастность будущей высшей гармонии в сознании Ипполита отсутствует, сама жизнь вечная предстает как нечто недоступное пониманию, чуждое, но в ней ожидаются все те же бесчеловечные законы природы, таким образом, отчаяние и безысходность понимаются как универсальные качества жизни человека:
Вечную жизнь я допускаю и, может быть, всегда допускал. Пусть зажжено сознание волею высшей силы, пусть оно оглянулось на мир и сказало: «я есмь!», и пусть ему вдруг предписано этою высшей силой уничтожиться, потому что там так для чего-то, — и даже без объяснения для чего, — это надо, пусть, я все это допускаю, но, опять-таки вечный вопрос: для чего при этом понадобилось смирение мое? Неужто нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело? <…> Я согласен, что иначе, то есть без беспрерывного поядения друг друга, устроить мир было никак невозможно; я даже согласен допустить, что ничего не понимаю в этом устройстве; но зато вот что я знаю наверно: если уже раз мне дали сознать, что «я есмь», то какое мне дело до того, что мир устроен с ошибками и что иначе он не может стоять? Кто же и за что меня после этого будет судить? Как хотите, все это невозможно и несправедливо («Братья Карамазовы»: [Достоевский, 1982g, 101]).
Как видим, в этих высказываниях Ипполита начинает формироваться бунт Ивана Карамазова.
Показательно, что отвращение Ипполита к миру, к законам природы сопровождается оплакиванием невоскресшего Христа, которого «одолели» законы природы, обретающие обличье отвратительного тарантула, горестным осознанием невозможности счастья и гармонии, что в итоге приводит Ипполита к обоснованию необходимости самоубийства:
Окончательному решению способствовала, стало быть, не логика, не логическое убеждение, а отвращение. Нельзя оставаться в жизни, принимающей такие странные, обижающие меня формы. Это привидение меня унизило. Я не в силах подчиняться темной силе, принимающей вид тарантула («Братья Карамазовы»: [Достоевский, 1982g, 98]).
При всем том подсознательно Ипполит ищет все тех же счастья и радости, и вся его «Исповедь» с последующим за ней неудавшимся самоубийством — поиск благословения, что проницательно отмечает князь Мышкин: « ему хотелось тогда… всех вас благословить и от вас благословение получить, вот все… » («Братья Карамазовы»: [Достоевский 1982g, 22]). Но все, что остается такому герою, — ложный стыд, самоистязание, тоска и все те же ужас и отвращение.
Таким образом, перенесение таких качеств, как боль и страх, в разряд универсальных, характеризующих все уровни бытия, в том числе и высшие ( жизнь вечную ), а также замкнутость сознания на только земной реальности как на единственной существующей порождает абсолютное отрицание жизни как таковой, становится причиной отчаяния и отвращения к жизни. Интересно, что о неизбежности возникновения ненависти к жизни в результате утраты человеком чувства сопричастности «иным мирам» говорит в романе «Братья Карамазовы» старец Зосима:
Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло все, что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным, если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее («Братья Карамазовы»: [Достоевский, 1982c, 378]).
Как видим, в художественном мире Ф. М. Достоевского обязательные качества жизни вечной — счастье и радость, недостижимые для человека, погруженного в боль и страх, ужас и отвращение. Безрадостное и угнетенное состояние человека на земле становится причиной бунта против Бога, основой атеистических убеждений. Но уже в настоящей земной реальности способность быть счастливым и ощущать радость является признаком Божественности или претензией на Божественность. И здесь мы можем наблюдать позитивный, истинный пример — это прежде всего князь Мышкин в романе «Идиот», «положительно прекрасный» идеал, и пример пара-доксалистский — это инженер Кириллов («Бесы») и — отчасти — Иван Карамазов («Братья Карамазовы»). При этом инженер Кириллов абсолютно отдается своей теории о Человекобоге и в каком-то смысле действительно преодолевает человеческую природу, а Иван Карамазов сохраняет склонность к сомнению, характеризующую его в принципе. Так, Иван, говоря о своей любви к жизни, основывается на «силе низости карамазовской» и кладет себе срок в 30 лет — после этого уже невозможно будет обманывать себя:
Разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования — а я все-таки захочу жить и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока весь не осилю! Впрочем, к тридцати годам, наверно, брошу кубок, хоть и не допью всего и отойду… не знаю куда. Но до тридцати моих лет, знаю это твердо, все победит моя молодость — всякое разочарование, всякое отвращение к жизни («Братья Карамазовы»: [Достоевский, 1982c, 270]).
В рамках нашего исследования представляет интерес апелляция героев-парадоксалистов Достоевского ко Христу как воплощению жизни вечной (Ин 11:25–26). Идеи Ипполита о невозможности воскресения Христа в романе «Бесы» становятся основой философской концепции Человекобога. Интересно, что, как и в традиционном христианском понимании концепта «жизнь вечная», новое состояние мира также соотнесено с образом Христа. В «Бесах» получает развитие ужас от произошедшей смерти Христа, не повлекшей за собой воскресения, что замыкает человека только в обыденной реальности боли и страха. Кириллов повторяет призыв к самоубийству, выраженный Ипполитом в «Идиоте»:
Слушай большую идею: был на земле один день, и в середине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: «Будешь сегодня со мною в раю». Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдывалось сказанное. Слушай: этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого человека — одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после Ему такого же, и никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда. А если так, если законы природы не пожалели и Этого, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты есть ложь и диаволов водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек? («Идиот»: [Достоевский, 1982b, 157]).
Но в концепции Кириллова смерть Христа приводит к обоснованию необходимости нового «спасителя», который должен начать новую «здешнюю вечную жизнь» ценой принесенной жертвы — самоубийства первого Человекобога:
Кто победит боль и страх, тот сам станет бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое… («Бесы»: [Достоевский, 1982a, 113]);
— Кто научит, что все хороши, тот мир закончит.
— Кто учил, того распяли.
— Он придет, и имя ему Человекобог.
— Богочеловек?
— Человекобог, в этом разница («Бесы»: [Достоевский 1982a, 232]);
Я начну, и кончу, и дверь отворю. И спасу. Только одно это спасет людей и в следующем же поколении переродит физически; ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего бога никак. Я три года искал атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего — Своеволие! Это все, чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую страшную свободу мою. Ибо она очень страшна («Бесы»: [Достоевский 1982b, 158]).
Интересно, что Кириллов, принимающий на себя роль нового «спасителя», обретает общие черты с образом князя Мышкина, главным прототипом которого был Христос. Божественная природа Христа оказывается несовместимой с человеческой природой князя Мышкина. И за возможность созерцать, осознавать Божественную гармонию мира он расплачивается страшными припадками болезни, которые понимаются как ответная реакция человеческого тела на сверхчеловеческое, Божественное. Накануне припадка в доме Епанчиных, в момент проживания этого невыносимого блаженства, он говорит о любви к миру, о счастье и радости:
О, я только не умею высказать... а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными? Посмотрите на ребенка, посмотрите на божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят... («Идиот»: [Достоевский, 1982f, 247]).
О том же говорит и Кириллов (интересно, что в ответ на эти слова Шатов замечает, что таким образом именно начинается «падучая» — эпилепсия):
Есть секунды, их всего за раз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: «Да, это правда, это хорошо». Это… это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, о — тут выше любви! Всего страшнее, что так ужасно ярко и такая радость. Если более пяти секунд — то душа не выдержит и должна исчезнуть» («Бесы»: [Достоевский, 1982b, 130]).
Так же, как и князь Мышкин, Кириллов говорит о любви к жизни, о том, что он счастлив:
— Вы любите детей?
— Люблю, — отозвался Кириллов довольно, впрочем, равнодушно.
— Стало быть, и жизнь любите?
— Да, люблю и жизнь, а что?
-
— Если решились застрелиться.
-
— Что же? Почему вместе? Жизнь особо, а то особо. Жизнь есть, а смерти нет совсем («Бесы»: [Достоевский, 1982a, 230];
— Вы, кажется, очень счастливы, Кириллов?
-
— Да, очень счастлив, — ответил тот, как бы давая самый обыкновенный ответ.
-
< …> Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только поэтому. Это всё, всё! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту («Бесы»: [Достоевский, 1982a, 231].
Но даже в этих случаях идеал радости и счастья оказывается недостижимым, князь Мышкин оказывается не в состоянии воплотить свою миссию «спасителя», а самоубийство Кириллова, знаменующее собой начало новой эры, в которой человек победит боль и страх и обретет радость и счастье, в действительности оборачивается ужасом, отвращением и гибелью, опровергающими изначальную великую цель. Интересно, что Ф. М. Достоевский в «Записной тетради 1875–1876 гг.» отмечает: « Отрицание земли нужно, чтобы быть бесконечным. Христос, высочайший положительный идеал человека, нес в Себе отрицание земли, ибо повторение его оказалось невозможным » [Достоевский, 1982e, 112]. Таким образом, по Достоевскому, являются бессмысленными, неосуществимыми все попытки достижения «здешней вечной жизни», «рая на земле» в рамках только лишь данной реальности, более того, цель и смысл существования человека, а значит, и его мечты о радости и счастье связаны с выходом человека за пределы человеческого мира: «Достоевский все время говорит о том, что истинный идеал человечества, истинный идеал христианства радикально внеположен земному человеческому существованию» [Касаткина, 2018, 135].
Показательно, что именно к такому осознанию реальности и места человека в ней приходят герои, нашедшие истинный путь. Жизнь вечная как залог радости и счастья проникает в реальную жизнь и преображает представление о ней человека. По сути, такой итог духовных поисков представляет собой отказ от ловушек парадоксалистско-го сознания, «подпольных» теорий и популистских идей и является принятием Бога, веры и идеи жизни вечной . Подобный выбор героев связан с покаянием и с обретением счастья и радости в духовном бытии, осознанном как единственно возможный истинный путь человека, в бессмертии, осознаваемом уже на земле:
Мое бессмертие уже потому необходимо, что бог не захочет сказать неправды и погасить совсем огонь раз возгоревшейся к нему любви в моем сердце. И что дороже любви? Любовь выше бытия, любовь венец бытия, и как же возможно, чтобы бытие было ей неподклонно? Если я полюбил его и обрадовался любви моей — возможно ли, чтоб он погасил и меня и радость мою и обратил нас в нуль? Если есть бог, то и я бессмертен! <…> Одна уже всегдашняя мысль о том, что существует нечто безмерно справедливейшее и счастливейшее, чем я, уже наполняет и меня всего безмерным умилением и — славой, — о, кто бы я ни был, что бы ни сделал! Человеку гораздо необходимее собственного счастья знать и каждое мгновение веровать в то, что есть где-то уже совершенное и спокойное счастье, для всех и для всего… Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться перед безмерно великим. Если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии. Безмерное и бесконечное так же необходимо человеку, как и та малая планета, на которой он обитает… («Бесы»: [Достоевский, 1982b, 201–202]);
О да, мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а Богу быть, ибо Бог дает радость, это его привилегия, великая… («Братья Карамазовы»: [Достоевский, 1982d, 95]).
Таким образом, в романах Ф. М. Достоевского мы видим данное от противного доказательство жизни вечной , бессмертия души и сопричастности человека Христу и всем прочим иным мирам. Существующая связь между человеком и его бессмертием в жизни вечной становится основанием для счастья и радости и в земном, и в духовном бытии.
Заключение
В целом библейский концепт «жизнь вечная» в творчестве Ф. М. Достоевского выстраивается в традиционном ключе, как некая цель пути человека, определяющая смысл его жизни и дающая осознание счастья, гармонии, полноты бытия. Можно сказать, что в символическом ключе наиболее ярко данная мысль представлена в романе «Братья Карамазовы», где определяющей становится идея поиска Бога, смысла жизни, которая осмысливается через проживание личной мировоззренческой катастрофы, завершающейся либо открытием для себя счастья жизни вечной , воплощенной в покаянии и любви (Дмитрий, Алеша), либо отчаянием гибели, отрицанием и безумием (Иван).
Особенностью подхода Достоевского становится сам принцип личного открытия истины, реализующийся в пути, который проходит герой и одновременно с ним читатель. Соотнесение величайшего духовного смысла с, казалось бы, вполне практической потребностью человека в счастье и радости обнаруживает глубинное родство и даже единство этих ценностей, а введение проблемы поиска Бога, смысла жизни, счастья и радости в контекст последних по времени научных изысканий доказывает вечность и неизменность решения проблемы жизни вечной и бессмертия для человека, в какую эпоху бы он ни жил.
Следует отметить, что как для евангелиста Иоанна, так и для Ф. М. Достоевского концепт «жизнь вечная» является основанием для разностороннего осмысления смысла человеческой жизни, средств достижения блаженства и конечной цели жизненного пути — жизни со Христом. Очевидно, что парадоксалистский подход Достоевского в корне отличается от стилистики библейских повествований, однако результат размышлений, к которому он приводит читателя, в сумме равен евангельским идеям.
Список литературы Евангельский концепт "жизнь вечная" в осмыслении Ф. М. Достоевского
- Библия (1989) — Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
- Достоевский (1982а) — Достоевский Ф.М. Бесы // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 12 т. М.: Правда, 1982. Т. 8.
- Достоевский (1982Ь) — Достоевский Ф.М. Бесы // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 12 т. М.: Правда, 1982. Т. 9.
- Достоевский (1982с) — Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 12 т. М.: Правда, 1982. Т. 11.
- Достоевский (1982d) — Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 12 т. М.: Правда, 1982. Т. 12.
- Достоевский (1982е) — Достоевский Ф.М. Записная тетрадь 1875-1876гг. // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука., 1982. Т. 24. С. 66-187.
- Достоевский (1982^ — Достоевский Ф.М. Идиот // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 12 т. М.: Правда, 1982. Т. 6.
- Достоевский (1982g) — Достоевский Ф.М. Идиот // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 12 т. М.: Правда, 1982. Т. 7.
- Касаткина (2018) — Касаткина Т.А. «Записки из подполья» и «Маша лежит на столе.»: опыт медленного чтения в ближайшем контексте // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2018. № 1. С. 121-147.
- Лакоффф (2004) — Лакофф Дж. Женщины, ororn и oпасные вещи: Что категории языка гoвopят нам o мышлении. М.: Языки славянстой культуры, 2004.
- Попова, Стернин (2007) — Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ. 2007.
- Райт (2011) — Райт Н Т. Воскресение Сына Божия. М.: ББИ им. Св. апостола Андрея, 2011.
- Степанов (2014) — Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. М.: Академический проект, 2004.
- Davis (1984) — Davis J. C. The Johannine Concept of Eternal Life as a Present Possession // Restoration quarterly. 1984. No. 27. P. 161-169.
- Dodd (1953) — Dodd С.Н. The Interpretation of the Fourth Gospel. Cambridge University Press,1953.
- Filson (1962) — Filson F.V. The Gospel of Life // Current Issues in NT Interpretation. 1962. P. 111-123.
- Hill (1962) — Hill D. Greek Words and Hebrew Meanings. Cambridge University Press, 1967.
- Lyons (1938) — LyonsD.B. The Concept of Eternal Life in the Gospel to St. John. The Catholic University of America, 1938.
- Thompson (1989) — Thompson M.M. Eternal Life in the Gospel of John // Ex Auditu. 1989. No. 5. P. 35-55.
- Van Der Watt (1989) — Van Der Watt J. G. The use of aionios in the Concept zoe aionios in John's Gospel // Novum Testamentum. 1989. No. 31. P. 217-228.