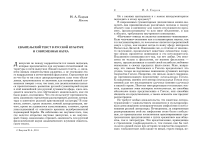Евангельский текст в русской культуре и современная наука
Автор: Есаулов Иван Андреевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.9, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье разграничиваются изучение и понимание в современных гуманитарных науках. Рассмотрение художественного текста в контексте христианской традиции является важной задачей исторической поэтики, обращенной к русской литературе. Указываются новые категории литературоведения, призванные акцентировать при анализе наличие в подтексте художественных произведений христианского предания. Христианская традиция претерпевала трансформации, метаморфозы и псевдоморфозы, что невозможно игнорировать при построении новой истории русской литературы.
Изучение, понимание, вещь, личность, типы духовности, психология, этнография, кросс-культурные исследования, etic- и emik- подходы, новые категории литературоведения
Короткий адрес: https://sciup.org/14748818
IDR: 14748818
Текст научной статьи Евангельский текст в русской культуре и современная наука
Д искуссии по поводу корректности тех новых подходов, которые предлагаются для изучения отечественной литературы в пяти выпусках «Евангельского текста...», являются живым свидетельством развития, а не стагнации этого направления в отечественной филологии. Стремление же во что бы то ни стало дискредитировать саму тему обсуждения, преуменьшить ее значение для истории нашей словесности говорит о том, что теми, кто десятилетиями пытался препятствовать развитию русской гуманитарной науки в этой важнейшей для русской духовности сфере, здесь опознается опасность для собственного монопольного, как это было ранее, положения. Что эти силы могут противопоставить законному стремлению рассматривать русскую литературу в контексте русской христианской культуры? В сущности, ничего, кроме попыток личной дискредитации, ничего, кроме не удавшегося замалчивания, и ничего, кроме унаследованной от советского времени недобросовестной подковерной борьбы. На собственно же научном поле, там, где ведется открытая научная дискуссия, а не закулисный сговор, невозможно отрицать значимость для русской филологической науки академического изучения евангельского текста.
Но с какими критериями и с каким инструментарием подходить к этому предмету?
В современных гуманитарных дисциплинах можно выделить два принципиально различных подхода к своему объекту: как к внешнему для самого исследователя предмету, предполагающему то или иное объяснение, и как к объекту, требующему внутреннего понимания.
«Изучение» отнюдь не является синонимом «понимания». Если «изучение» возможно как в гуманитарных науках, так и в негуманитарных, то понимание является прерогативой «наук о духе», как назвал когда-то нашу сферу интересов Вильгельм Дильтей. Понимание же, в отличие от внешнего «изучения», предполагает известное личностное созвучие между предметом понимания и его истолкователем. Подлинного понимания нет там, где нет любви. Это относится не только к филологии, но именно филология — наука, предполагавшая в самой своей колыбели любовное отношение к своему предмету: фило-логия. Ясно, например, что письмо Белинского к Гоголю предполагает что угодно, только не подлинное понимание духовного вектора творчества Гоголя. Напротив, это письмо задает совершенно противоположную перспективу: непонимания Гоголя. К сожалению, именно этот вектор непонимания Гоголя стал основой для его последующего изучения (именно изучения) в нашей стране. Поэтому интерпретации гоголевских текстов, заданные этим вектором непонимания, не способны обогатить наше представление о Гоголе, они способны обеднить это представление, а также исказить сам предмет рассмотрения.
Не требует особых доказательств, что советское литературоведение с удовольствием подхватило и вульгаризировало революционно-демократическую мифологию в истолковании русской литературы. По-видимому, за современным развертыванием этой же мифологии стоят более глобальные, по преимуществу атеистически ориентированные прогрессистские представления о путях «развития» как общества, так и литературы. Эти представления, приводящие к стремлению унифицировать и, тем самым, как бы подчинить единой схеме всю историю человечества (марксистские, глобалистские либо какие-то иные), строго говоря, не- доказуемы, однако именно поэтому и являются очень существенной частью интеллектуальной мифологии — с ее явной склонностью к «левизне».
Наследующие этой мифологии постсоветские ученые собственный миф пытаются позицировать в качестве основания гуманитарной науки, считая себя при этом представителями науки как таковой. Однако описываемая («относительная», по определению А. Ф. Лосева1) мифология должна знать свое место. В понимании русской литературы это место весьма скромное, лишь по известным историческим и общественным причинам (и по академической инерции) подобный подход к нашей словесности, к сожалению, все еще доминирует в отечественной филологии и истории.
Является ли временная граница между нами, нынешними исследователями, и русскими писателями препятствием к пониманию? На этот счет возможны различные мнения. Согласно одному из них, конечно, является. Так, например, считал М. Л. Гаспаров, полагая, что научная точка зрения может быть только одна — «историческая». Согласно его установке, «диалог с прошлым оказывается прикрытием экспроприации прошлого; диалог этот мнимый, потому что односторонний: прошлое молчит»2. С нашей же точки зрения, «молчит» только безгласная вещь, но не «прошлое». Прошлое как раз «говорит» — в нас и через нас. Хотя, возможно, не всем бы хотелось, чтобы «культурная память» в России обрела, говоря по-бахтински, «свой праздник воскресения» — после советского и постсоветского погрома — и осознала бы, наконец, саму себя.
Как полагает Гаспаров, изучая Пушкина, «мы стараемся реконструировать художественное восприятие читателей пушкинского времени только потому, что именно для этих читателей писал Пушкин. Нас он не предугадывал и предугадывать не мог»3. Нам же представляется, что са- мо предположение Гаспарова, согласно которому «именно для читателей пушкинского времени», мол, «писал Пушкин», является отнюдь не «объективно-научным», а уже достаточно произвольным. Хотя бы потому, что у позднего Пушкина с этими самыми «читателями пушкинского времени» были значительные проблемы, как мы все знаем. Но главное состоит в другом. Мы видим в этой установке приверженца «объективной» и «исторической» точки зрения как раз полнейшее неприятие далекого контекста понимания произведения. Представляется, что научное прочтение изучаемого текста именно и только на фоне читательских ожиданий современников автора все-таки нельзя считать единственно правильной гуманитарной установкой.
Начнем с того, что эта установка абсолютно нереализуема: если мы даже очень захотим — как исследователи — так сказать, «превратиться» в современников Пушкина, чтобы «прочесть» его произведения на фоне «ожиданий» этих современников, мы, при всем нашем желании, не сможем этого сделать. Мы не сможем так «очиститься» от нашего читательского опыта, чтобы «забыть» о тех эпохах, которые мы в своем культурном опыте уже безвозвратно вобрали в свое сознание. И никакое «специальное филологическое образование»4 здесь не поможет.
Более того, если бы — каким-то невероятным образом — мы и смогли «вернуться» в пушкинскую эпоху, так сказать, вжиться в сознание пушкинских читателей того времени, это содействовало бы не «чистоте» нашего литературоведческого анализа, а, напротив, воспрепятствовало бы истинному, глубокому пониманию Пушкина. В той исторической дистанции, которая отделяет нас от пушкинской эпохи, имеются, на наш взгляд, и свои позитивные — для понимания этой эпохи — моменты.
В частности, после сокрушения православной России и последовавшего за этим системного искоренения русской христианской культуры мы гораздо отчетливее осознаем значение этой культуры для русской словесности, нежели это осознавали люди, для которых христианская культура была цивилизационной грибницей для самого их бытия;
гораздо отчетливее, чем это осознавали, например, современники Пушкина.
Обогащенные новым (пусть и трагическим) контекстом понимания, мы уже не имеем нравственного права с той же легкостью, как наши предшественники, противопоставлять «народное» Православие Православию «догматическому» (точно так же, как и некритически превозносить, скажем, едва ли не все гипотезы отечественного «религиозного ренессанса»); мы должны вначале попытаться описать общий знаменатель, конституирующий единство русской культуры.
Русская Катастрофа XX века вынуждает нас пересмотреть словно бы навсегда в гуманитарных науках определившуюся иерархию «прогрессивных» и «реакционных» литераторов и историков — и совсем не для того, чтобы неизвестно ради какой цели «поменять знаки», а убедившись в постоянной закрепленности самой логикой «левого мифа» почетного титула «прогрессивности» как раз за теми, для кого православный строй Российской империи был тягостной и непереносимой обузой и кто затем в стихах и в прозе восславил, а также «научно обосновал» необходимость насильственного слома всех основ прежней жизни другим — подавляемому большинству жителей нашей страны. Мы не должны забывать и о том, что периодами реакции открыто обозначались периоды государственной стабильности России, а реакционерами — деятели масштаба И. В. Киреевского и А. С. Хомякова, поскольку они (удачно или неудачно) пытались — каждый по-своему — именно сохранить православную Россию.
Для гаспаровского подхода желаемый итог — как можно более «точное» описание коммуникации между автором и читателем, причем читателем-современником автора — стало быть, в пределе, единичной коммуникации. В сущности, понятие «читателя» в данном случае вообще избыточно, потому что ученый убежден в том, что исследователь его ориентации выявляет именно авторскую установку. Поэтому любые уклонения от этой предполагаемой, идеальной в своем пределе коммуникации не что иное, как ошибки, неправильные толкования, ненаучные интерпретации, деконструктивистские подходы и т. п.
На самом же деле декларируемая установка для современной гуманитарной науки является явным анахронизмом. Она приводит не к смиренному отказу от своего исследовательского «я» в пользу автора, а, напротив, к принципиальному исследовательскому монологизму. Как вполне определенно высказался Бахтин: «...в структурализме только один субъект — субъект самого исследователя»5. Однако, в отличие от приверженцев постструктурализма, этот «субъект» далеко не всегда отягчен теоретической исследовательской рефлексией, а потому и несколько наивно склонен именовать свой собственный подход к литературе «объективным» и «научным», а иные подходы — «произвольными» или даже «антинаучными».
Иную научную установку актуализирует «далекий» контекст понимания. В нашем литературоведении он связан с именем Бахтина. Согласно этому подходу, великие литературные произведения «разбивают грани своего времени», они «как бы перерастают то, чем они были в эпоху своего создания». В процессе «своей посмертной жизни», как выражается Бахтин, произведения «обогащаются новыми значениями, новыми смыслами». По Бахтину, «автор — пленник своей эпохи, своей современности. Последующие времена освобождают его от этого плена, и литературоведение призвано помочь этому освобождению». Поэтому «творческое понимание не отказывается от себя, от своего места во времени»6. Иными словами, Пушкин писал совсем не всегда только для своих современников и даже, может быть, совсем не для своих современников. Его произведения распахнуты в незавершимое «большое время», где исследователь позднейших эпох — как читатель — имеет собственный контекст понимания, и он вовсе не обязан «совпадать» с пониманием пушкинских современников.
Изучение «малого времени» тех или иных литературных событий является только лишь одним из возможных контекстов понимания, к тому же не самого глубокого понимания. Упорствующие в таком подходе к литературе как единственно научном и настаивающие на «историзме» та- кого подхода на самом деле лишь «замыкаются в эпохе» создания произведений. В сущности, эта позиция вообще имеет дело не с пониманием, а с изучением, совершенно подобным изучению негуманитарного предмета: мертвой, безголосой и (главное) всегда равной самой себе вещи.
«Далекий» же контекст понимания разомкнут во времени. В «большом времени» происходит обновление прежних смыслов. Так, согласно этой установке, «ни сам Шекспир, ни его современники не знали того “великого Шекспира”, которого мы теперь знаем». Речь идет о каких-то «новых смысловых глубинах» произведений, а не о «расширении наших фактических, материальных знаний о них... добываемых археологическими раскопками, открытиями новых текстов, усовершенствованием их расшифровки и т. и.»7. Речь идет о том, что полнота смыслового явления раскрывается только в «большом времени».
Итак, согласно этой второй установке, литературоведение призвано не только копошиться в «малом времени» авторской современности, но, напротив, «призвано помочь... освобождению»8 автора от смертных оков этого самого «малого времени». Представляется, что это очень интересно сформулированная, даже захватывающая цель для нашей филологической науки.
Будучи в целом солидарны с подобной гуманитарной установкой, на протяжении последних десятилетий мы пытались обосновать необходимость выделения еще одного принципа понимания художественного текста, который не сводится ни к «малому времени» создания и восприятия произведений, ни к принципиально незавершимому «большому времени» человеческой культуры как таковой. В свое время М. Вебер провел классическое разграничение между протестантским образом мира и католическим в работе «Протестантская этика и дух капитализма». Для нас в данном случае убедительны не социологические постулаты Вебера, а разграничение больших ментальностей, имеющих свои собственные культурные закономерности; оно не сводится к чисто национальному разграничению, посколь- ку базируется на более общих сакральных моделях и установках. Позже Р. Пиккио пришел к выводу, что славянские культуры и славянские литературы в своих ментальностях основываются на том, к какому духовному полю тяготеют. Есть «Slavia Romana», а есть «Slavia Orthodoxa»9. Русская, белорусская, украинская, болгарская, сербская культуры относятся к «Slavia Orthodoxa», сама их корневая система вырастает из византийского поля православной ки-рилло-мефодиевской традиции. Значит, добавим мы, она вполне может быть корректно истолкована в категориях этой традиции, таких как соборность, пасхальность, хри-стоцентризм, закон, благодать. Мы попытались истолковать магистральный вектор развития русской словесности и описать классические произведения отечественной литературы в контексте православного типа культуры, опираясь на новые принципы понимания художественного текста10.
Следует при этом методологически отчетливо уяснить невозможность существования абстрактной духовности и абстрактной же религиозности. Лукавое словосочетание «религиозная филология» лишь затушевывает в данном случае подлинную остроту проблемы. Не только потому, что тогда нужно выделять и особую «атеистическую» филологию, но и потому, что говорить об абстрактной религиозности, так сказать, религиозности вообще, — это даже не «вчерашний», а, так сказать, «позавчерашний» день науки.
Лишь для атеистически ориентированного сознания вполне достаточно противопоставить «материализм» и «религиозность» (скажем, назвав человека «верующим»). Но религиозность всегда бывает той или иной. В свое время мы попытались обосновать необходимость различения типов религиозности при филологическом анализе художественных произведений. Следует, по-видимому, нашему литературоведению различать и типы духовности. Необходимо учиться различению духов: хотя бы для того, чтобы «духов злобы поднебесной» (Еф. 6:12) ненароком не перепутать с иными духами. Речь идет о различных типах ду- ховности, и эти типы духовности имеют свои собственные, далеко не совпадающие представления о «должном» и «недолжном», разные аксиологические акценты.
К сожалению, задача усложняется тем, что весьма часто система ценностей исследователей русской литературы находится в кардинальном противоречии с аксиологией предмета изучения. Причем было бы значительным упрощением говорить о том, что русская классика имеет духовный потенциал, а ее исследователи — бездуховны. Нет, настоящая проблема в том, что зачастую тип духовности этих исследователей — один, а тип духовности русской литературы — совсем другой. И сама по себе такая ситуация является вполне нормальной. Но иногда — вольно или невольно — происходит проецирование своей собственной системы ценностей, своих собственных представлений о «должном» и «недолжном» на русскую классическую литературу, которая основывается на других ценностях. Тем самым искажается (вольно или невольно) сам предмет исследования. Как правило, это происходит именно в том случае, если православная культурная традиция представляется исследователю русской словесности либо чем-то «недолжным», либо таким «довеском» к литературе, которым можно, с его точки зрения, и пренебречь.
Представляется, что рассмотрение литературного произведения в контексте христианской традиции как особого рода трансисторической длительности вполне отвечает задачам новой исторической поэтики и, во всяком случае, находится в русле размышлений как Веселовского, так и Бахтина. Конечно, это не означает, что следует рабски идти по стопам того же Бахтина. Новое время научило нас отличать «традиционализм» от «традиции», а модернисты Элиот и Мандельштам научили не слишком-то увлекаться «буквой» — в ущерб «духу».
Возникнув в качестве авторских, новые категории филологического анализа, упомянутые нами выше, правомерность введения которых, надо сказать, разделяется далеко не всеми, тем не менее вошли в широкий научный и общественный оборот, что доказывается закреплением их в литературных словарях и энциклопедиях. Например, слово «христоцентризм» уже существовало, но сейчас оно конституируется как термин, вошло в различные словари (в том числе, иноязычные11), употребляется в ряде диссертационных исследований в России. То же можно сказать и о других перечисленных выше категориях.
По-видимому, корректировка существующего категориального аппарата литературоведения, обращенного к русской литературе, — действительно насущная необходимость. В. Н. Захаров вводит понятие «умиления» — и именно как категорию поэтики Достоевского12. В. Лепахин справедливо настаивает на необходимости понятия «иконичности» не в расширительном, а в специальном смысле этого слова13. Вспомним и нашу работу, где речь идет о законе и благодати14. Можно было бы приводить и другие примеры, свидетельствующие об актуальности подобного подхода в русской филологии.
Следует подчеркнуть, что эти новые категории филологического анализа имеют не только присущий им объем содержания, но также и свою историю. Можно поэтому говорить не только о следовании христианской традиции, но и о ее трансформации, о метаморфозах и псевдоморфозах, которые происходят с этой традицией.
В этой связи представляется правильным ввести понятие «вторичная сакрализация», чтобы то «переформатирование» традиции, которое происходило в советский период, обозначить отдельным специальным термином15. В рамках этой вторичной сакрализации происходит, например, подмена соборности, которая утверждает «Ты еси», коллективизмом, базирующимся на совершенно иных принципах.
Еще Вяч. Иванов совершенно определенно разграничил два противоположных типа человеческой общности, художественно раскрытые в свое время Достоевским: легион и соборность. Если нехристианский, а затем и открыто антихристианский «легион» предполагает «скопление людей в единство посредством их обезличивания», то «соборность» есть «такое соединение, где соединяющиеся личности достигают совершенного раскрытия и определения своей единственной, неповторимой и самобытной сущности, своей це-локупной творческой свободы»16. Искажение русской картины мира в изучении нашей литературы проистекало как раз во многом оттого, что «легионеры» и получили в свое время монопольное право на толкование отечественной словесности.
По мысли Вяч. Иванова, находящегося в то время всецело в русле православной традиции, «признание святости за высшую ценность — основа народного миросозерцания и знамя тоски народной по Руси святой. Православие и есть соборование со святынею и соборность вокруг святых»17. Беда советской филологии состояла в том, что именно эту «высшую ценность» десятилетиями при рассмотрении русской словесности выносили «за скобки» исследовательского внимания, подменяя ее произвольными и внешними по отношению к русскому национальному образу мира категориями и понятиями.
Несколько перефразируя известное высказывание Бахтина из книги о Рабле, эти новые категории позволяют осмыслить русскую литературу как часть русской культуры, где эта литература «оказывается у себя дома»18. Во всяком случае, довольно трудно аргументировать, что эти категории не репрезентативны для христианской культуры: напротив, представляется, что данный инструментарий может быть в большей степени имманентен русской литературе, чем многие другие.
К изучению евангельского текста можно подходить с позиции, внутренне причастной к евангельским ценностям, однако горькое преимущество нашей нынешней позиции состоит в том, что мы прекрасно знаем: этот же текст весьма часто рассматривали и рассматривают с ярко выраженных антихристианских установок, лишь маскируя их в наше время под «объективно научные».
Ясно, что, если события земной жизни Христа рассматривать с апостольских позиций, они предстают в одном свете, а если те же события рассматривать с точки зрения законников и фарисеев, то они видятся совершенно иначе. Ясно также, что никакого «примирения» тех и других ожидать не приходится. Не нужно себя обманывать: так сказать, равноудаленной позиции между двумя обозначенными также не существует.
Естественно предположить, что научное описание культурной системы с исследовательской позиции, иманнент-ной ценностям самой этой культурной системы, резко отличается от описания той же самой системы с совершенно внешних этой системе позиций. Так и происходит с изучением евангельского текста. Однако насколько научно корректной является установка исследователя, комплиментарная ценностям описываемой им системы? Имеются ли какие-либо современные гуманитарные аналоги, помимо филологии, которые могли бы дополнительно обосновать научную продуктивность подобной установки? Итак, «научно» ли русскую культуру изучать с позиций эмпатии к русской же культуре и ее доминантным ценностям, к каким, безусловно, относится православная традиция? Возможна ли она в современных гуманитарных дисциплинах? В чем научное преимущество именно такой исследовательской позиции сравнительно с другими?
В методологических постулатах и теоретических установках современных кросс-культурных исследований различаются emic- и etic-подходы. Эти термины, которые выдвинул К. Л. Пайк по аналогии с фонетикой и фонематикой19, были затем поддержаны и разработаны Г. Триандесом20. Если фонетика связана с изучением общих аспек- тов звуков и произнесения звуков, то фонемика — это изучение звуков, используемых в определенном языке.
При emic-подходе делается попытка рассмотреть явления и их взаимосвязь (структуру) глазами людей, которые относятся к данной культуре. Эта точка зрения берет начало из культурной антропологии, где с помощью метода включенного наблюдения исследователь пытается рассматривать нормы, ценности, мотивы и обычаи членов определенной общности с их собственной точки зрения.
Исследователи, придерживающиеся emic-подхода, утверждают, что ранее в гуманитарных дисциплинах (например, в психологии) всецело господствовал etic-подход, который основывался на некритическом проецировании западных гуманитарных установок на внеположный Западу «мир большинства», как они его называют21. Таким образом, исследователь той или иной культуры работал на самом деле не с ценностями изучаемой культуры, а с «навязанными этиками» или «псевдоэтиками».
Если попытаться структурировать разницу между этими двумя подходами, разумеется, в нашей собственной интерпретации, то получается такая картина.
-
1. При etic-подходе система изучается с какой-либо позиции вне этой системы (марксизм, фрейдизм, структурализм и проч.). Emic-подход позволяет изучать поведение системы изнутри.
-
2. При etic-подходе система конструируется аналитиком. При emic-подходе структура обнаруживается аналитиком, а не конструируется.
-
3. При etic-подходе критерии считаются абсолютными или универсальными. При emic-подходе критерии связаны с внутренними характеристиками.
Также в современных кросс-культурных исследованиях выделяются три ориентации: абсолютистская, универсалистская и релятивистская. Абсолютистская установка предполагает в качестве методов оценки культурной системы стандартный инструментарий, общий для всех типов культур; универсалистская — научный инструментарий, адаптиро- ванный к изучаемой культуре; релятивистская же ориентация предполагает создание инструментария, присущего той или иной культуре.
Особенности марксистского метода состояли с том, что он навязывал в той системе координат, о которой мы сейчас рассуждаем, etic-подход наряду с абсолютистской ориентацией. Не менее существенна при попытке понять адек-ватность/неадекватность подобного подхода степень искажения объясняемого предмета. Если изучаемая культура базируется на близких самому Марксу ориентирах, она менее искажается вследствие его объяснения. Если она базируется на иных ориентирах, она искажается в большей степени. Если же, как это происходило с Россией, русские ориентиры и марксистские ценности не просто различны, но и противоположно направлены, то в таком случае конечным результатом вполне академического «описания» русской культуры, по Марксу, может быть именно и только деструкция всего русского мира, его переформатирование, согласно совершенно чуждым ему критериям, вплоть до совершенного его уничтожения.
Если мы рассмотрим под подобным же углом зрения упоминавшуюся выше социологическую теорию М. Вебера, которая связывает этику протестантизма с экономическим ростом (некоторую корректировку подобного подхода можно заметить у В. Зомбарта, напрямую соединяющего развитие капитализма с возрастанием роли секулярного иудаизма в современном мире22), то станет совершенно ясно, что подобные теории претендуют если не на абсолютизм, то на универсализм, хотя эта претензия вряд ли состоятельна. Ведь для «мира большинства» отношения между религией и экономикой иные, нежели в протестантизме и иудаизме. Например, как показывает индийский ученый Д. Сингх, западные модели развития укоренились в западных ценностях, где индивид был и является действующим лицом, а также объектом социального изменения23. С западной точки зрения этот индивид относительно незави- сим от родительского авторитета, связан со временем и планированием. Он желает отложить удовольствие, предполагает господство над природой, верит в детерминизм и науку, обладает космополитическими взглядами и конкурирует, испытывая удовольствие от превосходства в конкуренции24. Но существует (например, в индуизме) и альтернативный психологический профиль личности, когда поведение строится не на соревновании, а на сотрудничестве25. Очевидно, православная культура давно выработала свой собственный профиль личности, игнорировать и изменять который можно только лишь путем подавления поведенческих стереотипов носителей этой культуры. Именно это насильственное подавление носителей русской православной культуры после сокрушения Российской империи и являлось доминантой советской «культурной революции».
К сожалению, западные ученые, занимающиеся кросс-культурными исследованиями, не знакомы с научным наследием М. М. Бахтина (об этом выразительно свидетельствует их библиография). Согласно его концепции, объяснение всегда тяготеет к «овеществлению» своего объекта (будь то человек или текст), тогда как главный момент гуманитарного понимания — осознание того, что ученый (будь он философ, историк, этнолог, психолог или филолог) в акте познания имеет дело с неисчерпаемой личностью, которая до конца никогда не может быть «объяснена». Всякая претензия на сколько-нибудь полное и адекватное «объяснение» в этой области всегда является более или менее научной иллюзией (осознают ли это сами ученые, либо не осознают, настаивая, например, на «комплексности» своего подхода, на необходимости применения нескольких взаимодополнительных методик исследования и т. и.). С этой точки зрения, в etic-подходе доминирует именно «объяснение», тогда как emic-подход базируется на «понимании». Евангельский текст именно такой неисчерпаемый предмет понимания, который всегда будет сопротивляться любому внешнему объяснению.
По многим, не только объективным, но и личностным причинам православные ценности, которые концентрируются в евангельском тексте и православном предании, просто не могли стать предметом сочувственного «понимания» в нашей гуманитарной науке — хотя бы в качестве чуждых, если не сказать, чужих. Предметом же внешнего «объяснения» (и разоблачения) они становились, напротив, весьма и весьма часто.
Однако при овнешнении этого особого предмета (евангельского текста) он неизбежно теряет свою собственно новозаветную сакральную специфику и — при таком подходе — ничем не отличается от любого другого текста. Тем самым происходит подмена самого предмета рассмотрения. Например, неточность цитирования автором (или героем) евангельского текста вовсе не всегда непременно свидетельствует о каком-то сознательном его искажении, но может говорить и о той или иной степени адаптации, усвоения и понимания. Кроме того, в русской православной традиции евангельский текст — это не столько книга, лежащая на столе, ее индивидуальное чтение и проекция этого чтения на другие сферы культурной жизни. Это, прежде всего, звучащее Слово в Богослужении и последующая культурная рецепция именно этого звучащего Слова.
Так, насколько можно судить, в современной постсоветской медиевистике возобладал подход А. А. Алексеева, согласно которому сама идея национальной или народной Библии в русской православной традиции является научно непродуктивной и должна быть, по его мнению, отвергнута26. Однако задолго до работ Алексеева профессор Санкт-Петербургской Духовной академии, выдающийся русский славист и библеист И. Е. Евсеев поставил дерзновенную задачу реконструировать текст первоначального перевода святителей Кирилла и Мефодия27. В 1915 году по его инициативе была создана Комиссия по научному изданию славянской Библии, в которую вошли все выдающие- ся русские филологи того времени. Комиссия сочла, что для изучения и издания полного текста славянской Библии потребуется 60 лет. Нет никаких сомнений, не вмешайся в этот замысел роковые для России исторические события, эта задача была бы выполнена и мы сегодня имели бы совершенно другое направление в развитии нашей медиевистики, чем то, которое возобладало в советское время. Именно эта, уничтоженная, линия русской библеисти-ки представляется нам более продуктивной, нежели та, которая ныне доминирует.
В частности, Евсеев, как и практически все русские исследователи того времени, вполне доверяли житию св. Кирилла, согласно которому, зерном переводческой работы славянского просветителя является Евангелие-апракос, начинающийся Евангелием от Иоанна: «...и тогда сложи пислхенл и нлчж кес'Ъдоу пислти еглггельскоую: искони K't слово и слово B't оу богл и богъ s't слово и прочжгл». В таком случае именно пасхальное Евангелие от Иоанна, являющееся в славянской православной традиции не четвертым, а первым, и в целом Евангелие-апракос являются ядром русского евангельского текста. О важности именно такого вывода для доминантного вектора развития русской словесности мы уже писали28.
С точки же зрения Алексеева, хотя и «считается, что это сообщение Жития (процитированное нами выше. — И. Е.) говорит о том, что переводческая работа Кирилла была начата с Евангелия-апракос... однако указание на краткий апракос нельзя считать вполне надежным», для него процитированные строки Жития «производят впечатление орнаментальной добавки»29. Для Алексеева неприемлем «апологетический тон в отношении переводов Кирилла и Мефодия»30, который он обнаруживает у Евсеева. Его оценку переводов славянских просветителей Алексеев называет «завышенной»31. В итоге текстологическую концепцию Евсеева, которая базируется именно на «националь- ной Библии», «кирилло-мефодиевской Библии», Алексеев решительно отвергает.
Отрицая продуктивность идеи восстановления кирилло-мефодиевского текста, Алексеев настаивает на чрезвычайно узко понятом «историзме» как «продукте духовного развития XIX века»32, полагая при этом, что и Откровение подлежит ведению «обоснованного и последовательного историзма»33, однако не замечая анахронизма подобного понимания «историзма» для современной гуманитарной мысли. Несмотря на добротнейшее изучение им текстологии славянской Библии, позицию Алексеева, согласно предложенной выше типологии, можно отнести к etic-подходу. Нам же представляется, что emic-подход, ясно проступающий в концепции полузабытого ныне Евсеева, хотя она и не была вполне развернута в свое время, все-таки является более перспективным для будущего русской филологии.
Евангельский текст, а также его производные, являются фундаментом русской культуры, если считать эту культуру христианской в своих основах. Уже много лет существует отдельное научное направление в этнографии, основателем которого является М. М. Громыко. Ее работы34, как и полевые исследования ее научной группы35, вполне доказали, что представления о «языческой сущности» русского народа, либо о его «двоеверии» в современной гуманитарной науке являются лишь чисто идеологическими спекуляциями тех, кто по разным причинам не может принять основополагающей значимости православной веры для русской культуры в целом.
Очень симптоматично, что в гуманитарном мире нынешней России ни emic-подход, ни этнографические исследования группы Громыко (уже не говоря о концепции Евсеева) не получили такого научного резонанса, который они заслуживают. Представляется, однако, что эти и подобные этим гуманитарные направления могут быть научным подспорьем и для наших филологических исследований, для исследований тех, для которых евангельский текст не сводится лишь к набору цитат, а является фундаментом русской литературы, русской культуры и самого бытия России.
Список литературы Евангельский текст в русской культуре и современная наука
- Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М., 2001.
- Гаспаров М. Л. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина//Русская литература XX-XXI веков: Проблемы теории и методологии изучения. М., 2002. С. 10.
- Гаспаров М. Л. Предисловие//Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 14-15.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 372.
- Пиккио Р. Slavia Orthodoxa: Литература и язык. М., 2003.
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995; Он же. Пасхальность русской словесности. М., 2004.
- Христоцентризм//Идеи в России: Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 2. Lodz, 1999. P. 380-382.
- Захаров В. Умиление как категория поэтики Достоевского//Celebrating Creativity: essays in honour of Jostein Botrnes. Bergen, 1997. P. 237-255.
- Лепахин В. Летопись как икона всемирной истории (по «Повести временных лет»)//Вестник русского христианского движения. Париж, 1995. № 171. С. 30-42.
- Esaulov I. The categories of Law and Grace in Dostoevsky's poetics//Dostoevsky and the Christian Tradition. Cambridge, 2001. P. 116-133.
- Есаулов И. А. Мистика в русской литературе советского периода: Блок, Горький, Есенин, Пастернак. Тверь, 2002.
- Иванов В. И. Родное и вселенское. М., 1994. С. 100.
- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 7.
- Pike K. L. Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior. The Hague: Mouton, 1967.
- Triandis H. C. Handbook of cross-cultural psychology. Boston, 1980.
- Kagitcibasi C. Family and human development across cultures: A view from the other side. Hillsdale, 1996.
- Зомбарт В. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. СПб., 2005. С. 105-643.
- Singh A. K. Hindu culture and economic development in India//Conspectus. 1967. № 1. P. 9-32.
- Triandis H. C. Toward a psychological theory of economic growth//International Journal of Psychology. 1984. № 19. P. 79-95.
- Sinha D. Psychology in the context of Third World development//International Journal of Psychology. 1980. № 19. P. 17-29.
- Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. С. 219-220.
- Евсеев И. Е. Очерки по истории славянского перевода Библии. Пг., 1916; Он же. Геннадиевская Библия 1499. М., 1914;
- Евсеев И. Е.//Столетняя годовщина русского перевода Библии. Пг, 1916.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. С. 10-43.
- Громыко М. М. Мир русской деревни. М., 1991; Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русского народа. М., 2000.
- Русские: народная культура (История и современность). М., 1995-2000
- Традиции и современность. 2005-.