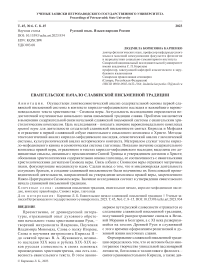Евангельское начало славянской письменной традиции
Автор: Карпенко Л.Б.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 6 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Осуществлен лингвосемиотический анализ содержательной основы первой славянской письменной системы в контексте кирилло-мефодиевского наследия и важнейшего вероисповедального текста христианства - Символа веры. Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью начального звена письменной традиции славян. Проблема заключается в выяснении содержательной связи начальной славянской письменной системы с евангельским христологическим комплексом. Цель исследования - показать значение вероисповедального комплекса правой веры для деятельности создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия и отражение в первой славянской азбуке евангельского смыслового комплекса о Христе. Методы: текстологический анализ кирилло-мефодиевского наследия, семиотический анализ глаголической системы, культурологический анализ исторического контекста. Материалом служат тексты кирилло-мефодиевского канона и семиотическая система глаголицы. Показано значение содержательного комплекса правой веры, отраженного в текстах кирилло-мефодиевского наследия; выделены его доминантные смыслы, связанные с прославлением Святой Троицы и утверждением догматов о Христе; обоснована христологическая содержательная основа глаголицы, ее соотнесенность с евангельскими христологическими догматами Символа веры. Связь азбуки с Символом веры отражают матричные знаки, фокусирующие мессианскую идею. Сделан вывод о том, что и миссионерская деятельность солунских братьев, и создание славянской письменности были подчинены их богословской проповеднической деятельности, направленной на утверждение комплекса правой веры, закрепленного Никео-Цареградским Символом веры. Значение исследования состоит в утверждении евангельского начала славянской письменной традиции.
Славянская письменная традиция, евангельское начало, кирилло-мефодиевское наследие, комплекс правой веры, символ веры, глаголица
Короткий адрес: https://sciup.org/147241468
IDR: 147241468 | УДК: 003.08 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.934
Текст научной статьи Евангельское начало славянской письменной традиции
Преемственно, от древнерусской литературы, отражающей опыт духовного обретения начального этапа христианизации Руси, – творений митрополита Илариона, Поучения Владимира Мономаха, Слова о полку Игореве, Слова и поучения митрополита Кирилла II – до «святой прозы» В. А. Жуковского, великого наследия XIX века и рубежа XIX–XIX веков русская словесность в своих основных произведениях христоцентрична, она есть словесность евангельского текста. В этом законо-
мерном пути русской словесности отражается ее следование славянской письменной традиции, получившей распространение сначала в Великой Моравии и Болгарии, а с XI века развернувшейся на землях Древней Руси и служившей с этого времени оформлением религиозной и духовной жизни восточных славян.
Формирование славянской письменной традиции определялось тем, что ее истоком было многогранное творчество уникальной пассионарной личности, богослова и талантливого филолога – святого равноапостольного Кирилла, а также дея- тельность его сподвижников – брата, святого Мефодия, и плеяды талантливых учеников. Русская культура «сохраняла и развивала, преумножая, драгоценное духовное наследие христианства, впервые открывшееся благодаря подвигу Константина Философа и его брата» [10: 220–221].
Традиция есть форма воспроизведения и сохранения социального опыта и культурного наследия народа. В зависимости от семиотического языка оформление традиции может быть разным: изобразительным, музыкальным, устным словесным или письменным. Развитая письменная традиция славянства является сравнительно молодой, славянское письмо было создано св. Кириллом в 60-е годы IX века. К этому времени человечеством был накоплен значительный опыт развития письма: около пяти тысячелетий существовали шумерское письмо, китайское, египетское, более полутора тысячелетий – финикийское, несколько меньше – древнеарамейское, увековечившее Ветхий Завет, в VI веке сложилось арабское письмо. Весь этот длительный период времени для славян был доисторическим. Но в таком эволюционном ракурсе было и свое преимущество: славянская письменная традиция началась вместе с приходом евангельского слова, она стала оформлением христианской культуры. Эта констатация не всегда была возможна в отечественной палеославистике. В советский период сущностные противоречия между советской идеологией и православием привели к отказу от признания роли Церкви в распространении письменности у восточных славян. Цель статьи – показать евангельское начало славянской письменной традиции, отражение в первой славянской азбуке евангельского смыслового комплекса о Христе.
СЛАВЯНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ И ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЛАГОЛИЦЫ
В истории славянской письменной традиции есть много интересных фактов: создание св. Кириллом глаголицы; транслитерация его учениками глаголических текстов на кириллицу; реформа Яна Гуса в Чехии – приспособление латинского алфавита к славянской речи путем диакритизации; реформа кириллицы, связанная с деятельностью Петра I; разработка в Сербии Вуком Караджичем вуковицы. География славянской письменной традиции не менее масштабна: Византия, где, согласно Паннонским легендам, была создана первая славянская азбука, Моравия, Болгария, Сербия, Русь. В XIX веке в России и в XX веке на территории СССР кириллица получила распространение среди ранее бесписьменных народов, она охватывает сегодня пятую часть земного шара. Таким образом, славянскую письменную традицию нужно признать существенным вкладом в развитие мирового письма.
Важным является вопрос об онтологических основаниях славянской письменности – комплексе ценностных смыслов, заключенных в начальной письменной системе. Прибегая к метафорическим образам, можно сказать, что глаголица, созданная св. Кириллом, есть общий исток славянской книжной традиции, а кириллица, составленная в IX веке в Болгарии и получившая распространение у православных южных и восточных славян, – это основное русло, в пределах которого письменная традиция развивалась, это историческое лоно нашей культуры. Преемственно связанные славянские азбуки – глаголица и кириллица – служат полюсом сосредоточения христианских ценностей, но носительницей христианского символизма является прежде всего глаголица, она имеет значение ценностной символической системы, заключающей начальный образ мира в древнеславянской книжности. Расшифровка глаголического кода в контексте Евангелия заставляет по-новому посмотреть на древнейший пласт славянской письменности.
Создание глаголицы славянским первоучителем святым Кириллом было, безусловно, актом проявления творчества. Парадокс состоит в том, что долгое время оставалась нераскрытой символическая природа глаголицы. Причина этого кроется в том, что на протяжении двух столетий азбука рассматривалась с позиций формального палеографического подхода, при котором начертания букв интерпретировались как знаки, производные от других алфавитов, или с узко лингвистических позиций исключительно как фонографическая система1 [7: 91–93]. При этом в стороне оказывались вопросы содержательной основы азбуки, ее связи c теми целеполаганиями, которые определяли просветительскую деятельность святых Кирилла и Мефодия, – служение Византийской Церкви, противостояние ересям, утверждение правой веры среди славян. Недостаточно уделялось внимание содержательной связи азбуки с евангельским и шире – библейским – текстом, эстетическим принципам раннехристианской традиции, конструктивным элементам букв, их знаковой мотивированности. Вследствие этого формальные сопоставления глаголицы с алфавитами других языков не привели к обнаружению ее прототипа, а первые попытки объяснения начертаний не дали ключа к их разгадке2.
Раскрытие символического христологическо-го кода глаголицы стало возможным в результате применения семиотического подхода [3]. Мы искали отражение в азбуке – в ее начертаниях и именах – содержательного комплекса, которому служил св. Кирилл, ведь использование возможностей пространственно-визуального выражения содержания наметилось намного раньше, чем оформилась семиотика как научное знание. Такой опыт в Средневековье был главным образом связан с поиском средств выражения сакральных смыслов на почве религиозно-философских исканий. Оценка эффекта целостного кодирования смысла визуальными символами присутствует уже в культуре поздней античности у основателя неоплатонизма Плотина – родоначальника учения о неизъяснимости трансцендентного Единого. Показательны его рассуждения о преимуществах иероглифических знаков по сравнению с алфавитным письмом:
«...каждое такое изображение является наукой и мудростью, и именно – в своей субстратной цельности, не в качестве дискурсивного мышления или убеждения» [8: 453].
В разработанном позднее византийскими религиозными философами символическом богословии визуальным символам и знакам придается роль основных средств метафорического выражения Божественной истины, которым отдается предпочтение перед словесными средствами. В учении Дионисия Ареопагита символ предстает в качестве универсальной категории: с одной стороны, символ служит для обозначения и тем самым для выявления непостижимого, с другой – является покровом, оболочкой, скрывающей неизреченное. Знание, скрытое в символах и знаках, постигается через заключенную в них гармонию и красоту [1: 2].
Рассмотрение глаголицы в историческом контексте создаваемой славянской письменной традиции, в контексте Библии и раннехристианской эстетики, в ракурсе выявления семиотической специфики букв и всей азбуки в целом приводит к заключению, что знаки глаголицы, помимо фонографических свойств, обладают свойствами идеографии, наделены символической функцией кодирования евангельского христологического содержания. Глаголица в целом раскрыта как семиотическая система, образующая единый, совокупный христианский метасимвол – круг из трех окружностей с вписанным крестом. Заключающий в символической форме многоаспектное содержание глаголический «вселенский круг» образуется закономерно из 38 букв – именно из того их количества, на которое как на состав первой славянской азбуки указывает сочинение древнеболгарского книжника Черноризца Храбра и ряд других источников. Исследование оснований знакообразования глаголических начертаний продолжено нами далее в контексте отраженного в кирилло-мефодиевском каноне комплекса правой веры.
ТЕМА ПРАВОЙ ВЕРЫ В КИРИЛЛО-
МЕФОДИЕВСКОМ НАСЛЕДИИ
Богословские взгляды св. Кирилла и их влияние на его жизнь были темой ряда исследований на протяжении ХІХ и ХХ веков [12], рассматривались они и нами [6: 50–56]. Прямыми источниками кирилло-мефодиевского корпуса являются не только тексты, атрибутируемые св. Кириллу (Проглас, Написание о правой вере – переведенное св. Кириллом с греческого языка сочинение патриарха Никифора; Херсонская легенда; Гимн на обретение мощей св. Климента и др.), но и агиографические тексты, в первую очередь Пространное житие Константина-Кирилла Философа (далее – ЖК) и Пространное житие Мефодия как подлинные свидетельства [10: 103], основной, наиболее цельный и содержательный источник для исследования деятельности солунских братьев [13: 6]. Гносеологическая ценность житий для изучения позиции святых Кирилла и Мефодия в вопросах веры определяется тем, что в их основе, как полагают исследователи, были и подлинные тексты, сочиненные Философом [11: 111]. Значительная часть ЖК представляет собой сборник выдержек из высказываний св. Кирилла на богословские темы, изложение четырех диспутов, в которых он участвовал по вопросам веры: с иконоборцем Аннием патриархом (глава V), арабами-мусульманами (глава VI), хазарами и иудеями (главы IX–XI) и еретиками-триязычниками (глава XVI).
Изучение прямых и косвенных источников, отражающих жизнь и творчество св. Кирилла, позволяет определить философские школы и конкретные имена, которые оказали влияние на формирование мировоззрения славянского первоучителя. Основой духовных взглядов св. Кирилла послужили сочинения Отцов Церкви, и прежде всего сочинения представителей каппадокийского кружка, сложившегося во второй половине IV века и получившего название от наименования малоазийской земли Каппадокии. Его главными представителями были св. Василий Великий (330–379), св. Григорий Нисский (ок. 331–394) и особо почитаемый св. Кириллом богослов и мыслитель раннего христианства – св. Григорий Богослов (329–390). Из текста ЖК следует, что он самостоятельно учился по сочинениям Отцов Восточной церкви, в вопросах веры следовал св. Григорию Богослову, автору классического изложения учения о Троице и воплощении Бога, поклонялся ему и называл своим учителем. Одним из современников св. Кирилла, его учителем и наставником в Магнаврской школе при дворе императора Михаила III (842–867) был Фотий, выдающийся византийский писатель и богослов, в дальнейшем дважды занимавший патриарший престол в Константинополе (858–867 и 877–886), отстаивавший учение Святой Троицы. Таким образом, славянский первоучитель в агиографических источниках предстает как последователь церковных деятелей Византии, обосновавших и защищавших основы веры, которая в кирилло-мефодиевских текстах называется правой верой.
В результате текстологического анализа выявлено, что во всех основных сочинениях, которые относят к литературному творчеству св. Кирилла, отражена темы правой веры [5]. Так, в Написании о правой вере данный смысловой комплекс выражен уже в заглавии: Написание о правѣи вѣрѣ изоущеное костантиномъ бла-женнмь философомъ... Содержательно в Написании актуализирована идея опровержения ересей, в том числе ереси арианства; доминирует мысль о том, что любая ересь есть ересь триадологическая и христологическая, – мысль, которая согласуется с богословской позицией св. Кирилла, отраженной в других источниках. Христологи-ческая часть Написания о правой вере содержит изложение догмата о рожденности Бога Сына, а заключительная часть указывает источник вероучительных утверждений – постановления Никейского собора и последующих Вселенских соборов. В Каноне на обретение мощей Климента Римского, исследованном и опубликованном Е. М. Верещагиным по Минее, относимой к XII– XIII векам, тоже доминирует тема прославляемой Троицы [2: 133, 145].
Тема правой веры оказывается сквозной и в Пространном житии Константина-Кирилла Философа. Она выражена в изложении содержания всех трех миссионерских поездок, в двух молитвах, сочиненных Философом и использованных автором ЖК. Изложением догматов правой веры и утверждения причастности ей св. Мефодия начинается и Пространное житие Мефодия. Христологическая тема явно выражена в Прогласе к Евангелию. Защитниками правой веры равноапостольные святые Кирилл и Мефодий называются и в Похвальном слове, написанном на память святых предположительно Климентом Охридским. Последовательность текстовых репрезентаций данного комплекса, их содержательная общность, структурная и лексическая соотносительность позволяют говорить о концептуализации идеи правой веры в прямых источниках кирилло-мефодиевского корпуса и в текстах, посвященных Кириллу и Мефодию.
ОТРАЖЕНИЕ ХРИСТОЛОГИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ НИКЕЙСКОГО СИМВОЛА ВЕРЫ
В МИССИОНЕРСКОМ СЛУЖЕНИИ СВ. КИРИЛЛА
Никейский символ веры, принятый Первым вселенским собором в 325 г. н. э. в Никее, утверждал догматы Православия о Святой Троице и Хри- сте, Боге Сыне, рожденном и единосущном Отцу, сошедшем с небес, и воплотившемся, и восшед-шем на небеса, и грядущем со славой. Догматами Никейского символа веры было свергнуто еретическое направление сторонников Ария в христианстве, которые не признавали рождения Бога Сына и утверждали Его тварность. Главное их утверждение: «Сын Божий – произведение и тварь»3. Истины о единородном и первородном Сыне Божием Отцы Церкви относят к неизреченным тайнам, скрытым под словами, которые разъясняет св. Иоанн Дамаскин: «Πρωτότοκος δὲ ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς»·μονογενὴς γὰρ ὢν καὶ ἐκ μητρὸς, ἐπειδήπερ μετέσχηκεν αἵματος καὶ σαρκὸς παραπλησίως ἡμῖν καὶ ἄνθρωπος γέγονε»4.
Среди защитников Никейского символа веры был прославляемый Константином-Кириллом св. Григорий, выдающийся богослов и философ раннего христианства, один из Каппадокийских отцов. За классическое изложение учения о Троице и мистерии воплощения троичного божества Восточная Церковь присвоила ему титул «Богослов». Как пишет Э. Даунтон-Фир, наследие св. Григория настолько ценилось Византийской Церковью, что его произведения цитируются в ее литературе чаще, чем любой другой христианский источник, кроме Библии [15: 72]. По вопросу о человеческой рожденности Бога Сына логика св. Григория в противостоянии последователям Ария была выражена безупречно. В речи о Боге Сыне св. Григорий Богослов так опровергал ариан, считавших, что Бог Сын сотворен: « Πῶς Θεὸς, εἰ κτίσμα; Οὐ γὰρ Θεὸςτὸ κτιζόμενον »5– « Как может Он быть Богом, если Он сотворен? Ибо сотворенное не есть Бог ». Служение св. Григория Богослова в Константинополе обеспечило победу никейского христианства в Византии, но арианство окончательно не исчезло. Во второй половине IX века, в эпоху жизни и деятельности солунских братьев, борьба с ересями, и среди них с арианством и изменениями в Символе веры, возобновилась вновь, и это стало одной из главных причин для защиты учения о Троице.
Активным защитником Тринитарного богословия и Никейского символа веры был и патриарх Фотий. Это обстоятельство для нашей темы весьма важно. Как известно, среди византийских источников не находится текстов, непосредственно посвященных деятельности святых Кирилла и Мефодия. Хенрик Бирнбаум даже пишет
«о полном молчании о Великоморавской миссии Константина-Кирилла и Мефодия (а также об их миссии в Хазарию) во всех византийских источниках – особенно удивительном ввиду тесных личных отношений братьев с патриархом Фотием» [14: 7]
и не находит этому объяснения. Тем большую ценность представляют тексты патриарха Фотия, воспроизводящие тот же комплекс религиозных взглядов, который запечатлен в кирилло-мефо-диевском каноне, среди них Послание Патриарха Фотия болгарскому князю Борису-Михаилу [9]. Послание Фотия содержит догматическое изложение Православия, в том числе и вероучение, которое патриарх Фотий называет учением о чистой и непорочной вере. Патриарх Фотий разъясняет Никейский символ веры и догматы о Христе, Единородном Сыне Божием, рожденном, а не сотворенном, единосущном Отцу, сшедшем с небес, вочеловечившемся и восшедшем снова на небеса. Учение, заключенное в этих положениях, Фотий называет правой верой. Текст славянского перевода Послания Патриарха Фотия болгарскому князю Борису-Михаилу, написанного в те же годы, когда проходила Великоморавская миссия Кирилла и Мефодия, показывает актуальность борьбы Византийской церкви за сохранение чистоты догматов Никейского символа веры.
Как следует из анализа кирилло-мефодиев-ского канона, св. Кирилл занимал активную позицию в защите тринитарного богословия, положений Никейского символа веры и закрепленного в нем смыслового комплекса о Христе [4]. Пространное житие Константина-Кирилла Философа включает фрагменты прений, указывающие, что св. Кириллу приходилось обсуждать с иноверцами догматы Никейского Символа веры. В ходе первой миссионерской поездки в Арабский Халифат св. Кирилл защищает учение о Троице и один из важнейших догматов о рожденности Христа. Основной темой прений с иудеями в Хазарии была также тема Троицы. В этом фрагменте Жития показана еще более подробная аргументация св. Кирилла в вопросе о рожденности Христа. На вопрос иудеев о том, «как может вместить бога в утробу свою жен-щина»6, Философ отвечает, ссылаясь на Аквилу, переводчика еврейской Библии, создавшего в первой трети II в. н. э. новый греческий перевод Ветхого Завета, который передавал еврейский текст буквально и поэтому пользовался особой популярностью в среде ортодоксального иудейства. Перевод Аквилы передает обращение Моисея к Господу с просьбой вселиться в человеческую утробу (Исх. 34:9). В Септуагинте и последующих переводах с Септуагинты соответствующий фрагмент не содержит мотива о бо-говоплощении, а лишь призыв к Богу идти с народом израилевым. По ЖК, св. Кирилл, чтобы убедить иудеев, процитировал фрагмент текста Аквилы, в переводе звучащий «В громе камней и звуке труб не являйся нам больше, милостивый боже, но вселись в утробу нашу, сняв с нас наши грехи»7. Он намеренно обратился к переводу Аквилы, в котором явно выражена тема жела- емого иудеями боговоплощения, и использовал его в защите христианского догмата о воплощении и человеческом рождении Бога Сына. Эта тема развивается и в X главе, где сказано об исполнении пророчеств о Христе и дана отсылка к пророчеству Исайи о рождении Его от девы.
В литературе фрагмент диспута на тему, может ли женская утроба вместить Бога, не рассматривался в контексте вероучительных интересов Константина Философа. Соответствующее место спора с иудеями воспринято как пример диалектической находчивости Константина Философа [10: 31]. Однако такая трактовка не раскрывает всей содержательности фрагмента, в этой части интерпретация Жития еще не имеет исчерпывающей полноты. Этот фрагмент перевода, значимый для понимания текста ЖК, представляет несомненную ценность и для текстологических исследований самой Библии, поскольку весь перевод Аквилы не сохранился. Считаем, что он включен в текст ЖК вовсе не только как художественный прием обрисовки находчивости славянского первоучителя. Он является свидетельством того понимания догматов Символа веры, которое было актуальным в эпоху, когда жил Константин Философ, и что православное учение о Троице и антиарианский догмат о рожденности Бога Сына были осмыслены св. Кириллом и разъяснялись носителям иных религий еще до миссии в моравские земли. Не приходится сомневаться поэтому и в том, что в ходе Великоморавской миссии перед ним вместе с необходимостью организации богослужения на славянском языке стояла и задача разъяснения сложных вероучительных догматов православия теперь уже славянскому народу.
ОТРАЖЕНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ХРИСТОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В ГЛАГОЛИЦЕ
Как показано в ряде предшествующих публикаций автора, учение о правой вере было выражено на славянском языке не только в переведенном Евангелии и других богослужебных текстах, но и в коде созданной св. Кириллом азбуки глаголицы. Знаки с явной христологической символикой были определены как средства визуального обозначения христологического религиозно-философского смысла, очевидно, еще на этапе предыдущей миссионерской деятельности. К таковым мы относим знаки Иже (на круге) и Слово, визуально передающие мессианство – нисхождение и восхождение; Еръ, по форме совпадающий с человеческим эмбрионом, – символ человеческой рожденности Христа; Хлъ, солнцеобразный знак с четырьмя отходящими спиралевидными лучами, – символ энергийной природы и движе- ния. Эти четыре знака как бы скрепляют структуру глаголицы в символическую матрицу. Азбучный матричный принцип кодирования заключается в том, что символизация христологи-ческого содержания распределяется в структуре азбуки на заданное количество строк – три первых знака завершают три десятизнаковых ряда. Хлъ, сохранившийся только в отдельных текстах (Ассеманиевом евангелии, Синайской псалтыри и Мюнхенском абецедарии), занимал тридцать третье место в глаголице.
Каждое из этих начертаний наделено целостной условно-образной семантикой. Значимо не только использование христианских символов (в трактовке Г. Чернохвостова8), обозначающих Бога и Троицу, но еще и определенная их конфигурация. Вместе два знака Иже (на круге) и Слово представляют собой графический символ Нисходящего и Восходящего, а своими фонетическими значениями они указывают на Иисуса и представляют собой Его имя в подтитловом написании, как оно и оформляется в старших глаголических памятниках, например в Ассемани-евом ев., Зографском ев., Мариинском ев. Основой для символизации служит содержательный контекст Евангелия от Иоанна, в котором последовательно развивается идея о нисхождении и восхождении Спасителя. Буква Еръ, завершающая третий ряд азбучной матрицы, имеет не менее символическое содержание. В предлагаемом здесь контексте этимология этого имени правдоподобно выглядит в сопоставлении с греч. ἱερόζ ‘божественный, священный’9. Еръ, совпадающий по форме с человеческим зародышем, есть символ плода во чреве, плода в утробе, о котором говорится в Библии как о благословенном даре Бога: «…благословит плод чрева» (Вт. 7:13); «…и благословен плод чрева Твоего!» (Лк. 1:42); «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева» (Пс. 126:3). Еръ в синтагме глаголической матрицы является знаком естественного, «человеческого» рождения Христа. Отражение этого содержания в матрице миссионерской азбуки не только вполне закономерно, но и весьма значимо. В этом азбучном решении проступает преданность св. Кирилла догматам правой веры. Еще свежи были отголоски дискуссии о свойствах трех ипостасей Троицы и о первородстве Сына. Нерождаемость Отца, рождаемость Сына и исхождение Духа от Бога Отца были определены константинопольским православным священством как важнейшие свойства Троицы. Самим св. Кириллом они обозначены в первых строках Написания о правой вере: «…отчее оубо есть нерождение… сновнее же есть рождение. духа же исхождение». В четвертом ряду алфавита особое значение для понима- ния идеи матричной организации алфавита получает буква, которую Черноризец Храбр назвал Хлъ. На основании Мюнхенского абецедария и Азбучной молитвы Хлъ определяется как тридцать третий знак глаголического алфавита. Четыре спиралевидных луча, отходящих от круга, сближают знак с солнечно-световым, энергий-ным образом. Символическое содержание знака Хлъ выявляется в результате структурно-семантического анализа контекстов, в которых он зафиксирован в древнеболгарских рукописях Ас-семаниева евангелия и Синайской псалтыри (в соотнесении с Болонской псалтырью). В ткани христианского вероучения аллегорический образ холма – один из символов Христа10.
Итак, основная идея христианского вероучения выражена в глаголической матрице, в последовательности 10-го, 20-го, 30-го и 33-го знаков, троекратно на разных кодовых азбучных уровнях: на фонетическом, на уровне имен букв, а также на графическом уровне. Мысль о Спасителе запечатлена в графических символах, совершенных по красоте и выразительности. Последовательность четырех глаголических знаков образует символический текст, своеобразную эмблему, заключающую в себе доктрину Православия, «азбучный Символ веры». При соотнесении с Никейским Символом веры отмечаем соответствие содержания матрицы глаголицы смысловому комплексу о нисходящем, восходящем, рожденном и грядущем со славой, относящемуся к Сыну в Никейском Символе веры:
«πιστεύω εἰς ἕνα θεόν… καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν χριστόν… γεννηθέντα… κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα… καὶ ἐνανθρωπήσαντα… καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς… καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης…».
Связь славянской азбуки с Евангелием и Ни-кейским Символом веры комплексна: она отражена в символическом содержании имен букв, их начертаний и фонетических значений. Совпадение смысла матрицы глаголицы и догматов о Христе, утвержденных Символом веры, естественно и закономерно. Первая славянская азбука концептуально и визуально закрепила важнейшие смыслы христианского вероучения, заключенные в текстах Нового Завета – божественность Спасителя, нисшедшего, рожденного и претерпевшего воплощение и вознесение.
ВЫВОДЫ
Анализ наследия св. Кирилла показывает, что общей, сквозной темой в нем является тема правой веры, служения ей и ее утверждение. Главные положения учения о правой вере связаны с христологическими смыслами о Боге Сыне, рожденном, а не сотворенном, сошедшем с небес, и вочеловечившемся, и вновь восшедшем на небе- са. В кирилло-мефодиевском наследии эти евангельские смыслы находят выражение на всех языковых уровнях: содержательном (в комплексе отстаиваемых идей), дискурсивном (в текстах кирилло-мефодиевского канона), лексическом (в последовательном обозначении концепта правой веры) и на кодовом уровне азбуки глаголицы. Корреляция между евангельским текстом, Символом веры, житиями святых и символическим кодом первой славянской азбуки служит важнейшим семиотическим основанием реконструкции и доказательством атрибуции глаголицы св. Кириллу. Таким образом, христоцентризм характеризует и все текстовое кирилло-мефо-диевское наследие, и начальную письменную систему, созданную св. Кириллом. Эта ориентации на высший символ православной традиции продолжилась в русской словесности.
Список литературы Евангельское начало славянской письменной традиции
- Бычков В. В. Corpus areopagiticum как один из философско-эстетических источников восточно-христианского искусства / II Международный симпозиум по грузинскому искусству. Тбилиси, 1977. 12 с.
- Верещагин Е. М. Церковнославянская книжность на Руси: лингвотекстологические разыскания. М., 2001. 608 с.
- Карпенко Л. Б. Глаголица св. Кирилла: к истокам славянской духовности // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2009. № 2. С. 16–39.
- Карпенко Л. Б. Смысловой комплекс о Христе Никейского Символа веры в азбуке св. Кирилла // Миссионерский, филологический и культурный вклад святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в просвещение славянских народов, его значение в контексте дальнейшего углубления связей Греции и России: Междунар. науч. русско-греческая конф. под эгидой Вселенского патриархата. Ираклион, 4–7 ноября 2016. Ираклион, 2016. С. 14–17.
- Карпенко Л. Б. Концептуализация доктрины правой веры в наследии святых Кирилла и Мефодия // Лингвокультурологические исследования. Логический анализ языка. Понятие веры в разных языках и культурах / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, М. Л. Ковшова. М., 2019. С. 553–563.
- Карпенко Л. Б. Глаголица и Символ веры: к вопросу о христологическом содержании первой славянской азбуки // Palaeobulgarica. 2020. № 4 (XLIV). С. 47–70.
- Kипарский В. Р. О происхождении глаголицы // Климент Охридски: Материали за неговото чествуване по случай 1050 години от смъртта му. София, 1968. C. 91–97.
- Лосев А. Ф. История античной эстетики: Поздний эллинизм. М., 1980. 766 с.
- Синицына Н. В. Послание константинопольского патриарха Фотия князю Михаилу Болгарскому в списках XVI в. // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XXI. М.; Л., 1965. С. 96–125.
- Топоров В. Н. Слово и премудрость («Логосная структура»): «Проглас» Константина Философа (к кирилломефодиевскому наследию на Руси) // Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. Первый век христианства на Руси. М., 1995. С. 18–256.
- Флоря Б. Н. Комментарии к Житию Константина // Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. С. 105–142.
- Николова Св. Проблемът за философските възгледи на Константин-Кирил // Кирило-Методиевски студии. Кн. 5. София, 1988. С. 17–48.
- Николова Св. Съвременните Кирило-Методиевски изследвания в Европа – посоки, резултати, перспективи // Palaeobulgarica. 2019. Т. 43, № 2. С. 3–18.
- Birnbaum. H. Some remaining puzzles in Cyrillo-Methodian studies // Slovo. 1999. № 47–49. Р. 7–32.
- Daunton-Fear A. Can we hear the spoken words of Gregory of Nazianzus? // Scrinium. 2017. № 13. Р. 72–75.