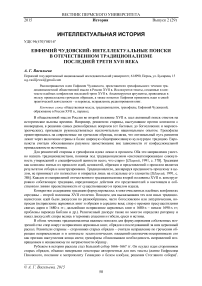Евфимий Чудовский: интеллектуальные поиски в отечественном традиционализме последней трети XVII века
Автор: Васильева А.Г.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Интеллектуальная история
Статья в выпуске: 2 (29), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются идеи Евфимия Чудовского, представителя грекофильского течения традиционалистской общественной мысли в России XVII в. Исследуются тексты, созданные в контексте идейных конфликтов последней трети XVII в. Анализируются аргументы, приводимые в пользу превосходства греческих образцов, а также попытки Евфимия применить идеи в своей практической деятельности - в переводе, исправлении, редактировании книг.
Общественная мысль, традиционализм, грекофилы, евфимий чудовский, образование в России xvii в, перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/147203638
IDR: 147203638 | УДК: 94(470)"08/16"
Текст научной статьи Евфимий Чудовский: интеллектуальные поиски в отечественном традиционализме последней трети XVII века
В общественной мысли России во второй половине XVII в. шел активный поиск ответов на исторические вызовы времени. Например, ревнители старины, выступавшие против контактов с иноверцами, в решении самых разнообразных вопросов (от бытовых до богословских и мировоззренческих), призывали руководствоваться исключительно национальным опытом. Грекофилы ориентировались на современные им греческие образцы, полагая, что оптимальный путь развития лежит через включение страны в более широкую общеправославную культурную традицию. Европеисты считали обоснованным разумное заимствование вне зависимости от конфессиональной принадлежности источника.
Для ревнителей старины и грекофилов идеал лежал в прошлом. Оба эти направления уместно назвать традиционалистами, понимая под традиционализмом «систематизированную совокупность утверждений о специфической ценности всего, что старо» [ Шацкий , 1991, с. 378]. Традиция как комплекс взятых из прошлого идей, ценностей, образцов и представлений о прошлом является результатом отбора и конструирования. Традиционализм, декларируя преданность прошлому в целом, не принимает его полностью и опирается лишь на отдельные его элементы [ Шацкий , 1991, с. 386]. Каждое из направлений отечественного традиционализма второй половины XVII в. конструировало собственную традицию, определявшую действия его представителей в настоящем и собственную линию преемственности от существовавшего в прошлом идеала.
Конкретное содержание традиции формулировалось в многочисленных идейных конфликтах середины – второй половины XVII столетия. Поводом для высказывания тех или иных традиционалистских идей были дискуссии по разнообразным, часто богословским или литургическим, вопросам (исправление церковных книг и обрядов в середине века; спор о времени пресуществления святых даров в 1680-х гг.; дальнейшее исправление церковных книг в 1680-х – начале 1690-х гг; проблемы перевода Библии и др.). Религиозный дискурс также во многом определял риторику и накал дискуссий: споры велись в терминах спасения и гибели, ереси и истины.
В обоих течениях традиционализма важным поводом для формулирования собственных воззрений стал спор вокруг исправления церковных книг, обрядов и последовавший за ним церковный раскол. Ревнители старины – сторонники старых обрядов – считали исправление по греческим образцам неприемлемым и в контексте эсхатологических ожиданий однозначно воспринимали его как признак наступления конца света; грекофилы обосновывали необходимость исправлений возвращением к искаженному по неграмотности образцу.
Рубежом в истории раскола стал Большой собор 1666–1667 гг. Он осудил идеи сторонников старых обрядов, объявил неверными некоторые авторитетные для них тексты (житие Евфросина Псковского, послание к митрополиту Геннадию о белом клобуке, решения Стоглавого собора)1.
Лидеры старообрядцев были сосланы, их сторонники преданы анафеме. Решения собора определили маргинальный статус ревнителей старины и их последователей, но конфликт не был исчерпан: в дальнейшем обеими сторонами был создан значительный корпус произведений, отстаивающих превосходство той или иной традиции.
Особенно важным для грекофилов было противостояние сторонникам западной, латинской, культуры. В последней трети XVII в. споры между грекофилами и латинствующими разворачивались по поводу перевода Библии и Кормчей книги, времени пресуществления святых даров, организации и структуры высшей школы в Москве и по другим вопросам.
Одним из самых ярких представителей грекофильского течения был Евфимий Чудовский, келарь Чудова монастыря, редактор, справщик, переводчик. Ученик и сотрудник Епифания Слави-нецкого, он с 1651 по 1659 г. был справщиком Московского печатного двора, затем келарем Чудов-ского монастыря. В 1670 г. снова прикреплен к правильне Печатного двора, где принимал активное участие в подготовке выходивших в это время книг. В 1690 г. был отстранен от справы и уехал, однако затем вернулся в Чудов монастырь в Москве, где остался келарем до своей смерти в 1704 г. [ Исаченко-Лисовая , 1992].
Не все детали его биографии хорошо известны (так, неясны причины десятилетнего перерыва в деятельности на Печатном дворе, с 1659 по 1669 г.), однако именно этот человек принимал участие практически во всех интеллектуальных конфликтах последней трети XVII в. и активно отстаивал собственную точку зрения в каждом из них.
Внимание исследователей привлекали отдельные области его деятельности – перевод [ Исаченко , 2009; Strakhov , 1998; Матхаузерова , 1976 и др.], участие в споре о времени пресуществления святых даров [ Миркович , 1886; Панич , 2004 и др.], участие в исправлении церковных книг [ Крылов , 2009; Никольский , 1896; Мансветов , 1883; Сменцовский , 1900 и др.], его поэтическое творчество [ Панченко , 1973; Сазонова , 2006].
Исправление церковных книг, начатое патриархом Никоном, продолжалось при патриархе Иоакиме. В числе прочих в 1689–1691 гг. были изданы богослужебные месячные Минеи. Месячные Минеи содержат службы на каждый день года, в том числе торжественные службы на праздники, приходящиеся на тот или иной день месяца. Издание разделялось на 12 томов по месяцам, требовало значительной подготовительной работы, было достаточно объемным и дорогостоящим [ Крылов , 2009, с. 131].
В 1683 г. была создана специальная комиссия по подготовке издания Миней. Первые тома были напечатаны в 1689 г. Перед печатанием книги прошли еще несколько этапов проверки и редактирования, один из которых осуществлял Евфимий Чудовский [ Крылов , 2009, с. 184]. Однако 17 июля 1690 г. указом царей Ивана и Петра Евфимий был отстранен от справы, так как «от техже приписных ево евфимьевых нововводных странных речений которые в тех месечных минеях напечатаны многие люди сумневаютца и в церквах божиих чинятся мятежи и их великих государей денежной казне от переделок убытки многие»2. Г. Крылов в своей работе, посвященной исправлению Миней, на основе анализа корректурных экземпляров и значительного числа документов Московского печатного двора реконструирует ход этой справы. По его мнению, озвученные указом «мятежи» и «убытки» были лишь поводом, причиной отстранения он считает личное неприятие самого Евфимия и его переводческих принципов если не коллегами-справщиками, то мирской и церковной элитой [ Крылов , 2009, с. 197].
Во второй половине 1690 г. Евфимий написал трактат «О исправлении в преждепечатанных книгах минеах некиих бывших погрешений в речениих: и о по зависти диавольстей бывшей на тая исправления лживой клевете, и о препятии дела онаго святого»3, в котором изложил собственную версию событий и, что особенно важно, сформулировал принципы справы и перевода, которыми он руководствовался в своей работе.
Евфимий отстаивал необходимость исправлений, произведенных им в соответствии с греческими книгами, и аргументировал превосходство именно этого источника. Он считал, что греческий язык сам по себе является источником истины, поскольку это язык священных текстов: «И яко неможно есть на ином коем диалекте без еллинскаго совершенно богословсвити, того ради и священный символ главизна веры нашея сложися еллинским диалектом: и на всех синодех селенских святии отци излагаху догматы и уставы, и каноны вся еллинским диалектом»4. Поэтому переводить священные тексты нужно особенно тщательно, максимально близко к оригиналу: «И нетокмо ре- чение лежаще во святом писании пременити не безбедно есть, но и само строчное препинание, за-пяту или точку не на подобающем месте положити, велику творит тщету, и разум писания растле-вает»5. Евфимий повторил общий для грекофилов тезис: российские церковные книги были некогда переведены в точности с греческих, но затем в них по небрежности переписчиков накопилось много ошибок, и теперь они нуждаются в исправлении, в приведении в соответствие с греческим оригиналом и близким к нему древним славянским переводом, что и было сделано по указу патриарха Иоакима. Однако, описывая плачевное состояние исправляемых Миней, Евфимий сосредоточил внимание на грамматике: «Обретошася же в тех правленных книгах, неведомо по какому случаю, речения многая оставленная неисправлена, по грамматическому художеству во временех и лицех. Втораго лица глаголы премножайшии, третиим лицем писаны, еже зело не лепо тако быти. Подобне и времена помешена, место настоящего прошедшее, место будущего настоящее, и иная место иных, и самая речения яже согласна обретаются в греческих и славенских харатейных рукописных, обретошася в етих книгах несоглашенна»6. Он последовательно и подробно разбирал конкретные примеры словоупотребления, согласования слов, постановки знаков препинания, случаи замены одного синонима другим, в отдельных ситуациях настаивая на «дословном» [Матхаузеро-ва, 1976, с. 41], а то и «поморфемном» [Исаченко, 2009, с. 72] переводе.
В «Книге...» Евфимий лишь сформулировал концепцию перевода, которой следовал. Т.А. Исаченко на основе анализа значительного корпуса переведенных Евфимием книг проследила реализацию этой концепции и пришла к выводу, что он стремился к «грецизации» на всех уровнях текста: «На уровне лексики данная тенденция реализуется в обильном и не всегда мотивированном притоке иноязычных слов, на уровне синтаксиса – в элементах греческого управления, греческой структуры фразы, на уровне акцентологии – в следовании греческой системе ударений в заимствованных словах, на уровне орфографии – в грецизирующем начерке, переходящем в пографемное воспроизведение облика заимствуемого слова» [ Исаченко , 2009, с. 72] .
В первой половине 1680-х гг. в Москве развернулась борьба вокруг открытия высшей школы в Москве. Взгляды латинствующих на организационную структуру, функции, программу предполагаемого высшего учебного заведения выражает «Привилегия на академию». Исследуя этот документ, Б.Л. Фонкич пришел к выводу, что он был создан Сильвестром Медведевым на основе разработок его учителя Симеона Полоцкого [ Фонкич , 2009, с. 206]. Первая версия «Привилегии», подготовленная для царя Федора Алексеевича, была закончена в апреле 1682 г. Однако документ не был утвержден царем, а может быть, не был им рассмотрен [ Фонкич , 2009, с. 216]. С небольшими поправками «Привилегия» была представлена царевне Софье Алексеевне в январе 1685 г.
«Привилегия» предполагала создание в России Академии, в которой изучались бы «науки гражданския и духовныя, наченше от грамматики, пиитики, реторики, диалектики, философии ра-зумителной, естественной и нравной, даже до богословии учащей вещей божественных и совести очищения» [ Фонкич , 2009, с. 224], а также славянский, греческий, польский и латинский языки [ Фонкич , 2009, с. 228]. По мнению Б.Л. Фонкича, «изложенная программа была аналогична программам учебных заведений, существовавших в Европе, Константинополе и на Украине в начале 17 в». [ Фонкич , 2009, с. 207].
Грекофилы вряд ли были знакомы с «Привилегией», но, вероятно, знали о существовании этого документа и о том, что он готовился для представления царевне. Альтернативная точка зрения была сформулирована грекофилами в двух трактатах: «Рассуждение, учитися ли нам полезнее грамматики, риторики, философии, и теологии, и стихотворному художеству, и оттуду познавати божественная писания или, не учася сим хитростем, в простоте Богу угождати и от чтения разум святых писаний познавати? И [о том,] что лучше российским людем учитися греческаго языка, а не латинскаго»7 и «Довод вкратце, яко учения и язык еллиногреческий наипаче нужно потребный, нежели латинской язык и учения и чем ползует славенскому народу»8.
«Рассуждение...» было написано Евфимием Чудовским в конце 1684 – начале 1685 г. В нем он обстоятельно перечислял причины, по которым «греческий язык и учение того знати потребн-шее есть и полезншее по многим винам»9. Во-первых, славянский схож с греческим по начертанию букв, частям речи, лексике. Автор на конкретных примерах рассматривал детали перевода с одного языка на другой и пришел к выводу: «Зри, како согласен словенский язык со греческим, учаяся тому, не погрешит истины о богословии»10. Во-вторых, священные тексты первоначально были написаны именно по-гречески и с греческого переведены на славянский, т.е. греческий сам по себе яв- лялся носителем некоей божественной истины. Для автора язык неотделим от вероучения, соответственно греческий язык по определению православен, а латинский грешен: «Яко убо учение греческое наипаче в богословии истина и свет и яко латинское учение нам непотребно, доволно показа-ся: нуждно явити, яко латинское о богословии учение растленно и губително и к прелести тех удо-боотводително»11. Кроме отцов церкви Евфимий ссылался на Максима Грека и Епифания Слави-нецкого; упоминал издание «грамматики грекославенския» во Львове в 1658 г., цитировал грамоту об учреждении в России патриаршества, где говорилось о том, что московскому патриарху следует «быти во всем согласну и купночинну» с вселенскими патриархами, а «согласие и купночин-ность»12 для него возможны только при совместном изучении славянского и греческого языков. Автор делает вывод: «Отвсюду благословение дадеся явленно, яко от Бога и архиереев, еже учити-ся славяном по-гречески»13.
«Довод вкратце, яко учения и язык еллиногреческий наипаче нужно потребный, нежели латинской язык и учения и чем ползует славенскому народу» датируется исследователями началом 1685 г. [ Фонкич , 2009, с. 236]. «Довод...» демонстрировал большую осведомленность в «латинском учении» и, по мнению Фонкича, «явился результатом труда не одного Евфимия, но всей группы его сторонников» [ Фонкич , 2009, с. 236]. В отличие от «Рассуждения…», в котором внимание сосредоточено на достоинствах греческого и недостатках латыни, в «Доводе...» внимание сосредоточено на том, что превосходство греческого признается самим латинским миром. В тексте приводятся свидетельства европейских историков (Цезаря Барония, Антония Поссевина и др.) о том, что «не токмо писма от греков, но и всякие книги церковные и гражданские, и всякие обычаи славенский народ от них принял и до сего дня ненарушимо держит»14, упоминаются античные авторы (Квинтилиан, Демосфен, Гораций и др.), говорящие о превосходстве греческого языка и учености. Греческие академии существовали во многих европейских странах, и после взятия Константинополя многие греческие ученые оказались в Европе «приедучи ворварию разыпали и искуство языком к нам приведо-ша»15. В целом же «сами латини во всех своих академиях и по се время, яко основание себе предлагают и вкупе учатся греческому и латинскому языку, зане иное основание, кроме греков во всех свободных учениях, хотя и много трудилися, вымыслити не могут»16.
Впрочем, более значимо для Евфимия то, что древнейший перевод Ветхого Завета был сделан с еврейского на греческий, на греческом написан Новый Завет, «потом седмь сбори вселенские в Грецыи от греков наипаче святых отцов и собрани и правилы их написаны; притом Символ пра-вославныя веры в первом Никейском соборе греческим языком издадеся»17. В целом же «Греческое учение болшую славу причиняет, нежели латинское, понеже латинский язык общий и не так в чести, яко греческий»18.
Более подробно и основательно превосходство греческого перевода Ветхого Завета над латинским Евфимий отстаивал в другом тексте середины 1680-х гг. ‒ «Обличение на гаждателей священного писания Библии преведеныя из еврейскаго на еллинский диалект богомудрыи мужы духа святого, и мудрости наполненными семдесят двема преводници»19. Вопрос о переводе Библии был актуален в Москве во второй половине XVII в. Изданная в 1663 г. Библия была напечатана с Острожской и содержала лишь незначительные обновления текста [ Исаченко , 2002б, с. 79]. В 1673 г. по благословению церковного собора Епифаний Славинецкий с помощниками начал работать надо новым переводом Библии, однако до своей смерти в 1675 г. не успел его закончить: Ветхий Завет не был переведен, а переведенный Новый Завет не был вычитан. Работа была продолжена в 1678–1679 гг., в том числе при участии Евфимия Чудовского [ Исаченко , 2002б, с. 79]. Основные сведения об этой работе известны из записки, опубликованной Е. Болховитиновым20. Автор текста указывает, что Новый Завет переводился «с книг греческих самых седмидесятых преведения»21, перечисляет источники, которыми пользовались справщики, и людей, принимавших участие в этой работе.
Однако наряду с переводами с греческого в 1670–1680-х гг. был сделан ряд переводов отдельных частей Ветхого Завета на основе польских и латинских источников. В 1671 г. строитель Чудовского монастыря Моисей перевел Книгу Иова. Источниками для этой работы послужили перевод библии с латыни на польский Якова Вуйка и перевод на латынь св. Иеронима [Исаченко, 2002а, с. 70]. В дальнейшем Моисей принимал участие в работе над переводом в коллективе Епи-фания Славинецкого. В 1680 г. в Верхней типографии вышла «Псалтырь рифмотворная» Симеона Полоцкого, образцом которой послужил польский текст Яна Кохановского [ Державина , 1982, с.
Автор «Обличения...» не принимал переводы священного писания с польского варианта Якова Вуйка и латинского варианта Иеронима, противопоставляя их греческому переводу 70 толковников. «Неций человек, сущий грческого православия, приучившеса полского языка писмен знанию, начаша прочитати полския еретическия книги. И от неискуства разума божественных писаний, чтуще библию преводу Иеронима и иезуита Иакова Вуйка, обретоша тамо написанныя хулы и укоризны, лживая на священную библию преводу богомудрых мужей семдесяти двух преводников, древле преведенную, силою и действием святаго духа, с еврейских на еллинский язык»22. Греческий перевод для Евфимия единственно верный. Во-первых, его создание сопряжено с явным вмешательством божественных сил: автор подробно пересказывал легенду о том, как 72 переводчика по приказанию Птолемея Филадельфа, находясь отдельно друг от друга, перевели Ветхий завет с еврейского языка на греческий совершенно одинаково. Автор утверждал, что именно этим греческим текстом пользовались апостолы и сам Спаситель и именно этот перевод использовался в дальнейшем всеми отцами церкви и Вселенскими соборами. «И от тояже книги седмде-сятных преводников и наша словенская библия. И аще где что и обрящется в нашей славенстей библии яковое несходство, или погрешение, (обретоется бо в некиих местех) и тое исправляти подобает с тояжде греческия библии от преводников, а не с полских, ниже с латинских (по некиих баснословию), понеже латинская библия преведеся иеронимом латинским учителем, с еврейских уже растленных книг»23.
В 1680-х гг. Евфимий Чудовский вместе с Афанасием Холмогорским и братьями Лихудами участвовал в полемике о времени пресуществления святых даров. Ему принадлежат трактаты «Показание на подверг латинского мудрования»24 и «Опровержение латинского учения о пре-существлении»25, сборник «Остен»26. Кроме того, он принимал участие в составлении сборника «Щит веры». Как и предыдущие конфликты по богословским и литургическим вопросам, спор о времени пресуществления был в значительной мере культурным конфликтом [ Миркович , 1886; Панич , 2004]. Кроме собственно литургических и богословских аргументов и ссылок на имена и произведения святых отцов и богословов использовались и менее рациональные аргументы. Автор противопоставлял «разглагольство учителей православных ко учеником их, не от себе самих (яко зде) разглагольствуемое, но от св. апостолов и св. вселенских синодов и иных многих святых учителей древних богословов словесы и разуменми свидетелствованное и утвержденное»27 «нынешним книгам, в Киеве печатанным»28 . В этом же споре снова поднималась проблема отношения к иностранным языкам и латинской культуре: в уста авторитетного для грекофилов Епифания Сла-винецкого вкладывалась резко негативная ее оценка: «Учащемуся кому латински и чтущему книги латинския, греческих неведущему, не можно во всем совершенно православну быти, яко Епифаний Славинецкий, иеромонах, муж многоученый еллински и латински, сказа Симеону некоему Полоцкому, о ученых латински точию, глаголя: "Иже училися точию по-латински, и чтут книги латин-ския, и оттуду о пресуществлении тайны святыя евхаристии и о иных некиих неправо мудрствуют, не ведят бо истинны восточныя Церкве, заеже гречески не училися и книг гречских не чтут и того ради о сем истинны не ведят и пишут противно восточному православию и велми в сем грешат, держаще мысль латинскую от неведения"»29. Завершением спора можно считать 1690 г., когда на церковном соборе была официально осуждена точка зрения латинствующих. Сильвестр Медведев, главный ее выразитель, был расстрижен и отказался от своих взглядов, его «Покаянное исповедание» включено в сборники «Остен» и «Щит веры». В 1691 г. он был казнен по обвинению в заговоре против царя Петра.
В послании патриарху Адриану, включенном в одну из редакций сборника «Щит веры», Евфимий Чудовский сформулировал свое отношение к латинской учености еще более жестко: «к сему вдашася ныне премноги детищи вместо благословенного святейшими греческими и всероссийским Иоакимом патриархом еллино-славенскаго учения латинскому учению, от него же ничесому быти благому надятися, кроме противности и рати на святую Церковь»30. Само противостояние с латинствующими он расценивал как борьбу истинной церкви с многочисленными ересями, и оружие в этой борьбе – книги авторитетных богословов. Автор перечислял переведенные им книги как древних, так и современных греческих авторов и обращался к патриарху с просьбой издать их: «Благоволи, государь, по своей архипастырской должности очеса слепым отверсти, и разум несмысленных светом воумления просветити, и ушесем глухих слово Божие внушити – предпомя- ненныя греческия новопреведенныя сятыя книги печатным тиснением издати и освященным мужем подати, и противу им вооружатися, и ратовати я, а от них и их блядословий защищатися»31.
Таким образом, в идейных конфликтах последней трети XVII в. Евфимий Чудовский последовательно отстаивал превосходство греческих образцов. В рассмотренных нами концептуальных текстах Евфимий конструировал собственную традицию: выстраивал систему аргументов в пользу превосходства греческого языка над латынью, ссылался на труды богословов и историков. Однако свой главный тезис о том, что греческий язык по своей природе является источником истины и поэтому необходим, Евфимий стремился реализовать на практике. Об этом говорят значительное число и состав переведенных им текстов, характер переводов, а также специфика произведенных им исправлений в церковных книгах.
Традиционалист Евфимий декларировал возвращение к уже утраченному идеалу путем изменения существующего положения вещей, но в отдельных аспектах своей деятельности являлся бóльшим новатором, чем осуждаемые им сторонники европейских образцов.
Список литературы Евфимий Чудовский: интеллектуальные поиски в отечественном традиционализме последней трети XVII века
- Strakhov O.B. The Byzantine Culture in Muscovite Rus'. The case of Evfimii Chudovskii (1620-1705). Koln, 1998
- Державина О.А. Симеон Полоцкий в работе над Псалтырью рифмотворной//Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность. М., 1982
- Исаченко Т.А. Книга Иова в переводе монаха Чудова монастыря Моисея (1671 г.): особенности языка и историко-литературный контекст//Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2002. № 4
- Исаченко Т.А. Новый Завет в переводе иеромонаха Чудова монастыря Епифания (Славинецкого) последней трети XVII в. Особенности перевода и языка//Вопросы языкознания. 2002. № 4
- Исаченко Т.А. Переводная московская книжность: Митрополичий и патриарший скрипторий XV-XVII вв. М., 2009
- Исаченко-Лисовая Т.А. Евфимий Чудовский//Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1992. Вып. 3, ч.1
- Крылов Г. Книжная справа XVII в. Богослужебные Минеи. М., 2009
- Мансветов И. Как у нас правились церковныя книги: материал для истории книжной справы в 17 столетии (По бумагам архива Типографской библиотеки в Москве). М., 1883
- Матхаузерова С. Древнерусские теории искусства слова. Прага, 1976
- Миркович Г. О времени пресуществления св. Даров: Спор, бывший в Москве во второй половине 17 столетия. Вильна, 1886
- Никольский К. Материалы для истории исправления богослужебных книг. СПб., 1896
- Панич Т.В. Книга «Щит веры» в историко-литературном контексте конца XVII в. Новосибирск, 2004
- Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII в. М., 1973
- Прозоровский А. Сильвестр Медведев. Его жизнь и деятельность. М., 1896
- Сазонова Л.И. Литературная культура России. Раннее Новое время. М., 2006
- Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви. СПб., 1827. Т. 1
- Сменцовский М.Н. Вопрос об исправлении славянского перевода Библии во второй половине 17 в.//Прибавление к церковным ведомостям. 1900. № 28
- Фонкич Б.Л. Греко-славянские школы в Москве в XVII в. М., 2009
- Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1991