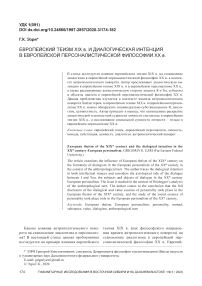Европейский теизм XIX в. и диалогическая интенция в европейской персонаяистической философии XX в
Автор: Эзри Григорий Константинович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 3 (53), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется влияние европейского теизма XIX в. на становление диалогизма в европейской персоналистической философии XX в. в контексте антропологического поворота. Автор прослеживает диалогическую интенцию в европейском теизме XIX в. и в европейском персонализме XX в., а также рассматривает аксиологическую сторону диалога Я и Ты, субъекты и объекты диалога в европейской персоналистической философии XX в. Данная проблематика изучается в контексте анализа антропологического поворота Хайдеггером: в европейском теизме XIX в. и европейском персонализме XX в. можно обнаружить индивидуально-субстанциальное Я, диалогизм, ценностность. Автор приходит к выводу, что полноценное раскрытие диалогической и ценностной сущности личности состоялось в европейском теизме XIX в., а исследование социальной сущности личности - только в европейском персонализме XX в.
Европейский теизм, европейский персонализм, личность, монада, субстанция, ценность, диалогизм, антропологический поворот
Короткий адрес: https://sciup.org/170175956
IDR: 170175956 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24866/1997-2857/2020-3/174-182
Текст научной статьи Европейский теизм XIX в. и диалогическая интенция в европейской персонаяистической философии XX в
Каково влияние антропологического поворота на становление диалогизма и персонализма? В настоящей статье данная проблематика исследуется на примере влияния европейского теизмa XIX ʙ. (как философского направления времен антропологического поворота) на становление диалогизма в европейской пер-соналистической философии ХХ в. Европей- ский персонализм ХХ в. исследовал проблему человека с религиозной (христианской) точки зрения. Подобно европейскому теизму и российскому духовно-академическому теизму ХІХ в. он утверждал персональный (личностный) статус человека и фокусировался на диалогической интенции. Среди европейских персоналистов ХХ в. можно выделить Мунье, Ружмона, Ландсберга, Недонселя, Лакруа, Ма-динье, Марселя, Левинаса, Бубера и т.д. Близки персонализму были Зиммель, Гуссерле, Ортега-и-Гассет, которые исследовали проблематику коммуникации монад и т.д., теологи Тиллих, фон Бальтазар, Барт, Маритен, Жильсон.
В европейском персонализме ХХ в. наличествуют две интенции։ диалогическая и аксиологическая, возникшие в трудах европейского теиста ХІХ в. Г. Лотце. «Ценность по видимости предполагает, что сообразующиеся с нею люди занимаются самым что ни на есть ценным; на самом деле ценность как раз и оказывается немощным и прохудившимся прикрытием для потерявшей объем и фон предметности сущего. ... Надо обратить внимание, для прояснения ХІХ века, на своеобразную промежуточную позицию Германа Лотце, который одновременно и перетолковал платоновские идеи в ценности, и под заглавием “Микрокосм” предпринял “Опыт антропологии”» [29, с. 56].
Как показал Хайдеггер, диалогизм ‒ неотъемлемая часть антропологиче ского поворота, как и формирование философии ценности сущего. «Тезис։ присутствие экзистирует ради себя, не содержит никакого эгоистически-он-тического целеполагания в интересах слепого себялюбия конкретно фактического человека. … Вместо этого он конечно задает условие возможности того, что человек может вести “себя” или “эгоистически” или “альтруистически”. Лишь поскольку присутствие как таковое определяется через самость, я-самость способна вступить в отношение к ты-самости. Самостность есть предпосылка для возможности Я, которое размыкается всегда только в Ты» [30, с. 202‒203]. Также немецкий мыслитель задавался вопросом։ «Кто такой… сам человек? Есть ли он простое Я, которое впервые по-настоящему утверждается в своем Я лишь через обращение к Ты, потому что существует в отношении Я к Ты?» [30, с. 232].
Философия европейского теизма ХІХ в. хоть и основывалась на монадологии Лейбница, однако в учении теистов монады имеют
«окна» и, соответственно, могут вступать во взаимодействие (диалог). Полноценное исследование «окон» у монад представлено в трудах Лотце и Тейхмюллера. Лотце определял бытие как «пребывание в отношениях» [31, с. 287] и обосновывал персонализм через исследование ценности для-себя-бытия и бытия-для-друго-го [21, с. 74‒76]. То есть в данном случае речь идет о взаимоопределении двух Я. Тейхмюллер обосновывал персонализм через исследование основной онтологической проблемы ‒ проблемы бытия [21, с. 74‒76], а коммуникацию монад считал возможной благодаря существованию т.н. соотносительных точек [6, с. 39]. Таким образом, через раскрытие монад теисты ХІХ в. актуализировали проблему коммуникации (диалога) монад (личностей), однако свое комплексное решение она получила лишь в ХХ в.
Ярким представителем философии диалога, становление которой произошло в ХХ в., является Мартин Бубер. Он был знаком с монадологией [9, с. 342‒420] и рассмотрел проблему взаимодействия Я и Ты, вариант решения которой предложил, изучив опыт хасидской общины [20, с. 71‒96]. Бубер был учеником Зиммеля [8], который защитил свою диссертацию «Монадология» с опорой на атомизм Фехнера [14, с. 529, 555] и обосновал возможность коммуникации между монадами. Зиммель показал, что монады, «каждая из которых представляет мир иначе», тем не менее находятся в абсолютной гармонии друг с другом, как зеркала։ «изображение каждого зеркала отличается от изображения других зеркал, но они не могут противоречить друг другу, ибо отражают один и тот же объект» [13, с. 192‒193]. Кроме того, в деятельности монады порождают ценности, выражающие достигнутый результат и подлинную природу человека, сущность которой ‒ деятельность. Деятельность как таковая есть путь от данного, единичного к идее, к смыслу бытия. «Быть может, этим объясняется также то, что он столь часто говорил о действии и его необходимости, о неустанной деятельности, в которой должна пребывать «монада» личности, не указывая при этом, для чего следует действовать, на что должна быть направлена эта деятельность» [16, с. 281]. В данных обстоятельствах монада утрачивает свою абсолютную замкнуто сть и приходит во взаимодействие с другими монадами, предустановленная Богом гармония Лейбница утрачивается и сменяется сообществом монад и трансцендентально-феномено- логической редукцией Гуссерля [19]. То есть мир и его характер меняются, но философия остается лейбницианской, как отмечал Ж. Делез [11, с. 242].
Мунье в работе «Персонализм» [24] показал предшественников французского персонализма, среди которых ‒ Мен де Биран. Он искал Я, посредством которого происходит воздействие на внешний мир через внутреннее усилие, связывающее сознание с непосредственной реальностью. Мен де Биран и Марсель рассмотрели телесное и субъективное существование Я как один и тот же опыт. Ренувье считал, что личность способна испытывать сомнения, сопротивляться опьянению мышлением, отвергать все формы утверждающейся коллективности. Лотце, Бубер обогатили понятие личность, исследовали ее взаимоотношения с миром и другими существами. По мнению Мунье, личность априори направлена на другую личность, транс-цендентна по своей природе, которой производственная деятельность без цели противоречит. С этих позиций он критиковал Сартра, приводя различные примеры обозначения направленности личности на другие личности и мир։ интен-циальность Гуссерле, свидетельствование Марселя и т.д. [24, с. 84].
Монадологические воззрения близки и Ортега-и-Гассету. Фриденлендер описал трактовку мира в учении испанского философа следующим образом։ «Вселенная, в понимании Ортеги, в известной мере напоминает мир монад Лейбница, то есть мир, состоящий из бесчисленных заряженных энергией “малых миров”. Каждый из подобных “малых миров” имеет свой “проект”, заложенную в нем идеальную цель самоосуществления; этот “проект” образует его “идеальное” начало. Реальный же облик каждой вещи определяется тем, насколько ей удается (или не удается) приблизиться к своему “идеальному” началу. Это всецело относится и к человеческой личности» [25, с. 12]. Хосе Ортега-и-Гассет1 критиковал закрытые монады Лейбница: «У Декарта Я поднимается до ранга первой теоретической истины и, становясь монадой у Лейбница, закрываясь в себе, отделяясь от большого Космоса, создает интимный мирок, микрокосм и представляет собой, согласно самому Лейбницу. И поскольку идеа- лизм достигает кульминации у Фихте, у него же Я оказывается в зените своей судьбы ‒ Я есть просто и прямо Универсум, все. Я сделало блестящую карьеру. … однако … поглотив Мир, современное Я остается одиноким, конститутивно одиноким» [26, с. 148].). То есть одиночество монадологического Я требует какого-либо способа «открытия» монады.
Испанский философ выбрал перспективизм как путь «открытия» монад, который сформировался в трудах Тейхмюллера. Как отметила А.Ю. Бердникова, «через идеи Ницше “метод перспективизма” попал в метафизику М. Хайдеггера, у которого он превратился в методическое требование всегда обращать внимание на точку зрения, с которой осуществляется позна‐ ние…, на угол зрения и горизонт, которые за‐ даются этой точкой зрения» [6, с. 36‒37]. Как показала А.Б. Зыкова, «пред став ле нию об ис‐ ти не клас сического рационализ ма как еди ной и общезначимой Ортега‐и‐Гассет противопос‐ та вил на ме чен ный уже Г.В. Лейб ни цем и раз‐ ви тый Ф. Ниц ше принцип перспективизма, со‐ глас но ко то ро му мир вос при ни ма ет ся ка^ж дым че ло ве ком все гда с той или иной точ ки зре ния, в кон тек сте вы ра ба^ты вае мых им лич ных убе‐ ждений, что стало у Ортега‐и‐Гассета формой обос но ва ния мировоззренческого плю ра лиз ма и ис то риз ма» [15]. Сам испанский философ вы‐ ступал против наименования «его» метода пер‐ спективизмом։ «Сегодня не стоит насиловать нашу чувственность, не желающую отказывать‐ ся ни от одного из двух измерений։ временного и вечного. Их соединение должно стать великой философской задачей современного поколения, и решить ее поможет разработанный мною ме‐ тод, который немцы, склонные к навешиванию ярлыков, окрестили “перспективизмом”» [26, с. 59]. Данный метод позволил мыслителю ис‐ следовать жизнь как столкновение «я» и его об‐ стоятельств, как «динамический диалог между индивидуумом и миром» [25, с. 443]. Таким об‐ разом, испанскому философу при исследовании диалогизма удалось обойти проблему ценност‐ ности личности, хотя это скорее исключение, чем правило.
В европейского теизма ХІХ в. существовало две трактовки соотношения понятий «монада» и «субстанция». Во‐первых, монада как инди‐ видуальная субстанция, в которой произведена рефлексия психологического Я ‒ такая логика близка хайдеггеровской интерпретации антро‐ пологического поворота. Во‐вторых, субстан‐ ция как совокупность, набор взаимосвязанных монад (естественно, что для бытия личности необходимо, чтобы одна из монад была способна к апперцепции) ‒ логика панпсихизма, а в дальнейшем развитии ‒ противопоставление личности и вещи.
Критику такого смешения понятий монада и субстанция можно обнаружить в творчестве теологов Маритена и Жильсона, ведь (нео)то-мизм же стко определял субстанции как нечто, состоящее из элементов. В данном случае логика (нео)томизма, как отметил Маритен, такова: «Наконец, разум позволяет увлечь себя мифической концепции человеческой природы, которая приписывает этой природе состояния, присущие чистому духу, предполагает, что в каждом из нас эта природа столь же совершенна и чиста, как и природа ангела, а потому отныне требует для нас как принадлежащих нам по праву полного го сподства над природой, и той автономии высшего порядка, той самодостаточности, … которая подобает чистым формам. Это то, что можно, если придать слову его самый полный метафизический смысл, назвать индивидуализмом... Последний термин находит свое подтверждение в соображениях как исторических, так и доктринальных, ибо именно в картезианском смешении человеческой души с чистым духом, как и в Лейб-ницевом смешении субстанции, какова бы она ни была, с ангельской монадой, коренится современный индивидуализм, здесь он находит свои идейные истоки и свой метафизический образец» [23, с. 215]. В данном случае можно найти аналогии с размышлениями Хайдеггера о переходе онтологии в антропологию (психологию), солипсизма ‒ в эгоизм. Индивидуализм Маритена ‒ это, как представляется, и есть эгоизм Хайдеггера. По мнению Марите-на, по своей сущности монада соответствует ангелам и чистым духам, а не человеческой душе. Происходит смешение природы человека и природы ангела. В этом смысле природа ангела духовно индивидуальнее (не в эгоистическом смысле), чем человеческая. Ангелы, по мнению того же мыслителя, бестелесны, но материальны в ином смысле, чем человек, потому что иначе им не было бы присуще движение. Индивидуация ангелов достигается не за счет умножения представителей одного и того же вида, а за счет увеличения количества видов, родов. Это делает ангелов более совершенными, чем люди.
У Жильсона и Маритена можно встретить следующие случаи употребления понятия «субстанция». Жильсон в работе «Философ и теология» отмечал, что «субстанция есть чистый акт бытия», теология св. Августина и св. Фомы Аквинского субстанциально едина, вера ‒ «субстанция христианской философии» [17]. В работе Маритена «Томизм» можно обнаружить следующие контексты употребления понятия «субстанция»։ «Своим совершенством вселенная обязана, прежде всего, заключенным в ней отдельным субстанциям. Поэтому, если умножение особей одного вида заменяется умножением видов, это не умаляет, а увеличивает совершенство мира в целом». По мнению Маритена, душа человека ‒ нематериальная субстанция, также «душа и тело суть две неполные субстанции, соединение которых образует полную субстанцию, то есть человека». Более того, «способ познания сущности (субстанции) всякой вещи определяет собою характер наших знаний об этой вещи», субстанция Бога ‒ это Его существование [16, с. 23, 216, 228, 244‒245].
Таким образом, в данном случае критика европейского теизма ХІХ в. определяется различием в философских системах. Аристотелевская концепция родо-видовых различий не позволила определить множество людей как множество индивидуально-самостоятельных душ։ души, входящие в индивидуальную человеческую субстанцию, являются формами субстанции «человечности». Более того, (нео) томистская философия видит субстанцию там, где есть какая-то сложно сть. В европейском теизме ХІХ в. понятия «субстанция» и «монада» жестко отнесены к человеку. В критическом персонализме Штерна с полным сохранением такой логики субстанция заменена на личность, а монада ‒ на вещь, что позволило перейти к обобщению и значительно увеличило число личностей (нация, государство как личность и т.д.), что, как представляется, является смешением понятий «индивидуальная субстанция» и «всеобщая субстанция». То есть, несмотря на всю онтологичность введения персонализма при (нео)томистском подходе человеческая личность в нем теряет многое от своей персонально сти.
Итак, в рамках европейского теизма ХІХ в. утверждалась диалогическая интенция (вза-имоопределение двух Я), а в коммуникацию должны были вступать монады, в которых произошла рефлексия психологиче ского Я (инди- видуальные субстанции). Соответственно, диалогическая интенция, интенция взаимодействия и взаимоопределения индивидуально-субстанциальных Я была унаследована европейской персоналистической философией ХХ в. Таким образом, происходил процесс углубления антропологического поворота в европейской философии, т.е. процесс перехода метафизики в антропологию, как и показал Хайдеггер [31].
Как показано выше, антропологический поворот означал переход не только к индивидуально-субстанциальному Я, но и к ценностному измерению бытия. Проблему ценностей исследовал теист Лотце, впервые давший развернутое учение о ценностях и выступивший основателем аксиологии [1]. Именно этот немецкий мыслитель, как отметил Х. Плеснер, оказал большое влияние на аксиологию неокантианцев [27, с. 37]. Хайдеггер показал, что в философии Лотце фактически произошло сращивание учений о человеке и ценностях, сущем и ценностях [29, с. 56]. На это же обстоятельство обратил внимание и Бахтин։ он отнес Лотце к сторонникам эстетики «вчувствования». Представители данного направления эстетики при взаимодействии с другим человеком или неодушевленным предметом пытаются вчувствоваться в него, сопереживают его внутреннему состоянию, деятельности [5, с. 61], т.е. строят коммуникацию с ним исходя из ценностного аспекта бытия.
Русский философ Н.О. Лосский относил Лотце к тем, кто обосновал персонализм через исследование ценности бытия для-себя и для-другого [22, с. 75]. Как отметил Б.В. Марков, немецкий философ сводил ценность к благу как метафизическому атрибуту бытия [22]. Немецкий теолог К. Барт привел следующую цитату Лотце: «Стремление духа объять как реальность высшее… не может быть удовлетворено никакой иной формой бытия, кроме личностной... присутствует столь сильная убеж^денность в том, что живое Я, владеющее самим собой… есть непременное предварительное условие и единственно возможная родина всякого блага и всяческих благ» [3, с. 256]. И в качестве вывода процитировал богослова Ричля: «Признание за богами личностности доказывает, “насколько вели ка ценность, придаваемая религией человеческой духовной жизни”» [3, с. 257]. Однако, как считал Барт, при этом сам подход Лотце к ценностям и личности не был нов, и именно Фейербах говорил о теологии как об антропологии и обожествлении сущности человека [3, с. 258].
Таким образом, труды Лотце заложили базу дальнейшего исследования вопросов аксиологии, а его подход стал основой ряда учений о ценностях и личности в ХХ в.
Диалог Я и Ты с персоналистической точки зрения заключается в определении одного Я через другое Я. Данный аспект Н.О. Лосский описал в категориях порождения смысла [21, с. 77]. То есть диалог Я и Ты ‒ творческий процесс, в котором оба Я взаимно созидают друг друга и придают бытию друг друга ценностность. Диалог Я и Ты можно рассматривать как диалог Бога и человека, как диалог двух личностей (людей) как социальных существ, как диалог двух конкретных личностей (мужчины и женщины), как диалог индивида и общества и как отношения с вещами.
Бог и человек ‒ личностные сущно сти. Это классический христианский подход к проблеме. Фон Бальтазар, Тиллих, русские религиозные философы и духовно-академические теисты, европейские теисты ХІХ в. и др. мыслили Бога исключительно как личность. Однако существовали и философские школы, утверждавшие неличностный характер Бога, с которыми на страницах своей «Церковной догматики» вел полемику Барт. Он критиковал тех, кто утверждал как неличностный, так и личностный характер Бога. По его мнению, некорректна была сама постановка вопроса։ Бог не описываем в человеческих понятиях, он выше них. Барт пытался определить Бога диалектически как парадокс, противоречие, закончив тем самым многовековую дискуссию. В Боге диалектически сочетаются безликий Абсолют и Личность, личностность. В конечном счете, как отмечал теолог, Бог есть Единый и Любовь, а также Бог есть и Я-бытие (с этим Я-бытием человек и взаимодействует). Личностность человека К. Барт утверждал через личностный характер Иисуса Христа [3; 4]. Другие мыслители, например, фон Бальтазар и Тиллих, исходили из того, что Бог ‒ Личность [2; 28]. Возможность диалога между Богом и человеком как личностными сущностями со своим Я-бытием отстаивал и Бубер [20, с. 97‒120].
Диалог Я и Ты как двух людей как социальных существ исследовали многие представители европейской персоналистической философии ХХ в. и близкие к ним мыслители, например, фон Бальтазар, Тиллих, Шелер, Гуссерль, Левинас, Бубер, Мунье, Лакруа и т.д. Диалог ‒ не только аксиологический способ обо- снования персонализма, но и прямое указание на социальный, общественный, коллективный характер бытия. С точки зрения религиозного персонализма одиночество противостоит сущности, природе человека [2; 10; 12; 20; 22; 28].
Бахтин и Бубер исходили из онтологичности диалога, рассматривали его как интерсубъективную интенциальность, событие бытия. Данное учение, как и система Бубера, являются экзистенциально-онтологическими. Характеризуя соотношения личности и общности, Бубер, как показала Т.П. Лифинцева, свел сущно сть социальных отношений к онтологическому союзу, диалогу. Единичность и общность он, вслед за хасидами, отождествлял. Цельность, аутентичность в своей индивидуально сти позволяет выйти за пределы своей самости (ответить на зов Другого равносильно ответу самому себе). То есть утверждение себя ‒ это утверждение другого в себе и себя в другом. Как отметила Т.П. Лифинцева, Бубер находил в хасидизме идею того, что духовно сть личности ‒ фундаментальная ценность [20, с. 52, 73].
В основе философии Шелера лежит ценностный подход. Центр тяже сти смещен с рационального на психологический, чувственный компонент личности. Он рассматривал личность через концепт любовь (любовь ‒ онтоло-гичное чувство), который определяет ценность человека как личности. Шелер рассматривал Я только во взаимодействии с Другим. Я и Другой утверждаются только во взаимодействии друг с другом, сущностью которого и является любовь [10; 22]. В философии Зиммеля переход на социальный уровень исследования личности осуществлялся через утверждение возможности взаимопонимания монад, т.к. они отражают один и тот же мир, хотя и по-разному [13]. У Мунье онтологический, аксиологический и социальный уровень неразрывно связаны между собой: личности являются социальными и субстанциально связанными существами (индивид и общество ‒ личности), ценности имеют объективный характер и наполняют личностей. Одиночество преодолевается через «вовлечение-высвобождение» [18; 25, с. 86].
В рамках немецкого постгегелевского теизма представляется возможным говорить лишь об изучении онтологической и аксиологической стороны диалога Я и Ты. Переход на социально-философский и социально-психологический уровень исследования личности в рамках данного философского направления не состоялся, хотя Я уже рассматривалось как психологическое. В европейской персоналистической философии ХХ в. произошло объединение аксио-логиче ского и социального углов рассмотрения личности.
Диалог Я и Ты как диалог мужчины и женщины (двух личностей с учетом их половой принадлежности) рассматривал, например, Барт. Теолог рассматривал их как равных, считая, что «женщина для мужчины, мужчина для женщины есть в высшем смысле другой человек, ближний», но несмотря на противопоставленность человека человеку, существует сила взаимного притяжения, что характеризуется как высший интерес друг к другу, в иных случаях не встречающийся. В конкретной человеческой жизни есть лишь конкретные мужчины и женщины, встреча мужского и женского бытия: человеческое бытие ‒ это бытие во встрече, настоящими партнерами могут быть лишь мужчина и женщина, поэтому бытие человека может носить лишь временно одинокий характер. Диалог мужчины и женщины ‒ конкретное воплощение диалога Я и Ты, человечности, диалог конкретных личностей. Связь между мужчиной и женщиной не определяется через деторождение или семью, их связь имеет особую важность и достоинство сама по себе [4, с. 121‒123, 129].
Проблема семьи и брака, мужчины и женщины интересовала также французского философа-персоналиста Лакруа. По его мнению, семья ‒ основа социальности и персоналисткой веры. Во взаимном признании людьми друг друга заключается персоналистическая вера, а в семье люди полностью признают друг друга и пользуются взаимным доверием, сохраняя верность. Семья объединяет через признание любви и слабости. Она дает каждой личности развиваться с детства благодаря творческой любви. Ребенок ‒ не цель и завершение брака, а идея брака. Французский философ со ссылкой на С. Кьеркегора утверждал, что подлинная любовь заключается в том, чтобы любить себя в третьем. Так обеспечивается постоянство, а жизнь без него бессмысленна [18, с. 206‒207]. Схожие идеи были и у Бубера. Мужчина и женщина могут стать настоящими людьми, быть полноценными, целостными личностями лишь друг через друга, во взаимодействии друг с другом. Мыслитель считал, что дух развивается через взаимодействие анимуса и анимы, инь и ян [20, с. 56].
Диалог Я и Ты можно рассматривать как взаимодействие личности и общества (Я-Оно). Буб-бер исследовал индивидуализм и коллективизм и отверг оба пути. В этих случаях отношения Я-Оно строятся по принципам взаимодействия субъект-объект, коллектив представляется, как отметила Т.П. Лифинцева, в сартровских терминах, мы-объектом. Я становится индивидуумом, отделяющим себя от других сущностей. В идеальной общине, социальной общности отношения строятся по принципам диалога Я и Ты (мы-субъект). В таком случае все члены сообщества ‒ личности, а не индивиды [20].
Последний, пятый аспект диалога ‒ взаимодействие личности и вещи. Данную проблематику исследовал Штерн. Он считал, что в идеальной социальной общности каждая вещь воспринимается как действие Бога в мире, через вещи Бог общается с миром, вещи находятся в органическом единстве с миром. Штерн противопоставил личность как совокупность, являющуюся единой и целестремительной самостоятельностью, и вещь как целость, не образующую реального единства. Личность ‒ цель для другого, она способна самостоятельно ставить цели, является энтелехией, а также способна чувствовать и переживать целостную судьбу. Сверхличные реальности не способны чувствовать [7, с. 149‒151]. В этом смысле полноценное взаимодействие возможно лишь между личностями, но личностью становятся лишь в диалоге с другой личностью и в противопоставлении вещи. Как отметил Н.О. Лосский, Штерн противопоставлял самоценную личность и ее составные части, которые есть производные ценности. Составные части личности ценны лишь как части личности [21, с. 91‒92]. Таким образом, противопоставление личности и вещи ‒ это противопоставление самоценного и производно ценного, но при этом личность и вещь взаимосвязаны.
Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, Я, участвующее в диалоге, носит психологический и индивидуальный характер (монадологическое Я). Взаимодействие монад в рамках интерсубъективных миров ‒ феноменологическое описание диалога Я и Ты. Интерпретация Я как субстанции при обосновании персонализма через исследования ценности бытия для-себя и для-другого не онтологизирует Я. В диалоге Я и Ты приобретают ценностное содержание, личность обладает абсолютной и объективной ценностью
Во-вторых, диалог Я и Ты может предполагать различный набор участников։ Бог и человек, два человека без учета их половой принадлежности, мужчина и женщина, индивид и общество, личность и вещь. Во всех случаях индивид становится личностью, индивидуальное Я утверждается через Ты.
В-третьих, немецкий постгегелевский теизм ХІХ в. был одним из направлений философии ХІХ в., которое оказало значительное влияние на европейскую персоналистическую философию ХХ в.: ценность личностности, срощенная с взаимоопределением одного Я через другое Я, стала основой философии диалога, а также был совершен переход к индивидуально-субстанциальному Я.
В-четвертых, онтологическая и аксиологическая сторона диалога Я и Ты была раскрыта при обосновании персонализма в немецком постгегелевском теизме, но персоналистическое исследование личности как социального существа состоялось лишь в философии ХХ в.
Список литературы Европейский теизм XIX в. и диалогическая интенция в европейской персонаяистической философии XX в
- Ан С.А., Белинова O.A. Концептуализация ценности как философской категории // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 2. С. 230-234.
- Бальтазар Х.У. Достойна веры лишь любовь. М.: Истина и Жизнь, 1997.
- Барт К. Церковная догматика. Т. 1. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007.
- Барт К. Церковная догматика. Т. 2. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2011.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986.
- Бердникова А.Ю. Неолейбницианство в России. Историко-философский анализ: дисс. ... канд. филос. н. М., 2016.
- Бердяев H.A. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения. Париж: YMCA Press, 1934.
- Бубер Мартин // Электронная еврейская энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://eleven.co.il/jewish-philosophy/ new-age/10784/
- Бубер М. Два образа веры. М.: Республика, 1995.
- Гагарин A.C. Философская антропология Макса Шелера: проблема интенциональности // Проблемы антропологии и антроподицеи в философии. Ч. 3. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2005. С. 74-81.
- Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Логос, 1997.
- Дьяконов Г.В. Концепция диалога М.М. Бахтина - основа экзистенциально-онтологической психологии // Сощальна психолопя. 2006. № 5. С. 45-55.
- Зиммель Г. Избранное. Т. 1. Философия культуры. М.: Юрист, 1996.
- Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996.
- Зыкова А.Б. Ортега-и-Гассет // Большая российская энциклопедия. Т. 24. М., 2014. С. 476.
- Жильсон Э. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского. М.; СПб.: Университетская книга, 1999.
- Жильсон Э. Философ и теология. М.: Гнозис, 1995.
- Лакруа Ж. Избранное: персонализм. М.: РОССПЭН, 2004.
- Литвиновская М.Л. Истоки теории мо-надического сообщества Э. Гуссерля // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 89. С. 31-38.
- Лифинцева Т.П. Философия диалога Мартина Бубера. М.: ИФ РАН, 1999.
- Лосский Н.О. Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. Париж: YMCA Press, 1931.
- Марков Б.В. Ценности и бытие в философской антропологии Макса Шелера // ANTHROPOLOGY: Web-кафедра философской антропологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://anthropology.ru/ru/text/markov-bv/cennosti-i-bytie-v-filosofskoy-antropologii-maksa-shelera
- Маритен Ж. Знание и мудрость. М.: Научный мир, 1999.
- Мунье Э. Персонализм. М.: Искусство, 1992.
- Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991.
- Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? М.: Наука, 1991.
- Плеснер X. Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию. М.: РОССПЭН, 2004.
- Тиллих П. Избранное: Теология культуры. М.: Юрист, 1995.
- Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993.
- Хайдеггер М. Что такое метафизика? М.: Академический проспект, 2013.
- Шилкарский B.C. Проблема сущего. Юрьев: Типография К. Маттисена, 1917.