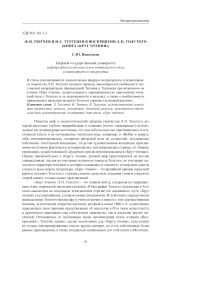Ф. И. Тютчев и И. С. Тургенев в восприятии Л. Н. Толстого (книга "Круг чтения")
Автор: Николаева Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается диалогическая природа литературного и редакторского творчества Л. Н. Толстого позднего периода, анализируются особенности толстовской интерпретации произведений Тютчева и Тургенева при включении их в книгу «Круг чтения», делается вывод о «прикровенности» христианско-этической идеи у Толстого и ее погруженности в подтекст, а также о необходимости применения к наследию позднего Толстого термина «духовный реализм».
Л. толстой, ф. тютчев, и. тургенев, художественный метод, тип творчества, реализм, романтизм, духовный реализм, христианско-этическая идея, редактирование, восприятие, тип книги, "круг чтения"
Короткий адрес: https://sciup.org/146281363
IDR: 146281363 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Ф. И. Тютчев и И. С. Тургенев в восприятии Л. Н. Толстого (книга "Круг чтения")
Известен миф о «монологической» природе творчества Л. Н. Толстого, который настолько глубоко перерабатывал и осваивал (почти «присваивал») используемые им литературные источники, что они либо полностью «растворялись» в толстовском тексте и не опознавались читателем (как, например, в «Войне и мире»), либо интерпретировались «вопреки» авторской воле их создателей, подчинялись собственно толстовской концепции, тогда как художественная концепция произведения-источника фактически игнорировалась или разрушалась (такова, по общему признанию, судьба чеховской «Душечки» при включении рассказа в «Круг чтения»). Однако применительно к «Кругу чтения» данный миф представляется не вполне справедливым, так как не учитывает истинного замысла Толстого, не учитывает целостного характера этой книги, которая создавалась в «диалоге» (в широком смысле слова) со всем миром литературы. «Круг чтения» – это ярчайший пример серьезной работы позднего Толстого с «чужим словом», результат создания «новых узоров по старой канве», подчас новых произведений.
«Круг чтения» Л. Н. Толстого – это главная книга, созданная на завершающем этапе творческой эволюции писателя. В биографии Толстого-художника и Толстого-мыслителя на последнем десятилетнем отрезке его жизненного пути «Круг чтения» стал важнейшим, узловым моментом развития. В этой книге сосредоточены размышления Толстого-философа и учителя жизни и вместе с тем художественные искания, эстетические открытия писателя, который в конце 1890-х гг. существенно пересмотрел свои прежние представления об искусстве («Что такое искусство?») и критически переоценил как собственное творчество, так и наследие других писателей. Отказавшись от публикации своих произведений после издания «Воскресения», Толстой, однако, сделал исключение для «Круга чтения», куда вошли не только отредактированные тексты других авторов, но и его собственные более ранние произведения, а также специально написанные для этой книги («Молитва»,
«Корней Васильев», «Зерно с куриное яйцо», «Ягоды», «Божеское и человеческое», «Любите друг друга», «Сказка об Иване-дураке…» и др.). Это свидетельствует о том, что данную книгу Толстой считал важнейшим делом своей жизни. «Круг чтения» для Толстого в 1900-е гг. имел то же значение, что и «Война и мир» в 1860-е, «Анна Каренина» в 1870-е, «Исповедь» и «народные рассказы» в 1880-е, «Воскресение» в 1890-е.
Вместе с тем современное толстоведение почти обходит «Круг чтения» своим вниманием. Утвердилось мнение, что крупнейшие писатели рубежа веков играют в «Круге чтения» «явно обрамляющую, вспомогательную роль», «отрывки из них подобраны далеко не самые представительные, типичные», более того: у Толстого при создании «Круга чтения» вообще «была не литературная задача» [7, т. 2, с. 373. – Комментарий М. Ю. Кукина].
Следует пересмотреть эту концепцию и при изучении последнего этапа творческой биографии Толстого исходить из того, что книга «Круг чтения» – целостное, оригинальное литературное произведение сложной жанровой природы, в котором синтезированы художественное, публицистическое, философское начала и воплотился вполне сформировавшийся, целостный замысел писателя. Только при этом условии анализ книги в аспекте ее проблематики, жанра, композиции, поэтики, источников, текстологии будет плодотворным и корректным. Каковы же принципы, обеспечивающие целостность «Круга чтения» как книги? Наш подход состоит в том, что Толстой писал не хрестоматию, а книгу для чтения, при этом опираясь на серьезную традицию, то есть решал не дидактическую, а именно литературную задачу. Писатели-современники (да и предшественники) далеко не всегда были единомышленниками Толстого, но это вовсе не означает, что целью его было «исправление» текстов других авторов ради нравоучения, ради воздействия на читателя в каком-то своем, «педагогическом» направлении. Толстой и на позднем этапе своей творческой эволюции оставался писателем, художником, который мыслит образами.
Несомненным представляется влияние на автора «Круга чтения» старинной жанровой традиции – традиции таких древнерусских энциклопедических сборников, как «Пчела». Как известно, будучи переводной, эта энциклопедия человеческой мудрости быстро обрусела и стала необычайно популярной на Руси, бытуя в рукописном и лубочном вариантах вплоть до конца XIX века. Первоначальный состав «Пчелы» был существенно дополнен фрагментами из переводных источников – излюбленного чтения русских книжников, а также отрывками из сочинений русских писателей, народной мудростью. Аналогичный принцип работы – принцип энциклопедичности и «всемирной отзывчивости» – реализовал Л. Н. Толстой. Христианская культура осознавалась Толстым как основа всей русской культуры, при всем глубоком интересе писателя к культуре мировой. В «Круге чтения» национальная русская и инонациональные, иноконфессиональные культуры сосуществуют в единстве и гармонии благодаря преображающей и примиряющей силе толстовского таланта.
Принципиально важным для понимания замысла толстовской книги является слово «круг». «Круг чтения» – это не просто отобранные и рекомендованные для ознакомления образцы литературной и философской мысли, не просто «библиотека для чтения», где книги стоят по алфавиту. Это именно круг, цикл, подразумевающий некую авторскую стратегию, некую внутреннюю закономерность. Читатель не самостоятельно бродит по «читальному залу» – им руководит Автор.
В центре внимания Толстого в «Круге чтения», как и в любом другом произведении, находится человек и его внутренний мир, человек на определенном временном отрезке – между рождением и смертью, между приходом в этот мир и уходом в мир иной. Поэтому концепция жизненного пути человека, концепция цикла земной человеческой жизни приобретает структурообразующее значение в толстовской книге. Продумывая архитектонику книги, Толстой учитывал, что концепция жизненного пути человека может быть построена на основе народного мировоззрения и традициях народной культуры, а также на основе христианского учения. Иначе говоря, выстраивая свой годичный круг и календарь, Толстой знал, что существует не только светский, гражданский календарь, но и народный календарь, обусловленный природным и сельскохозяйственным циклом, а также христианский церковный календарь, который в разных конфессиональных ответвлениях может быть ориентирован по-разному: в западном, католическом варианте – в соответствии с «рождественским» культурным архетипом, и в восточном, православном – в соответствии с «пасхальным» культурным архетипом. Христианский календарь соотносит человеческую жизнь с историей земной жизни Иисуса Христа, но при этом западная культура делает основной акцент на Рождестве и на значимости земного пути Господа, а православная – на Пасхе и Светлом Воскресении Христовом. Западная традиция ориентирует человека на земную, а значит временную, жизнь, тогда как православие учит стремиться к жизни вечной и бесконечной. Литература может воссоздавать (в зависимости от воли художника) как природный (сельскохозяйственный) хронотоп, так и библейский в двух вариантах: хронотоп рождественский и хронотоп пасхальный.
«Всемирная отзывчивость» Толстого проявилась в том, что он в своей книге синтезировал все три существующие «календарные» традиции и подчинил им расположение материала в своей книге.
Первый том «Круга чтения» начинается с 1 января в соответствии с календарем общегражданским, государственным. Однако преобладающая тематика ежедневных и недельных чтений начальных разделов тома связана прежде всего с вопросами рождения и воспитания человека, начальных этапов его жизни. Акцент делается не на физическом, а на нравственном, духовном рождении, и эта смысловая доминанта задается первым недельным чтением – рассказом «Воров сын», переработкой лесковского «рождественского» рассказа «Под Рождество обидели». Идейный смысл данного произведения сводится к тому, что физическое и нравственное рождение человека не совпадают, что последнее может осуществиться только в «ослиных яслях» веры и милосердия других людей. В толстовской интерпретации лесковского текста на первый план вышла именно эта доминанта.
Следующее недельное чтение содержит в себе собственно толстовское произведение «Кающийся грешник» (по мотивам древнерусской «Повести о бражнике»). И «Воров сын», и «Кающийся грешник» ставят целью скорректировать «рождественскую» тематику, внеся новые, дополнительные смысловые коннотации, тяготеющие к «пасхальному» архетипу, так как в обоих случаях речь идет не столько о «рождестве» человека, сколько о его перерождении, о нравственном возрождении, о воскресении души к жизни вечной.
Второй том «Круга чтения» открывается с сентябрьской половины церковного года и с начала нового сельскохозяйственного годичного цикла. Как известно, осенние церковные праздники связаны прежде всего с Богородицей, с различны- ми этапами ее жизни. И Толстой включает в первое октябрьское недельное чтение кардинально переработанный рассказ Тургенева «Живые мощи», повествующий о простой крестьянке, но вместе с тем о святой женщине, которой доступны высшие божественные истины и которая думает не о себе, а о людях и поражает рассказчика своим заступничеством за них. Распределение всего остального материала в книге и его литературная обработка, осуществленная Толстым, обусловлены указанными календарными закономерностями. Поэтому можно говорить о своеобразии редакторского труда Толстого как литературного, художественного труда. Творчество Толстого не «монологично», а «диалогично».
В данном случае речь пойдет о том, что литературные фрагменты в книге действительно расположены не случайно и не автономно друг от друга, а находятся во взаимосвязи и взаимодействии, то есть образуют некую систему, некий внутренний сюжет, сквозной для всей книги. Разумеется, полный и подробный анализ этого сюжета невозможен в рамках одной статьи, поэтому мы остановимся на двух соположенных самим Толстым фрагментах второго тома «Круга чтения». Объектом анализа будут «Silentium!» Ф.И. Тютчева и «Живые мощи» И.С. Тургенева. Оба названных произведения помещены во втором томе: тютчевское стихотворение находится в чтении на 30 сентября, тургеневский рассказ – в первом недельном чтении октября, то есть тексты непосредственно следуют один за другим, если говорить именно о художественных текстах, включенных в обозначенные хронологические рамки. Однако связь между ними не только и не столько внешняя, сколько внутренняя.
Прежде всего следует отметить, что оба произведения изначально содержат в себе романтические авторские интенции. Тютчев пишет о невыразимости внутреннего мира человеческой души, о неадекватности слова высказанного и слова подразумеваемого, языка и речи, об уединенности сознания и вселенском одиночестве человека перед лицом Бога и природы:
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Тургенев поэтизирует долготерпение русского народа, изображая физически страдающую женщину-крестьянку, заброшенную в каком-то сарае, неухоженную и одинокую, лишенную возможности двигаться, – изображая, однако, не жестокую правду жизни, а благостную картину смирения красавицы перед жестоким роком, используя все средства романтизации образа, исключая любые натуралистические подробности, которые в данном случае не могли не присутствовать, и воссоздавая не стоны больной, а чудесные голоса птиц, не свидетельства угасания бренной плоти, а прекрасные запахи мяты и мелиссы, не мрачные приметы приближающейся смерти, а таинственно-чудесные шорохи окружающего героиню природного мира. Даже развернутая на две страницы экспозиция рассказа готовит читателя к встрече отнюдь не со смертью, но с живой и разнообразной жизнью природы, в которой дождь обязательно сменяется радостным солнечным утром [9, т. 3, с. 327].
Разумеется, Толстой, будь он сам создателем такого произведения, написал бы в конце концов что-нибудь вроде «Смерти Ивана Ильича». Он же, редактируя, не ставит своей целью ни исправление «ошибочной», с его точки зрения, романти- ческой концепции образа Лукерьи ее судьбы, ни тем более опровержение мыслей Тютчева. Толстой по-своему «дописывает» тютчевское стихотворение, создавая развернутую систему философских размышлений на заданную Тютчевым тему, а затем, опираясь на эпиграф из Тютчева же к «Живым мощам», продолжает эту тему в рамках сюжетного повествования тургеневского рассказа.
Современные исследователи поэзии Тютчева отмечают, что Толстому удалось, по сути дела, создать новый тип комментирования стихотворения – философско-религиозный. При этом наиболее важным и оригинальным в подходе Толстого оказалось то, что «смысл тютчевского стихотворения раскрывался вне сферы индивидуалистической морали», писатель предложил «психологические мотивировки необходимости молчания, отрицания самораскрытия» [4, с. 382–383]. Иначе говоря, Толстой фактически отказался от романтической интерпретации многозначного тютчевского стихотворения, в котором каждая эпоха вплоть до расцвета символизма позднее находила свое, созвучное ей содержание, и толстовская трактовка оказалась наиболее гуманистической, продиктованной «активным человеколюбием» [Там же, с. 383], философией самосовершенствования личности. А итоговая сентенция под 30 сентября воспринимается как смысловой и стилистический мостик, связывающий «тютчевскую» главку книги с «тургеневской». Подводя итог рассуждениям о молчании как необходимом условии единения человека с Богом и в конце концов с другими людьми, Толстой заключает: «Временное отрешение от всего мирского и созерцание в самом себе своей божественной сущности есть такое же необходимое для жизни питание души, как пища для тела» [7, т. 1, с. 77].
Толстовская редактура «Живых мощей» была осуществлена в тесной связи с «тютчевской» главой, с размышлениями о внутренней жизни человеческой души. Скорее всего, эпиграф из Тютчева («Край родной долготерпенья – / Край ты русского народа!») способствовал укреплению этой связи.
Толстой всегда считал «Записки охотника» лучшим произведением Тургенева и предсказал, что они «навсегда останутся драгоценным вкладом в русскую литературу» [6, с. 53]. Не случайно для «Круга чтения» он выбрал «Живые мощи». Редактура «Живых мощей» Толстым – уникальный пример творческого пересоздания писателем «чужого» произведения. «Живые мощи» в контексте «Круга чтения» необходимо рассматривать как его составную часть, подчиненную замыслу целого, в результате чего они приобрели особую художественно-функциональную значимость.
Содержание этого рассказа, дописанного в 1874 г. специально для сборника «Складчина», несколько выделяется из круга идей «Записок охотника», что подчеркнул сам писатель: «В первое собрание “Записок охотника” они не были включены по той причине, что не имели прямого отношения к главной мысли, руководившей тогда автором», показались «не довольно интересными или нейдущи-ми к делу» [9, т. 3, с. 511–512]. В «Складчине» же, изданной в пользу крестьян Самарской губернии, пострадавших от голода, этот рассказ оказался уместным. В новой исторической ситуации Тургенев счел необходимым показать «пример русского долготерпенья», усилив его эпиграфом из Тютчева: «Край родной долготерпенья, / Край ты русского народа». Взгляд Тютчева на народ «хотя и имел славянофильскую окраску, был созвучен демократическому» [1, с. 13] и выражал, с одной стороны, поиски нравственного идеала в народе, с другой – мотив «непро-бужденного» народного сознания. Именно в этом значении использовал Тургенев тютчевские строки.
Однако Толстой, скорее всего, учел еще один контекст, в котором сам Тургенев мыслил свое произведение и который не был реализован им самим до конца, недаром автор «Записок охотника» называл «Живые мощи» «наброском». В подстрочном комментарии к публикации «Живых мощей» в сборнике «Складчина» Тургенев передал свой разговор со стариком-крестьянином на тему о голоде. Старик сказал, что от настоящего голода «люди не худеют, а пухнут». Не случайно тургеневская Лукерья не страдает от голода, хотя почти ничего не ест, но при этом и не «пухнет». По-видимому, это означает, что не болезнь и голод как физические испытания для человека интересовали самого Тургенева, а те духовные источники, те соки, которыми питалась душа Лукерьи. Не физическое истощение героини, а святость русской женщины, которая проявляется в самых страшных обстоятельствах, – вот что стремился понять и показать Тургенев, который, однако, не преминул создать вокруг нее романтический флер.
Толстой же сделал тему святости в тургеневском тексте самостоятельной и лишил ее романтического ореола, предпочитая трезво-реалистический подход и углубив философское осмысление русского национального характера. И Тургенев, и Толстой воспринимали русское долготерпение как реальный факт. Однако в оценке его, как и в понимании ведущих тенденций народного развития, их взгляды принципиально различались, что и нашло отражение в толстовской редакции «Живых мощей».
Прогресс, по Толстому, как известно, основан на нравственном самоусовершенствовании отдельных людей, составляющих в сумме общество, поэтому он придавал огромное значение «смягчающему» действию искусства: «Искусство должно устранять насилие» [8, т. 30, с. 194]. В соответствии с этой идеей писатель вносит «прямую проповедь, поучение, назидание» [3, с. 142] не только в собственные произведения, но и в «Круг чтения». При этом взгляд писателя на искусство уточняется в «Круге чтения» именно в религиозно-этическом ключе. Если в 1880–1890-е гг. Толстой выделял две разновидности искусства – дворянское и народное, то в 1900-е гг. в «Круге чтения» реализуется уже новое понятие о функции «христианского искусства», цель которого – «вызывание в людях чувства братского единения». Идеалом такого искусства являются «смирение, целомудрие, сострадание, любовь» [8, т. 42, с. 149–150]. Следуя этому понятию о сущности и назначении искусства, Толстой выбирает для «Круга чтения» такие произведения, которые способствовали бы «нравственному совершенствованию людей». Читательская программа «Круга чтения» была обозначена уже в его подзаголовке: «Избранные, собранные и расположенные на каждый день Львом Толстым мысли многих писателей об истине, жизни и поведении». В предисловии он пишет, что свою задачу видит в том, «чтобы, воспользовавшись великими и плодотворными мыслями русских писателей, дать большому числу читателей доступный им ежедневный круг чтения, возбуждающий лучшие мысли и чувства». Ему хотелось создать свод различных знаний, но главное – кодекс нравственно-этических правил жизни. Специфической чертой «Круга чтения» является жанрово-стилевой синтетизм. «Круг чтения» построен, как уже говорилось выше, по принципу «календаря» и состоит из «ежедневных», «недельных» и «месячных» чтений, включающих в себя наряду с афоризмами великих мыслителей отрывки из художественной или религиозно-нравоучительной литературы на общие философские и морально-этические темы. Таким образом, по своей архитектонике «Круг чтения» представляет собой целостную систему, в которой все составные ее части (месячные, недельные, ежедневные чтения) связаны внутренним единством.
Конкретная социально-образовательная адресация «Круга чтения» обусловила строгую регламентацию обработки его материалов. Редактируя произведения, включенные в «Круг чтения», Толстой сокращал, перекомпоновывал их и даже вносил собственные дополнения. Свободное обращение с текстами оригиналов мотивируется им с чисто практических, читательских позиций: «сделать книгу как можно более <…> полезной большинству читателей». Для достижения этой главной цели идеи великих мыслителей и писателей допустимо изменять так, «чтобы они легче и сильнее воспринимались» [Там же, с. 473, 472]. Итак, в толстовской редактуре принципиально важным было интерпретационно-ценностное отношение к «чужому слову», направляющее читательское восприятие «Круга чтения» в нужное для составителя русло.
«Живые мощи» завершают первую неделю октябрьских чтений, основными темами которой являются мудрость, религия, богатство, любовь, нравственность и болезнь. По утверждению Э.Е. Зайденшнур, рассказ Тургенева, предназначенный для воскресного чтения, заключает лишь афоризмы шестого дня о том, «что к болезням надо относиться терпеливо» [2, с. 34]. На самом деле контекстуальные связи «Живых мощей» в «Круге чтения» значительно шире и сложнее. Они внутренне соотнесены со всеми предшествующими афоризмами недели и месяца в целом, о чем свидетельствует даже их текстуальная перекличка. Но главное – их объединяет общая философско-этическая концепция бытия: нельзя заботиться лишь о хлебе насущном, ибо душа важнее тела; «человек может быть вполне доволен, не имея тех вещей <…> которые излишни ему»; истинная любовь есть «душевное состояние готовности любви ко всем»; «ни один человеческий закон не может в такой степени содействовать нравственному совершенствованию людей», как закон Христов, ибо он «основан на любви к Богу и ближнему» [8, т. 42, с. 11– 145] – эти главные нравственные принципы, в понимании Толстого, составляют суть характера Лукерьи.
Разумеется, близок по смыслу «Живым мощам» афоризм 6 октября: «Болезни – естественное явление, и надо уметь относиться к ним, как к естественному, свойственному людям условию жизни»; они не освобождают больного от нравственных требований: «Не можешь служить людям трудами, служи примером любовного терпения» [Там же, с. 117, 118]. Поддержанные контекстом «Круга чтения» религиозно-этические мотивы тургеневского рассказа эстетически актуализируются. В результате смещения смыслового акцента он приобретает подчеркнутую религиозно-дидактическую функцию, не адекватную авторскому замыслу. Контекстуально-ассоциативное восприятие «Живых мощей» в «Круге чтения» приобретает в результате редактирования рассказа Толстым целенаправленный характер.
«Толстого подкупил образ спокойно умирающей безропотной Лукерьи» [2, с. 34]. Это не совсем так. Толстого подкупила способность Лукерьи «к созерцанию в самой себе своей божественной сущности», – созерцанию, которое является «необходимым для жизни питанием души». Ключевым в связи с этим представляется следующий отрывок из «Живых мощей»: «Да, барин, милый, кто другому помочь может? Сам себе человек помогай! Вы вот не поверите – а лежу я иногда так-то одна… и словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна я – живая! И чудится мне, будто что меня осенит… Придет, словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет, а что такое было – не поймешь! Только думается мне: будь около меня люди – ничего бы этого не было и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья» [9, с. 333].
Цитированный фрагмент «Живых мощей» воспринимается как пересказ тютчевского «Silentium!», осуществленный народным языком, по крайней мере основные тезисы Тютчева, основная топика его стихотворения сохранены довольно точно. Этого не мог не почувствовать Толстой. Вероятно, это и определило стратегию его переработки тургеневского рассказа. Толстой усилил «тютчевское» начало в тургеневском тексте, убрав все лишнее, что мешало такому – философско-религиозному – восприятию произведения.
И только об этом нравственно-эстетическом впечатлении заботился он, редактируя «Живые мощи». Все, что в них не отвечало целевой установке «Круга чтения» или нарушало его структурно-содержательное единство, Толстой изменял или сокращал. Максимально сжатой становится экспозиция рассказа, который начинается не пейзажной зарисовкой, а непосредственным описанием встречи рассказчика-охотника с Лукерьей. В 1900-е гг. толстовская «эстетика народного письма» заметно эволюционирует: в отличие от «народных рассказов» 1880-х гг., в произведениях этого периода ощущается «художественная несовместимость реалистического и религиозно-фантастического» планов. Толстой отказывается теперь от религиозно-дидактических сюжетов. Темы он берет теперь преимущественно из повседневной народной жизни, а христианско-этическая идея у него погружена в художественную ткань повествования. Стремление к безыскусности и лапидарности стало для него главным стимулом в редактуре «Живых мощей». Он опускает не только вступление рассказа, не имеющее прямого отношения к жизнеописанию Лукерьи, но и первый сон ее о том, как молодую, счастливую девушку встречает вместо возлюбленного Васи небесный жених – Христос. Для Тургенева основным смыслом этого сна является самоощущение физического и нравственного здоровья Лукерьи, которое помогает ей выстоять. Толстой же склоняется к тем психологическим мотивировкам поведения героини, которые содержательно и образно близки тютчевскому «Silentium!». Эти же соображения заставляют его снять и отвлеченную от прямого сюжета легенду о Жанне д’Арк, которая к тому же нарушает целостность характеристики Лукерьи как истинно русской женщины с «иконописным ликом». Смерть Лукерьи в отредактированном Толстым варианте похожа на Успение Богородицы, что вполне соответствует общей идейно-тематической направленности второго тома толстовского «Круга чтения».
Другой, более сложный тип толстовской редактуры «Живых мощей» состоит в сюжетно-композиционной перестройке рассказа: Толстой меняет местами два других сна Лукерьи. Второй сон, в котором покойные родители благодарят дочь за то, что она своими земными муками с них «большую тягу сняла» и им «на том свете стало много способнее», превращается в толстовском варианте в кульминационный. Вследствие этого религиозно-этические смыслы «Живых мощей» заметно усиливаются и приобретают лейтмотивное звучание, а параллель между образом героини и образом Богородицы становится более очевидной. В авторской концепции Тургенева способность Лукерьи вопреки приближению смерти радоваться жизни составляет основной пафос «Живых мощей». В толстовской редакции эта концепция отнюдь не разрушается, не перечеркивается, но обогащается благодаря новым – «тютчевским» – смысловым акцентам и вследствие календарной соотнесенности с темой Богородицы. Недаром в финале Лукерья поднимается до осознания общности своей судьбы с судьбой народа, вырастает до роли народной заступницы. Очевидно, что в творческой и даже редакторской манере позднего Толстого можно увидеть «черты духовного реализма <…> понимая под духовным реализмом облечение христианских идеалов в художественную форму» [5, с. 76]. Глубокий смысловой, духовно-нравственный подтекст в его произведениях создается благодаря тому, что «главные ценности из мира внешнего, социального перемещаются во внутренний мир человека. Эти ценности не всегда доступны рациональному сознанию» [Там же, с. 78]. Поэтому Толстой и использует яркие художественные образы, обращенные непосредственно к человеческому и религиозному чувству читателя.
В итоге ему удается подчинить редактируемые источники своей сверхзадаче – раскрытию сюжета о нравственном росте человека.
Список литературы Ф. И. Тютчев и И. С. Тургенев в восприятии Л. Н. Толстого (книга "Круг чтения")
- Аношкина В. Н. Ф. И. Тютчев в истории литературы XIX -начала XX века: автореф. дис. … докт. филол. н.: 10.01.01/В. Н. Аношкина; Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. М., 1977. 30 с.
- Зайденшнур Э. Е. Уроки Толстого-редактора//Толстой-редактор. М.: Книга, 1965. С. 3-36.
- Ищук Г. Н. Лев Толстой: Диалог с читателем. М.: Книга, 1984. С. 142.
- Касаткина В. Н. Комментарий//Тютчев Ф. И. Полное собр. соч. и писем: в 6 т. Т. 1. М.: Классика, 2002. С. 382-383.
- Редькин В. А. Духовный реализм как художественный метод современной литературы//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 1. С. 71-78.
- Сергеенко П. Как живет и работает Л. Н. Толстой. М.: Изд. И. Д. Сытина, 1908. 149 с.
- Толстой Л. Н. Круг чтения: в 2 т. М.: Политиздат, 1991. Т. 1. 480 с. Т. 2. 400 с.
- Толстой Л. Н. Полное собр. соч. и писем: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1928-1958.
- Тургенев И. С. Полное собр. соч. и писем: в 30 т. Т. 3. М.: Наука, 1979. 526 с.