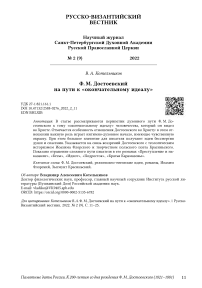Ф. М. Достоевский на пути к "окончательному идеалу"
Автор: Котельников Владимир Алексеевич
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Статья в выпуске: 2 (9), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются перипетии духовного пути Ф. М. Достоевского к тому «окончательному идеалу» человечества, который он видел во Христе. Отмечается особенность отношения Достоевского ко Христу: в этом отношении важную роль играет интимно-духовное начало, имеющее чувственную окраску. При этом большое значение для писателя получают идеи бессмертия души и спасения. Указывается на связь воззрений Достоевского с теологическим историзмом Иоахима Флорского и творчеством польского поэта Красиньского. Показано отражение сложного пути писателя в его романах «Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот», «Подросток», «Братья Карамазовы».
Ф. м. достоевский, религиозно-этические идеи, романы, иоахим флорский, зыгмунт красиньский
Короткий адрес: https://sciup.org/140297533
IDR: 140297533 | УДК: 27-1:821.161.1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2022_2_11
Текст научной статьи Ф. М. Достоевский на пути к "окончательному идеалу"
Глубоко воспринятые Достоевским в детские годы Священная история, христианское вероучение, сам образ Иисуса навсегда остались первоосновой его духовной жизни; он не раз обращался к ним памятью и мыслью, что нашло отражение и в его творчестве. Незадолго до смерти писатель очень скупо, буквально в нескольких словах упомянул об истории «своего Христа», Которого он «узнал в родительском доме еще ребенком и Которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в „европейского либерала“»1.
Оказавшись в Петербурге, он следовал привитым в семье правилам; как вспоминал знавший его по Инженерному училищу А. И. Савельев, Достоевский ревностно «исполнял обязанности православного христианина. У него можно было видеть и Евангелие, и „Die Stunden der Andacht“ Цшокке и др. После лекций из Закона Божия о. Полуэктова Федор Михайлович еще долго беседовал со своим законоучителем. Все это настолько бросалось в глаза товарищам, что они его прозвали монахом Фотием»2. Надо полагать, что беседы эти были долги-

Федор Михайлович Достоевский. Худ. К. А. Трутовский, 1847 г.
ми потому, что у Достоевского уже в ту пору возникали серьезные вопросы, ответы на которые он не находил в доступных ему вероучительных источниках.
С 1840-х гг. его духовная жизнь осложнялась новыми умственными и нравственными коллизиями, религиозное миросозерцание проблематизировалось, экзистенциальный «опыт порога» (перед казнью) и каторги — все это в конце концов заставило его искать вне и выше действительности незыблемую опору существования; такая могла быть дана только в вере. О своем состоянии он с предельной откровенностью сообщал Н. Д. Фонвизиной в январе-феврале 1854 г. «Я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (28, кн. 1; 176).
Такие доказательства выдвинули западные историки и философы позитивистской ориентации, предпринявшие десакрализацию Христа и Его дела. Достоевский позднее отозвался на их критику, выражавшую секулярные тенденции эпохи: «Подставить ланиту, любить больше себя — не потому, что полезно, а потому, что нравится, до жгучего чувства, до страсти. Христос ошибался — доказано! Это жгучее чувство говорит: лучше я останусь с ошибкой, со Христом, чем с вами» (27; 57). Истина как адекватное представление субъекта познания о сущности вещи, данное в понятиях разума, не много стоила для Достоевского3. Истиной для него было не «что», а «кто».
О каком «жгучем чувстве» идет речь? Об остром переживании заповеданного Христом самоуничижения, вершиной которого стала Его Голгофа и которое Достоевский считал высшей нравственной способностью человека. «Между тем после появления Христа как идеала человека во плоти стало ясно как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения цели), чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я , — это как бы уничтожить это я , отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно» (20; 172). К Христу, «идеалу человека во плоти», Достоевский испытывал страстное влечение. Наряду с исповеданием учения Христа, у Достоевского в отношении к Нему важную роль играло интимно-духовное начало, имеющее чувственную окраску, вызывающее наслаждение, доходившее в нем подчас до восторга, который запомнился А. Е. Врангелю из его бесед с ним4. Именно оно, это начало, утверждает Достоевский, а не только моральный долг христианина, движет человеком в подражании Христу.
Восхищало и привлекало его во Христе богочеловеческое смирение, доведенное до степени бесконечно жертвенной любви к людям. Тут у Достоевского был своего рода нравственный стигмат, запечатлевший близость его к Иисусу. В смирении видел он силу, которой Христос неодолимо влечет к Себе и которой преображает людей, а через них и весь мир. Лишь смиряющимся и смиренным, возлюбившим ближнего до самоуничижения, дано у Достоевского побеждать зло, напомнить о реальности Царствия Небесного — таковы Сонечка Мармеладова, Макар Долгорукий, старец Зосима, Алеша Карамазов.
У Достоевского был «свой» Христос, стоящий в центре его религиозно-этического миросозерцания. «Христос — 1) красота, 2) нет лучше, 3) если так, то чудо, вот и вся вера» (24; 202). Разумеется, «простой символ веры», сложенный для себя Достоевским, не заменял Никео-Константинопольского «Верую», который — когда Достоевский преодолевал свои сомнения и позывы скептицизма — принимался им в каждом его члене в точном догматическом значении. Интимно-духовное влечение к Иисусу он связывал с Иоанновой проповедью воплощенного Логоса: «Не мораль Христова, не учение Христа спасет мир, а именно вера в то, что Слово плоть бысть. Вера эта не одно умственное признание Его учения, а непосредственное влечение. Надо именно верить, что это окончательный идеал человека, все воплощенное Слово, Бог воплотившийся» (11, 187–188). Так излагал писатель свою христологию в подготовительных материалах к «Бесам».
В его религиозной мысли и в творчестве первостепенное значение — неотрывно от личности Иисуса — получали два момента: вера в воскресение мертвых и в жизнь будущего века и твердая вера в возможность спасения.
С 1860-х гг. мысль об инобытии после завершения земного существования не покидает Достоевского; она возникает в переживании и продумывании смерти жены Марии Дмитриевны, что отразилось в известной записи 16 апреля 1864 г., которая оканчивается вопросом: «Увижусь ли с Машей?» (20; 172). Здесь следы давних сомнений, здесь вопрос о «жизни будущей», и сейчас он еще не решен Достоевским безусловно. Но постепенно решение положительное утверждается в его сознании, основанием его надежд и ожиданий становится идея бессмертия . «Высшая идея на земле лишь одна, — провозглашает он в «Дневнике писателя» (декабрьский выпуск 1876 г.), — и именно — идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные „высшие“ идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают» (24; 48).
И вот что особенно замечательно и характерно для Достоевского: он последовательно, усиленно настаивает на исключительном значении этой идеи именно для земного существования. В том же выпуске «Дневника…» он продолжает: «…Бес-смертие, обещая вечную жизнь, тем крепче связывает человека с землей. Тут, казалось бы, даже противоречие: если жизни так много, то есть кроме земной и бессмертная, то для чего бы так дорожить земною-то жизнью? А выходит именно напротив, ибо только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. Без убеждения же в своем бессмертии связи человека с землей порываются, становятся тоньше, гнилее, а потеря высшего смысла жизни (ощущаемая хотя бы лишь в виде самой бессознательной тоски) несомненно ведет за собою самоубийство» (24; 49). Он неоднократно повторяет излюбленную мысль, что именно на земле произойдет предстоящее при втором пришествии окончательное восстановление в новой плоти преображенного человеческого естества. И сообщает в письме к Н. П. Петерсону

Ф. М. Достоевский, 1861 г.
(от 24 марта 1878 г.) о себе и В. С. Соловьеве: мы «верим в воскресение реальное, буквальное, личное и в то, что оно сбудется на земле» (30, кн. 1; 15).
Со временем все больше захватывает Достоевского вопрос о возможности и путях спасения человека, пребывающего в мире, — избавления его от зла внутреннего и внешнего, освобождения от власти греха, просветления его тварной природы и конечного ее обожения.
Но поскольку Достоевский рассматривал человека в реальных условиях своей эпохи, этот вопрос перерастал в большую религиозно-нравственную проблему, захватывающую не только личность, с ее земной и посмертной судьбой, но и человечество в его движении к пост-историческому завершению бытия.
Сотериологическая тема погружена у него в художественный материал. Существенно, однако, что это относится к религиозной рефлексии и творчеству только последних полутора десятилетий. Начиная с «Преступления и наказания», эта тема стала прямо или подспудно влиять на персонологию, сюжетную разработку, идейную концепцию романов.
Достоевский предпринимает историзацию и социализацию сотериологической проблемы. В этом он наследует Иоахиму Флорскому5, который сделал мощной традицией идеи Исаака из Стеллы, впервые предпринявшего (как то описывает П. М. Бицилли) переход «от проблемы индивидуального спасения через слияние в мистическом акте души с Христом к проблеме спасения социального, проблеме по существу исторической»6. Такой переход мы видим и у Достоевского.
Иоахим изображает три состояния мира (status mundi), через которые предстоит пройти человечеству: периоды господства Бога Отца, Сына и Духа Святого, а в каждом из этих периодов — через шесть потрясений (tribulationes). Соответственно трем состояниям мира, о чем свидетельствуют сами перемены времен и деяний (хотя, оговаривается Иоахим, весь этот ныне существующий мир один), есть три сословия избранных (хотя и один народ Божий, одно множество). И первое из этих сословий «разряд брачущихся» (вступающих в брак), второе — «сословие клириков», третье — «сословие монахов».
Сопоставление текстов Ветхого и Нового Заветов и хронологические расчеты привели Иоахима к убеждению, что в современную ему эпоху царство Отца сменилось царством Сына, наступил век священства и писанного Евангелия. Но близится другая эпоха, когда состояние священства сменится господствующим состоянием монашества. Сословие монахов, поясняет Иоахим, имеет образ Духа Святого, который есть любовь Божия, поскольку не может само это сословие презреть мир и то, что принадлежит миру, если оно не призвано любовью Божией и если не влечется тем Духом, который гнал Господа в пустыню; отсюда оно и называется духовным, поскольку следует не плоти, но духу. В эту эпоху воцарится свободная христианская любовь, наступит царство Духа Святого, упразднится Евангелие буквы и восторжествует единое Вечное Евангелие (Evangelium Aeternum), а Церковь Петрова преобразится в Церковь Иоаннову.
Примечательно, что в третьей эпохе Иоахим усматривает и новое социальное качество — воцарение справедливости и благоденствия. При этом, провозглашая грядущую, завершающую эпоху, Иоахим, по точной характеристике П. М. Бицилли, «не предугадывал будущего, не переживал его по антиципации в порывах вдохновения. Он его знал так же хорошо, как и настоящее, потому что он его дедуцировал научно из прошедшего. Пророком его можно назвать, стало быть, в таком же смысле, как — если угодно — Карла Маркса»7. Подобного же рода пророком был и Достоевский; он страстно веровал в наступление «нового и последнего воскресения» (13; 379), но еще более страстно он хотел знать , как это свершится исторически, он притягивал эсхатологические события к земле, связывал их с фактами текущей действительности, художественно и публицистически создавая знание о человеке в истории и после ее завершения.
Перспектива установления новой эпохи Духа Святого и Вечного Евангелия входила в состав религиозно-этических предчувствий и ожиданий Достоевского (на это обратил внимание еще Н. А. Бердяев в «Миросозерцании Достоевского»8) и отождествлялась им с тысячелетним благоденствием преображенного мира (здесь Достоевский сближается именно с Иоахимом, а не с хилиастической ересью Керинфа или эбионитов).
Воздействие теологии истории Иоахима на эсхатологию Достоевского несомненно и сильно9. Допустимо предположить, что с идеями Иоахима писатель впервые познакомился, читая роман Ж. Санд «Спиридион» («Spiridion», 1839), где отразились черты учения Иоахима и где молодой монах берет на себя миссию нести в мир религию «третьего завета». Не исключены, впрочем, и иные источники, в частности, сочинения Э. Сведенборга, Г. Э. Лессинга («Воспитание человеческого рода»), Ж. де Местра. Однако с большей уверенностью можно утверждать, что эти идеи он нашел в подробном изложении у хорошо известного ему Э. Ренана, чья обстоятельная работа об Иоахиме впервые появилась еще в 1866 г. в «Revue des deux Mondes»10, и читавший этот журнал Достоевский просто не мог ее пропустить.
Возвещенные Иоахимом конец господства клириков (что у него, однако, не предполагало упразднения духовенства), уход из мира «Церкви Петровой» имеют прямые соответствия в экклезиологических ожиданиях Достоевского: он был уверен, что авторитарность римско-католической церковной власти, ее политические и юридические притязания приведут к падению престола Петровых преемников и всего царства их, за чем он провидел утверждение такой Церкви, которая пойдет путем Апостола Любви, Иоанна.
Знаменательно сходство в развитии экклезиологических идей иоахимизма у Достоевского и (что кажется неожиданным) у католика, польского поэта Зыгмунта Кра-синьского (Krasiński, 1812–1859). Этот аспект оказался вне поля зрения исследователей. Близость русского и польского писателей усматривали лишь в их мессианистских умонастроениях.
В самом конце 1830-х гг. Красиньский написал поэму в прозе «Trzy myśli pozostałe po ś. p. Henryku Ligenzie zmarłym w Morreale, 12 kwietnia 1840 roku»11, в третьей части которой, «Legenda», в картине разрушения католического Рима, что символизирует конец «Церкви Петровой» и торжество проповеди Иоанна, Красиньский в художественной форме совершает ревизию католической эсхатологии с философско-теологической позиции иоахимизма.
В грандиозной эпической фреске изображает он пришествие тысяч паломников со всех концов земли в Рим, к храму апостола Петра; на пути их встречает Ангел с черной завесой на челе, а незримый голос возвещает, что ныне Христос последний раз родится у гроба Петра12. Во время освящения Св. Даров возникает фигура Христа, который произносит: «Я здесь!». Затем в образе кардинала появляется апостол Иоанн, на призыв которого из могилы поднимается апостол Петр; услышав, что Иоанну повелено от Бога жить вечно на земле и водворить между людьми царство любви и мира, он с возгласом «Горе мне!» вновь исчезает в могиле13. Коленопреклоненный папа произносит последние молитвы, тем временем рушатся стены храма Петрова и Ватикана, паломники бегут, и с папой остается лишь польская шляхта, героически обрекшая себя на трагическую гибель вместе с римской церковью14. В конце поэмы апостол Иоанн восседает на троне с книгой, при чтении которой «лицо его было как бы исполнено милостивого выражения и полного покоя»15, что и символизирует здесь Иоаннову проповедь «Вечного Евангелия любви».
Кроме общей идеи неизбежной смены церковно-исторических эпох и смены жизненных форм христианства, данные рецепции иоахимизма связываются общим пунктом художественного их выражения. У Красиньского в «Легенде» и у Достоевского в «Легенде о Великом Инквизиторе» это событие явления Христа в критический момент на границе двух периодов истории человечества: старой эпохи Петровых преемников, подчинивших Церковь земным целям, и грядущей эпохи свободного принятия человеком идеалов любви и истины.

Алеша. Иллюстрация к роману «Братья Карамазовы». Худ. И. С. Глазунов, 1982 г.
Достоевский мог быть знаком с «Легендой» Красинь-ского по предпринятому, но не опубликованному переводу И. С. Аксакова, который предполагал поместить этот текст (под заглавием «Ночь на Рождество Христово») в своей газете «День» в начале 1864 г.
Также в согласии с иоа-химовой теологией истории в творчестве писателя происходит неуклонное вытеснение «состояния священства» «состоянием монашества». Не только и не столько критическое его отношение к современному белому духовенству было причиной такого «вытес-
нения». Одна из самых радикальных идей средневекового теологического историзма, высказанная Иоахимом и дошедшая через многих посредников до Нового времени, активно присутствует в эсхатологии Достоевского: не иератическое служение священ- ства, но аскетико-подвижническое творчество монашества призвано сыграть решающую роль в обновлении мира и в преображении человека. Отсюда — возрастающий интерес писателя к монашеству и то центральное положение, которое было определено «русскому иноку» в «Братьях Карамазовых».
В русле общей сотериологической проблематики возникал важнейший для Достоевского вопрос: возможно ли восстановление «человека духовного» (по слову апостола Павла) в современном человеке душевно-телесном — именно в таком, каким его теперь узнавал писатель?
В «Записках из Мертвого дома», определяя жажду «крови и власти» как тиранство, писатель полагал, что дойти до него может и «самый лучший человек», а вот «возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится для него уже почти невозможен» (4; 154).
В «Преступлении и наказании» Достоевский как христианин и гуманист все-таки решил доказать , что возможен. Доказательства писатель извлекает из самого же человека, приведенного по всем умственным и нравственным ступеням к «акту эксцесса» и через то — к «опыту предела», говоря языком новейшей философской антропологии (М. Бланшо, Ж. Батай, М. Фуко). Содержанием романа стало оправдание в преступнике человека через отысканную в нем возможность «полного воскресения в новую жизнь» (6; 421); в конце эпилога сообщается уже определенно, что Раскольников «воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим» (6; 421).
Вся эта работа писателя опиралась, конечно, на христианскую традицию, развивавшую в новозаветном повествовании, в Предании, в агиографии и духовной литературе тему преодоления греховности в человеке и приближения его к образу и подобию Божию.
Сюжет воскресения Раскольникова в романе возводится к евангельскому эпизоду воскресения Лазаря. Но не менее значимым для этого сюжета был имплицитно присутствующий в романе эпизод с покаявшимся разбойником (апокриф называет и его имя — Pax). Из двух злодеев, распятых вместе с Иисусом и «злословивших Его», один раскаялся и просил Христа помянуть его в Царствии Небесном, на что Спаситель отвечал: «Истинно говорю тебе: нынче же будешь со Мною в раю» (Лк 23:43). Такой переход от бездн греха, неверия, хулы на Бога к вере и спасению дается ценой страданий, искупляющих содеянное зло, и ценою искреннего — среди мук и покаяния — исповедания Христа.
Событие исключительного значения для христианства; с ним раскрылась доступная и последнему грешнику благодать внутреннего перерождения, смена личной эсхатологической перспективы. Данный акт свободной воли к покаянию и свободной веры в спасение ставился чрезвычайно высоко. В акте преображения собственной природы, в акте обретения блаженства в духе разбойник оказывается даже выше апостола. «Когда Петр, верховный из учеников, отрекся внизу, тогда он, — говорит св. Иоанн Златоуст о разбойнике, — находясь вверху, на кресте, исповедал (Христа)»16. И Златоуст призывает «взять себе учителем разбойника, которого Владыка наш не постыдился ввести в рай прежде всех; не постыдимся взять себе учителем человека, который первый из всего рода человеческого оказался достойным жизни в раю»17.
Апокриф находит мистико-соматическое объяснение внезапному обращению разбойника: еще будучи младенцем, он болел

Раскольников и Соня. Иллюстрация к роману «Преступление и наказание». Худ. И. С. Глазунов, 1982 г.
и чудесно исцелился, когда вкусил молока
Богородицы, проходившей в тех местах с новорожденным Иисусом во время бегства в Египет. Потом он вырос, разбойничал, но приобщение к святыне спасло его на кресте18. Апокриф дает свою версию осуществления изначального Божьего замысла о человеке: в его тварной плоти, вместе с первородным грехом, есть зерно добра и правды, и неисповедимы пути и сроки его прорастания. В этом был убежден Достоевский, и это стало основанием его антроподицеи.
На путь греха поставлен Свидригайлов, но его путь лишен перспективы покаяния, возрождения и спасения. Христианскую эсхатологию, в которой может открыться такая перспектива, он не принимает и высказывает Раскольникову мысль, возможно, мелькавшую и в сознании самого автора в моменты скептического умонастроения: «Нам вот всё представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность» (6; 221). У Раскольникова, еще недавно заявлявшего, что не верит в «в будущую жизнь», такая сатанинская подмена вызывает исполненный «болезненного чувства» отклик: «И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого?» (6; 221). Достоевский оставляет Раскольникову сохраняющуюся в глубине его души надежду на какие-то «утешения» и какую-то «справедливость» в «жизни будущего века», и для героя, преступившего человеческий и Божеский закон, оказываются не пустыми два последних члена символа веры. Исходя из объявленного им Порфирию Петровичу личного исповедания (он «буквально» верует в Бога, в воскресение Лазаря и в Новый Иерусалим — 6; 201), душа Раскольникова доступна действию благой воли Бога, в нем
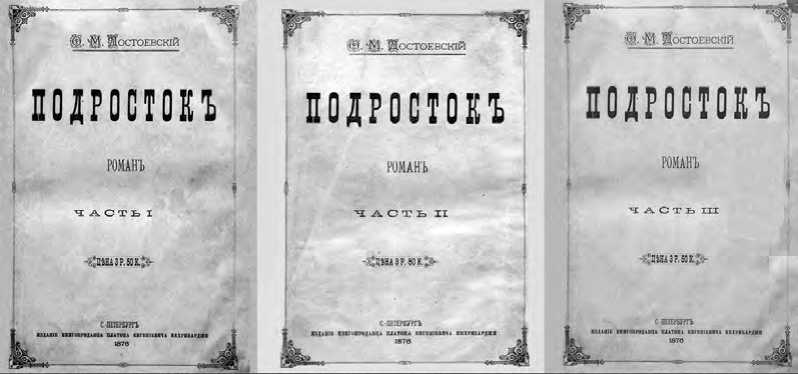
«Подросток», 1876 г.
заключена возможность воскресения из мертвых — еще до явления Нового Иерусалима. К чему и направляет его автор.
Подобный путь уготован Ставрогину. Но перед завершающей роман катастрофой замкнутая в герое сфера зла как будто разрывается при встрече с душеведцем и провидцем Тихоном, архиереем, жившим на покое в монастыре (соответствующая глава не вошла в прижизненные публикации). Зло опознано, перспектива преодоления его в «великом подвиге» покаяния и смирения, ведущем к спасению, открыта перед Ставрогиным. Однако произведенное Тихоном вскрытие его души в конце встречи обнаруживает, что злом захвачена и умертвлена вся личность героя, это «гроб повапленный», который окончательно устраняется из жизни последним актом всегу-бительной воли Ставрогина.
Начиная с «Бесов» Достоевский вводит в романы фигуры православных подвижников. Они нужны как источник религиозно-нравственного света, в котором рельефнее выступают черты и проясняется смысл образов.
В «Подростке» такой фигурой становится Макар Долгорукий, чье странничество по России, по монастырям и святыням было его подвижнической стезей. После знакомства и разговора с ним взволнованный Аркадий признается: «Я вам рад. Я, может быть, давно вас ожидал»; в нем велика жажда того света, который носит в себе Макар, и подросток говорит: «Как бы новый свет проник в мое сердце» (13; 291). Он отрекается от всех окружавших его, потому что «у них нет благообразия» (13; 291). Это последнее слово стало ключевым определением идеала, возникшего перед Аркадием. «С этой минуты я ищу „благообразия“» (13; 291).
У Макара «благообразие» есть видимая форма его религиозно-нравственного отношения к миру, любви к нему, ко всем людям, что внутри он ощущает как «веселие сердца», иногда выражающееся в почти болезненной восторженности. При этом Аркадий замечает в нем «какое-то удивительное целое, полное народного чувства и всегда умилительное» (13; 309).
Драма Версилова состоит в том, что стремление к этому идеалу не исключает в нем и иных, зачастую противоположных свойств, что он сам ясно сознает. «Жажда благообразия была в высшей мере, и уж конечно, так, но каким образом она могла сочетаться с другими, уж Бог знает какими, жаждами — это для меня тайна. Да и всегда было тайною, и я тысячу раз дивился на эту способность человека (и, кажется русского человека по преимуществу) лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшею подлостью, и все совершенно искренне. Широкость ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость — вот вопрос!» (13; 307).
Дмитрий Карамазов потом скажет: «Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил» (14; 100).
Так же широк и Версилов. Его путь к идеалу то и дело раздваивается, так что внутреннее раздвоение поражает его личность и делает ее трагичной, ибо он не может излечиться от сословно-наследственной болезни интеллектуальной «широкости» и связанного с ней морального релятивизма.
«Он решительно как бы прилепился к Макару Ивановичу» (13; 311), когда тот после своих странствий поселился в доме, где жила Соня и бывал Версилов, любивший
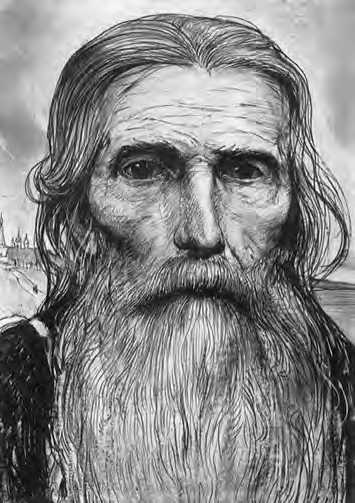
Макар Иванович Долгоруков. Иллюстрация к роману «Подросток». Худ. И. С. Глазунов, 1984 г.
«восторженные выходки» Макара.
В отличие от образов Раскольникова, Ставрогина, образ Версилова складывался на иных путях и посредством иных приемов. В ходе создания его, как и при создании образа Мышкина, преобладала не тотализирующая, а деконструирующая работа.
Дальним, идеальным заданием персонажа также ставится «благообразие» как со- стояние цельности, согласия чувства, совести и ума, что на завершающем этапе разработки персонажа в августовской записи 1875 г. подается как мысль самого Версилова и как основание его родства с Аркадием: «Когда ты произнес „благообразие“, но ведь это моя идея, — думаю, — ты мой, ты сын мой» (16; 401). «Благообразие», однако, остается только идеей. От идеала Версилов постоянно отбрасывается в состояние «безобразия», «беспорядка», разложения (в августе 1874 г. записано: «ОН все время занят своей высшей идеей (разложением) и своею потерею цели и химическим своим разложением» — 16; 52), и, под конец, наступающего распада личности — вплоть до того, что, как записано в начале августа, «Версилов идиотом целует руки у мамы» (16; 395). Это намечается писателем — как противоположность идеальному заданию — уже в начале разработки замысла: на знаменательное событие разбивания Версиловым иконы указывается в майской записи 1874 г. (16; 12) и впоследствии регулярно упоминается в подготовительных материалах. В сюжете романа и в движении характера оно финально, но как символическое выражение внутреннего мира героя сопровождает подготовительное прописывание его образа постоянно с самого начала работы над романом. Расколотая икона, принадлежавшая Макару, вместе с тем символизирует расколотую Версиловым цельность того мира, который олицетворялся Макаром. Между Версиловым, тяготеющим к идеалу, и Версиловым в жизненной реальности устанавливается сильное моральное и психологическое напряжение.
Определение «хищный тип» применительно к Версилову в подготовительных материалах встречается многократно. В февральских записях 1874 г. оно повторяется на соседних страницах семь раз (16; 6–7), что свидетельствует об особой важности этого качества в персонаже и с чего Достоевский начинает его разработку. Хищность,
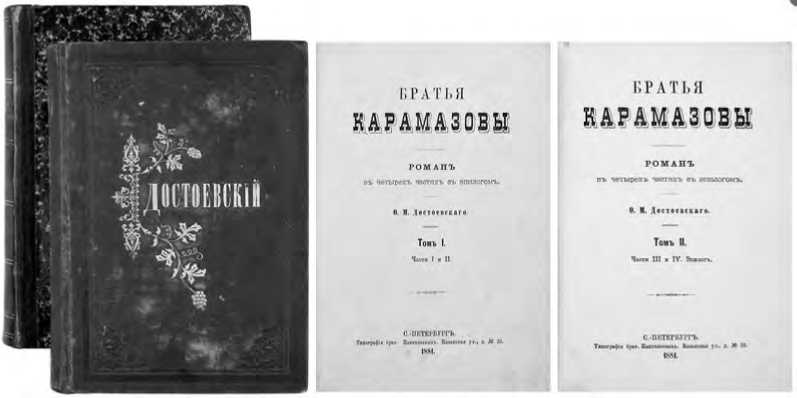
«Братья Карамазовы», 1881 г.
несомненно, свойственна интимным инстинктам и вожделениям Версилова, ее психофизические выражения предстают в накале и вспышках его страстей, направленных на женщину, о чем есть столь же многочисленные записи в подготовительных материалах. Достоевский доводит до крайней экспрессии такие выражения — прежде всего в отношениях героя с Катериной Николаевной. В связи с этим Достоевский помечает 7 сентября с припиской «ГЛАВНОЕ»: «Все время укушен бешеной собакой» (16; 114). Хищная окраска присутствует временами и в отношениях его к Аркадию, в которых не раз проступают соблазн и демоническая насмешка, — когда в серьезном разговоре Версилов шепчет на ухо Аркадию о своих речах: «Он тебе все лжет» (13; 212).
Вместе с тем до сильной экзальтации доводятся подъемы гуманистической мысли Версилова. В подготовительных материалах обе указанные стороны персонажа обнажены и подчеркнуты — подчас утрировано, что создает эффект действования двух противоположных личностей. Соединенные в романе в одном персонаже, они открывают темные глубины человеческой природы при одновременном ее подъеме к духовным вершинам.
Уже почти окончательно доработав персонажа с такими свойствами, с внутренними разрывами, Достоевский перед 11 августа 1875 г. сразу после очередной характеристики Версилова делает прямую отсылку к найденному им в 1864 г. типу: «Подпольный человек есть главный человек в русском мире» (16; 407). Отсылка поддерживает другие указания на «необычайную широту натуры» Версилова, о которой он откровенно говорит Аркадию. В записи 6 июля 1874 г. он, сознавая, что «бесконечно силен» (и это отсылает нас к Ставрогину), признается: «Меня ничем не разрушишь и, что всего подлее, ничем не смутишь. Я беспрерывно бесстыден. Я могу чувствовать два противоположных чувства вместе. Это бесчестно и даже не по моей воле» (16; 20). Право на бесчестье — один из ведущих мотивов в ряде характеристик писателем современного русского дворянства (в августовской записи 1875 г.: «отцы обрадовались бесчестью» — 16; 429). В сословном «продукте» (так называет себя сам Версилов — 16; 21) Достоевский насаждает и принуждает сосуществовать оба нужные ему для персонажа свойства, чему отвечает и декларация героя: «Мы не только подлецы, мы, кроме того, и единственные носители высшей идеи» (16; 21).
Многосложность версиловского типа, его страстное влечение к идеалу, в котором смешаны интеллектуализм и острая чувственность, его путь с тяжелыми срывами и катастрофой — все это перерастает в последнем романе Достоевского в картину трагической сложности человеческой природы вообще. В разгуле «карамазовского безудержа»
страстей, умственных и плотских, умирает «пшеничное зерно» тварной жизни, но оно приносит, как предсказано Христом, «много плода» — плода уже духовного.
Своего рода русским иноческим Фавором становится та духовная вершина, на которую возведен в «Братьях Карамазовых» старец Зосима, приблизившийся к Христу и приблизивший к Нему Алешу, которому в видении брака в Кане Галилейской явился Зосима с сияющими фаворским светом глазами и «солнце наше», Сам Иисус (14; 327). Следуя своему личностному отношению ко Христу, Достоевский ставит рядом с Ним Зосиму сотрудником в будущем (и скором) устроении Царства Божия на земле. «И неужели сие мечта, чтобы под конец человек находил свои радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне, — в объедении, блуде, чванстве, хвастовстве и завистливом превышении одного над другим? Твердо верую, что нет и что время близко. Смеются и спрашивают: когда же сие время наступит и похоже ли на то, что наступит? Я же мыслю, что мы со Христом это великое дело решим» (14; 288).

Князь Мышкин.
Иллюстрация к роману «Идиот». Худ. И. С. Глазунов, 1956 г.
Мысль отыскать отображение идеального Христа в реальном человеке не оставляла Достоевского.
Он задумал «изобразить вполне прекрасного человека» (28, кн. 2; 241), как излагал он 31 декабря 1867 г. А. Н. Майкову свою «давно уже мучившую мысль», развернутую им на следующий же день в письме к С. А. Ивановой. Заметим, однако, что сам писатель, начиная работу над «Идиотом», считал свою «слишком трудную» мысль «не-выношенной», а себя «к ней не приготовленным». И все-таки он «рискнул как на ру- летке», надеясь, что «под пером разовьется», — так признавался он в том же письме к Майкову (28,, кн. 2; 241) в разгар писания.
В подготовительных материалах в «Проекте характера Сына» отразилось временное колебание Достоевского между ролями персонажа, обозначенного как Сын, и Идиота. Рядом с первым появляется запись «Христос», которая, видимо, должна была иметь к нему отношение. За чем следует: «Сын отчасти поражает Идиота еще прежде», в последнем вновь выдвинуто названное в самом начале свойство: «Но тот (Идиот) тогда в бешенстве страсти» (9; 152). Это упоминание о Христе остается без дальнейшего развития, хотя упоминание о Нем будет не последним. Косвенно писатель указывает на Него чертами характера Идиота (в романе — князя Мышкина): «Он проникается глубочайшим состраданием и прощает ошибки. <…> Взамен получает высокое нравственное чувство в развитии и делает подвиг» (9; 146); в бывшем «Новом плане» Идиоту приписываются «приниженность, смирение » (9; 218), что также войдет в образ Мышкина. В апрельском (1868 г.) слое записей «3-я и 4-я <части>» обнаруживается знаменитое «КНЯЗЬ ХРИСТОС» (9; 246), сокращенно повторенное в записях под «4-й частью». Но эта крупно заявленная персонологическая тема осталась без соответствующей разработки в образе Мышкина; преградой к тому стало «человеческое, слишком человеческое» в натуре князя с его страстями, хотя и прикрытыми прекрасными нравственными свойствами, но разрушительными по конечному своему действию. Не случайно приведенная запись сделана на полях, задним числом, после заполнения 102-й страницы тетради. Близость
Мышкина к «окончательному идеалу» остается сомнительной как в подготовительных материалах, так и в романе.
Именно страдающая женщина возбуждает в Мышкине страстное влечение к ней — почему Достоевский и приковывает взгляд героя к лицу Настасьи Филипповны, ее страдание выражающему. Ее лицо — лик самой женской природы, с ее вакхическими экстазами и болью, образ вечно женского, таящий вечное страдание в глубине временной красоты своей, столь влекущей и гибельной. Чувственность Идиота страстно отозвалась на эту сторону образа и готова идти за ним до порога смерти. Ибо: «Всё, всё, что гибелью грозит, / Для сердца смертного таит / Неизъяснимы наслажденья — / Бессмертья, может быть, залог», — как пелось в известном гимне. Мышкин может расстаться с Настасьей Филипповной, но не может расстаться с ее лицом, с ее ликом. Примечательно, что возводимая в романе в степень идеально прекрасного красота ее нигде не изображается пластически именно как красота, она провозглашается, но не подтверждается художественно.
Придание в романе речам и поступкам Мышкина высокого нравственного смысла не приводит и не может привести к моральному (и соответственно — сюжетному) разрешению духовной драмы героя и драмы его положения в обществе. Такой смысл остается в романе лишь авторской окраской психологических коллизий и житейских отношений. В спасении Мышкиным Настасьи Филипповны нет необходимости, оно и не происходит и невозможно, ибо вечное не нуждается в том, чтобы его спасал человек тварный. Мышкин в действительности испытывает потребность не спасать (от чего он и отказывается наконец), а страстно любить красоту, пронзенную страданием. Поэтому он бессознательно хочет довести и Аглаю до такого страдания и полюбить в ней тот же лик , который поразил и увлек его в Настасье Филипповне.
Христианская тема не получает развития в романе. При отсутствии соответствующих мотивов, образных и сюжетных выражений ее, есть два знаменательнейших диалога. На вопрос Рогожина «веруешь ли ты в Бога или нет?», Мышкин не отвечает, а лишь говорит: «Как ты странно спрашиваешь и … глядишь!» (8; 182). Когда Ипполит спрашивает: «Вы ревностный христианин?», Мышкин не отвечает ничего (8; 317). В передаче того же Ипполита, «князь утверждает, что мир спасет красота», но и это остается без ответа (8; 317). Надо полагать, что, если Мышкин и говорил так, то имел в виду красоту Настасьи Филипповны, чья «красота — сила <…> с этакою красотой можно и мир перевернуть» (8; 69). Но это совершенно расходится с фундаментальным убеждением Достоевского: «Мир спасет красота Христова» (11; 188).
В кругозоре Мышкина не появляются Бог и Христос. Зато «странный и ужасный демон привязался к нему окончательно и уже не хотел оставлять его более» (8; 193). Главное же — его позиция: гуманизм героя находится вне церковного исповедания и вне сферы религиозно-философских идей. В «горячешной тираде», в «страстных и беспокойных словах» (8; 453) перед светским собранием он затрагивает тему, но развертывает ее в неистовое обличение католицизма, противопоставляя римской проповеди «искаженного Христа» — Христа истинного, сохраненного Россией. Однако в образе и в предваряющих его материалах не находится предпосылок к тому, чтобы Мышкину выступать с такими филиппиками, наполненными публицистически заостренным социально-политическим содержанием. Его впечатления от России и знания о ней неопределенны, в апрельском слое «Мысли и фонд (2)» записано о возвращении после путешествия: «Князь приезжает, полный чего-то нового и несколько смутный» (9; 257) — и только. Не стали они яснее и в романе. Эти речи с их пафосом, конечно, прямо переданы ему автором, который уже тогда обдумывал подобные идеи, чтобы позже развернуть их в «Дневнике писателя» и в «Легенде о Великом инквизиторе».
Эксперимент с «Идиотом» показал невозможность достичь «окончательного идеала» без Церкви, без укорененности в христианской почве. Самая крупная, обобщающая характеристика состояния и возможностей князя в слое записей под названием « СИНТЕЗ РОМАНА » указывает на слабость человека, лишенного прочных
и истинных религиозных устоев. Достоевский выделяет столбцом и прописным курсивом: «ИДИОТ ВИДИТ ВСЕ БЕДСТВИЯ. БЕССИЛИЕ ПОМОЧЬ. ЦЕПЬ И НАДЕЖДА. СДЕЛАТЬ НЕМНОГО. ЯСНАЯ СМЕРТЬ. АГЛАЯ НЕСЧАСТНА» (9; 241).
«Окончательный идеал» человечества Достоевский видел во Христе. Но движение к нему, знал писатель, требует преодоления верующим разумом и волей поврежденной природы человека с ее духовными и душевными немощами.
Список литературы Ф. М. Достоевский на пути к "окончательному идеалу"
- Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. М., 1994. Т. 2.
- Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995.
- Две любви Ф. М. Достоевского. СПб., 1992.
- Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Л., 1972-1990.
- Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1990.
- [Иоанн Златоуст, свт.] Творения Святаго отца нашего Иоанна Златоуста. СПб., 1899. Т. 2.
- Котельников В. А. «Что есть истина?» Литературные версии критического идеализма. СПб., 2009.
- Котельников В. А. «Истина» у Ф. М. Достоевского и М. Хайдеггера // Труды и дни. Памяти В. Е. Хализева. М., 2017.
- Лобковиц Н. Иоахим Флорский и Миллениум // Вопросы философии. М., 2002. № 3.
- Frank J. Dostoevsky: the Seeds of Revolt. Princeton-NY, 1976.
- Krasinski Z. Trzy mysli pozostale po s.p. Henryku Ligenzie zmarlym w Morreale, 12 kwietnia 1840 roku. Paryz, 1840.
- Renan E. Ioachim de Flore et l'Evangile éternel // Revue des deux Mondes. 1866. Juillet et août.