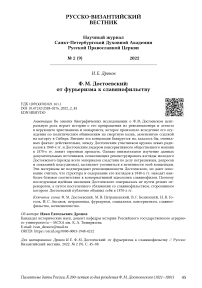Ф. М. Достоевский: от фурьеризма к славянофильству
Автор: Дронов Иван Евгеньевич
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Памятные даты России. К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского (1821-1881)
Статья в выпуске: 2 (9), 2022 года.
Бесплатный доступ
Во многих биографических исследованиях о Ф. М. Достоевском центральную роль играет история о его превращения из революционера и атеиста в верующего христианина и монархиста, которое произошло вследствие его осуждения по политическим обвинениям на смертную казнь, замененную ссылкой на каторгу в Сибирь. Внешне эта концепция базируется на, казалось бы, очевидных фактах: действительно, между Достоевским участником кружка левых радикалов в 1840-х гг. и Достоевским лидером консервативного общественного мнения в 1870-х гг. лежит огромная пропасть. Однако внимательное изучение данных документальных источников, позволяющих реконструировать взгляды молодого Достоевского (прежде всего материалов следствия по делу петрашевцев, допросов и показаний подсудимых), заставляет усомниться в истинности этой концепции. Эти материалы не подтверждают революционности Достоевского, но дают основание считать, что структура и содержание его взглядов в 1840-х гг. находят наиболее близкое соответствие в консервативной идеологии славянофилов. Поэтому последующая идейная эволюция Достоевского совершалась не путем резких переворотов, а путем постепенного сближения со славянофильством, сторонником которого Достоевский публично объявил себя в 1870-х гг.
Ф. м. достоевский, м. в. петрашевский, в. г. белинский, н. в. гоголь, и. с. аксаков, петрашевцы, фурьеризм, социализм, консерватизм, славянофильство, почвенничество
Короткий адрес: https://sciup.org/140297537
IDR: 140297537 | УДК: 1(091)(470):821.161.1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2022_2_45
Текст научной статьи Ф. М. Достоевский: от фурьеризма к славянофильству
Прочно устоявшаяся в общественном сознании история идейных исканий Ф. М. Достоевского в самой общей форме сводится к трансформации его мировоззрения от радикально левых взглядов в 1840-е гг. (в эпоху его участия в кружке М. В. Буташевича-Петрашевского) к крайне консервативным в 1870-х — начале 1880-х гг. (в годы его близости с И. С. Аксаковым, К. П. Победоносцевым, В. П. Мещерским и другими видными фигурами из охранительного лагеря, включая членов царской семьи). Промежуточным этапом этой трансформации считается период «почвенничества» — не очень успешная и поэтому кратковременная попытка либерально-консервативного синтеза. По отношению к идеологии консерватизма, таким образом, позиция Достоевского в рамках этой схемы менялась от жесткого противостояния через временный компро- мисс к полному слиянию и отождествлению.
Фундаментом для подобной схемы послужили отчасти собственные ретроспективные оценки Достоевским своего жизненного пути. Припоминая времена причастности своей к кружку Петрашевского, писатель утверждал, что вполне готов был тогда сделаться если и не «Нечаевым», то «нечаев-цем», способным чуть ли не на убийство во имя «филантропических» идей социальных демагогов, под очарованием которых находились сам Достоевский и его молодые товарищи1. Затем, пройдя через очищающие страдания на каторге, поневоле разделяя их с людьми из простого народа и постепенно проникаясь народным мировоззрением, Достоевский осознал тщету социальных утопий, ложность «математического» счастья, которое пытаются навязать человечеству революционные реформаторы. Подлинный путь спасения писатель обрел в христианском учении о смирении и любви, нашедшем

Любовь Федоровна Достоевская, дочь писателя (1869–1926). Фото 1886–1887 гг.
свое живое воплощение в русском народе. Хотя Ф. М. Достоевский не оставил после себя какой-либо связной автобиографии, но приблизительно такой нарратив складывается из его собственных разрозненных воспоми-
наний о своем прошлом.
Наиболее прямолинейная трактовка этого семейного нарратива дана в воспоминаниях дочери Федора Михайловича — Л. Ф. Достоевской. «Отец всегда утверждал, — писала она, — что речь шла о политическом заговоре, о свержении царя и создании в России республики интеллигентов. Вероятно, Петрашевский, готовивший отряд добровольцев, доверил только некоторым избранным тайную цель предприятия. Возможно, Петрашевский, знавший ум, мужество и моральную силу Достоевского, предназначал для него одну из главных ролей в будущей республике». В подтверждение того, что Достоевский был серьезным заговорщиком, Л. Ф. Достоевская указывает на то, что ее отец имел скрытный характер, «был молчалив, мало общителен и не любил изливать душу перед каждым встречным, как принято в России»2.
Кроме подобных сомнительных аргументов, имеется не так много фактических подтверждений радикализма взглядов Достоевского в 1840-х гг.
По свидетельству О. Ф. Миллера в его очерке о Достоевском, опубликованном в 1883 г., Достоевский, прочитав изданные за границей материалы по делу петрашевцев под названием «Общество пропаганды 1849. Собрание секретных бумаг и высочайших конфирмаций» (Лейпциг, 1875), немного разочаровано заявил: «Верна, но неполна. Я не вижу в ней моей роли. Многие обстоятельства совершенно ускользнули; целый заговор пропал»3. В этих словах великого писателя принято видеть намек на то, что властям в 1849 г. не удалось вскрыть настоящих революционных замыслов петрашевцев, какой-то очень тайной и очень опасной для властей организации среди них. Хотя, скорее всего, загадочные слова Достоевского объясняются намного прозаичнее: подборка документов в книге «Общество пропаганды 1849…» носила отрывочный и случайных характер. Там были опубликованы записка чиновника особых поручений МВД — инициатора дела Петрашевского — И. П. Липранди, некоторые личные документы, изъятые при аресте у Н. А. Спешнева, Н. А. Момбелли, А. Н. Плещеева и других петрашевцев, а также отдельные официальные документы судебного процесса. Имя Достоевского в этих документах упоминалось мельком буквально несколько раз; и, разумеется, основываясь лишь на упомянутой публикации, никакой «роли» его в этом деле увидеть было невозможно.
Только после смерти Достоевского постепенно начали вводиться в научный оборот мемуары причастных к событиям 1849 г. лиц, публиковались многочисленные архивные материалы следствия и суда над петрашевцами, которые позволяли в полной мере установить роль Достоевского в этом деле. Если царские сыщики, несмотря на самый дотошный и усердный розыск, не сумели раскопать в деле петрашевцев ничего, кроме «заговора идей», то советские историки и литературоведы преуспели на этом поприще намного больше. Их стараниями была создана мощная историографическая традиция, согласно которой петрашевцы являлись связующим звеном между «дворянским» этапом российского освободительного движения и «разночинским» и не только вели широкую антиправительственную пропаганду, но готовились к вооруженному восстанию и крестьянской революции против самодержавия и крепостничества4. Достоевский же в этой борьбе принимал самое заметное и активное участие5. Такая историческая концепция возникла не столько вследствие обнаружения новых фактических данных, сколько из идеологической потребности заполнения пустующих клеточек в периодической таблице русского революционного движения, а также из благих побуждений реабилитировать перед лицом марксистско-ленинской догматики запятнавшего себя «реакционными» выходками Достоевского и сохранить в обиходе советской культуры хотя бы часть его наследия.
Однако поиски «пропавшего заговора» продолжились по инерции и после падения советской власти. В своем объемистом труде на эту тему видный современный знаток жизни и творчества Достоевского И. Л. Волгин на вопрос: «Был ли Достоевский революционером?», — уверенно дал положительный ответ: «Во всяком случае, он совершил такие поступки, которые не оставляют сомнений на этот счет»6. Но в том-то и проблема, что никаких фактических доказательств не то что «поступков» или хотя бы намерений такие «поступки» совершить, но даже малейших признаков «революционных» настроений у Достоевского в 1840-х гг. не имеется.
Простор для всевозможных гипотез, а зачастую и фантазий, по поводу подлинных политических взглядов и настроений Достоевского в 1840-х гг. открывается в силу отсутствия синхронных источников, в которых бы звучала прямая речь Достоевского об этих предметах. В 1860–1880-х гг. писатель в силу облегчения цензурных условий получил возможность для активной публицистической деятельности и широкой пропаганды своих общественно-политических взглядов. От этого периода сохранился также большой объем переписки Достоевского с его соратниками и единомышленниками, в которой еще более четко и даже резко выражалась его идеологическая позиция. К сожалению,

Ф. М. Достоевский. Литография П. Ф. Бореля, 1862 г.
для 1840-х гг. ни публицистики, ни писем, содержащих политические высказывания Достоевского, в нашем распоряжении нет, а единственным источником, который
позволяет судить о его политико-идеологическом направлении, являются следственные документы, допросы и показания самого Достоевского и других привлеченных по делу Петрашевского лиц.
Разумеется, этот уникальный и весьма информативный источник в силу своей специфики имеет определенные ограничения. Однако подвергать тотальному сомнению данные материалы, полагать, как это делают некоторые исследователи, что показания петрашевцев не содержат ничего, кроме лжи и уверток, обусловленных стремлением подследственных максимально скрыть свои истинные действия и убеждения, у нас нет оснований. Во-первых, петрашевцы по своим человеческим качествам, характерам и моральным установкам очень сильно отличались от последующих профессиональных революционеров времен «Народной воли», партии эсеров или большевиков. Подавляющее большинство из них не осознавало свое участие в деятельности кружка как нечто антиправительственное и преступное и не испытывало никакого желания «пострадать за правду». Поэтому они не только не запирались, а напротив, активно «сотрудничали со следствием», пытаясь всеми силами разъяснить недоразумение, и рассказывали даже о том, о чем их не спрашивали, чтобы доказать свою благонамеренность. Откровенные показания давали и лидеры «заговора». Так, Петрашевский, обидевшись на Н. А. Спешнева, который рассказал жандармам даже содержание их бесед один на один, в отместку поведал все, что сумел вспомнить, о самом Спешневе7. Во-вторых, к следствию было привлечено больше сотни участников кружка, которых в течение нескольких месяцев основательно и неоднократно допрашивали. При такой многочисленности и разнородности личного состава кружка следователям не составило труда, сопоставляя показания, шаг за шагом точно выяснить, кто, что и когда говорил или не говорил на собраниях у Петрашевского. В-третьих, МВД удалось внедрить в ряды кружка своего агента, П. Д. Антонелли, который с января по апрель 1849 г. предоставлял подробные отчеты обо всем происходившем в кружке Петрашевского. Несмотря на свою тенденциозность, стремление сгустить краски и раздуть дело в ведомственных интересах, доносы Антонелли важны для поверки других материалов дела петрашевцев.
И наконец, last but not least8, невозможно представить себе трусливо лгущего Достоевского. Известный литературовед П. Н. Сакулин справедливо, по нашему мнению, писал об этом: «Разумеется, на допросе он не чувствовал себя совершенно свободным и не мог откровенно обнажать своей души перед жандармами. Умолчания, смягчения, несомненно, могли иметь место в его показаниях. Трудно лишь допустить в них совершенную ложь. Это противоречило бы нашему общему представлению о Достоевском, как о необычайно правдивой, хотя и скрытной натуре»9.
Что можно извлечь для характеристики взглядов Достоевского в 1840-х гг. из материалов следствия?
Согласно показаниям Достоевского, он познакомился с М. В. Буташевичем-Петрашевским еще в 1846 г., в течение 1847–1848 гг. изредка посещал его салон, но лишь зимой 1848–1849 гг. стал бывать у Петрашевского более регулярно (всего, по подсчетам Достоевского, с сентября 1848 г. до своего ареста 23 апреля 1849 г. он был у Петрашевского 8 раз10). Дом Петрашевского был едва ли не единственным в тогдашнем Петербурге местом, где гости не убивали время за игрой в карты и пустой светской болтовней. Для Достоевского, всегда томимого духовной жаждой и остро нуждавшегося в живой интеллектуальной среде, это было важно. После разрыва с петербургским кружком западников (В. Г. Белинского, И. И. Панаева, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева и др.) в 1847 г. Достоевский пробовал бывать в литературном салоне у князя В. Ф. Одоевского, однако и здесь появлялся ненавистный И. С. Тургенев, который открыто третировал Достоевского, всячески издевался над ним, называя его «прыщом, рдеющим на носу литературы», да и сам хозяин, стремившийся сделать привлекательным свой салон для столичной аристократии, очевидно, тяготился присутствием таких «демократов», как Достоевский11. У Петрашевского же самолюбие Достоевского не повергалось подобным испытаниям, здесь собирались люди, действительно взыскующие истины и с неподдельным интересом обсуждающие «проклятые вопросы», здесь не было привилегий и ранжиров, и все могли свободно обмениваться мнениями как равные с равными…
Все это, несомненно, импонировало Достоевскому, однако со временем на собраниях у Петрашевского стало появляться много случайных людей и все чаще возбуждались споры на разные скользкие политические темы. Тогда Достоевский и несколько его единомышленников весной 1849 г. решили покинуть кружок Петрашевского и собираться отдельно у С. Ф. Дурова на «музыкально-литературные вечера», исключив всякую «политику» из обихода этого нового кружка. Когда же вскоре выяснилось, что избавиться от шлейфа политических страстей, тянущихся из кружка Петрашев-ского, и в новом кружке не получается, было решено его ликвидировать12. Однако было уже поздно: все так или иначе причастные к кружку Петрашевского были арестованы…
Первоначальным капитальным пунктом обвинения петрашевцев явилась их приверженность доктрине Фурье. Под впечатлением революционных событий во Франции в 1848 г. Ш. Фурье воспринимался российскими властями как один из тех французских «каналий», которые ополчились против алтарей и тронов. Однако какого-либо адекватного представления об учении Фурье они, по всей видимости, не имели. Так, один из членов Следственной комиссии, управляющий III Отделением Л. В. Дубельт, делая заметки в своем дневнике после первых допросов петрашевцев, даже имена французских социалистов коверкал: «Все они, более или менее, подтвердили о бывших собраниях у Петрашевского , о суждениях о социализме, о Прудене и о Фуррье »13.
Поэтому первые допросы петрашевцев напоминали какую-то комедию ошибок: арестованные недоумевали, почему им вменяют в преступную вину увлечение идеями Фурье, а следователи, в свою очередь недоумевали, почему уличенные в «ужасном» фурьеризме петрашевцы не приносят повинную голову и не бросаются на колени с мольбами о пощаде?
Свое участие в кружке Петрашевского Данилевский объяснил заинтересованностью во всестороннем обсуждении учения Фурье с предполагаемыми единомышленниками, не усматривая в этом ничего преступного в силу того, что ни сочинения Фурье, ни произведения его последователей не были включены в индекс запрещенных в России книг и вполне легально распространялись книготорговцами15.
И действительно, те из петрашевцев, кто был очарован учением Фурье, искренне не усматривали в нем ничего такого, что бы противоречило существующему в России политическому строю. Их понимание фурьеризма вполне можно назвать консервативным, что в общем-то не расходилось со взглядами самого основоположника. «Характер учения Фурье консервативный», — утверждал петрашевец А. В. Ха-ныков16. И. Л. Ястржембский в своих показаниях писал: «Учение Фурье я не считал опасным, потому что… он не только не советует восставать противу правительства, но даже воспрещает думать о перемене образа правления, порицает везде либералов и упрекает их за их покушения, отдаляющие только эпоху введения повсеместно его системы, и отдает преимущество монархическому образу правления перед дру-гими»17. Вряд ли случайно в свое время «Фурье обращался с письмом к императору
Александру I, указывая ему на принадлежащее ему право самодержавия как на самое надежное средство для проведения коренной реформы», разумеется, в фурьеристском духе18. Поэтому нет никакого когнитивного диссонанса в том, что многие петрашевцы, не исключая и Достоевского, являясь почитателями идей Фурье, в то же время не переставали быть убежденными монархистами и совершенно лояльными подданными русского императора.
Петрашевец А. И. Европеус также указывал на «антиреволюционный характер» фурьеризма, каковое учение «прямо противоположно коммунизму, анархическому равенству и беспорядкам всякого рода». В подтверждение сего Европеус напоминал, что фурьеристы никогда не принимали участие ни в каких революционных событиях во Франции19. Сам Петрашевский усматривал причину отсутствия революционности в фурьеризме в том, что семья Фурье лишилась всего своего состояния вследствие революции 1789 г. и ему пришлось всю жизнь вести тяжелую борьбу с нуждой. Якобинский террор также стал травмирующим для психики Фурье событием. Кроме того, как считал Фурье, Великая революция жестоко обманула надежды народных масс, поскольку новый буржуазный порядок принес им лишь иной вид угнетения и несправедливости. Все это предопределило отрицательное отношение Фурье к любым насильственным переворотам, которые выгодны одним только политическим честолюбцам и авантюристам20.
Другой петрашевец, К. И. Тимковский, «был убежден, что системы социалистов, за исключением Фурье, более или менее неполны, мечтательны, неудобопримени-мы и даже гибельны, потому что уничтожают собственность, семейственность, даже личность людей; требуют невозможного равенства между всеми членами общества и готовы вводить свои преобразования хотя бы ценою крови и революций. Система же Фурье не заслуживает этих упреков: она свято сохраняет собственность каждого, не только не допускает всеобщего равенства между людьми, но, напротив, основывает всю гармонию общественного устройства на неравенствах состояний, сословий, иерархий, способностей, заслуг. По сей системе предполагаются реформы не в правительстве, но в обществе, в тех элементах общественных, которые по законам всех государств предоставлены произволу граждан; она достигает своих целей путем мира, без смут, без насильственных потрясений, при какой бы то ни было форме правления, даже требуя непременным условием, чтобы правительство стояло твердо и прочно на своем основании. Притом фурьеристы желают, чтобы их система была предварительно испытана на деле в малом размере, без применения к целому государству вдруг, т. е. чтоб им позволено было составить мануфактурно-земледельческое общество или товарищество в 1800 человек, которое жило бы все вместе, владея пространством земли в 8 квадратных верст и заведовало бы само своим внутренним домашним управлением, не освобождаясь, однако, от подчиненности общим государственным законам. Если бы такое общество состоялось, и правительство увидело бы на деле от него пользу и исполнение обещанных им целей, т. е. достижение общего благоустройства его членов, то оно без сомнения поощрило бы учреждение подобных же обществ, и таким образом, чрез более или менее продолжительное время, преобразовалось бы целое государство»21.
В силу своей убежденности в несомненной пригодности для блага Отечества системы Фурье Тимковский предлагал на собраниях Петрашевцев обратиться к правительству с просьбой о «выдаче денежных средств на учреждение первого пробного общества в 1800 человек». В случае отказа со стороны правительства в финансировании устройства «фаланстера» Тимковский намеревался «проехать просто к какому-нибудь банкиру, например, к Штиглицу, рассчитать ему всю выгоду, которую он получит, если обратит часть своих капитало в на эту спекуляцию, что зовется у фурьеристов
„фалангой“»22, не сомневаясь, что никакой банкир не устоит перед выгодами планируемого предприятия.
Такими же романтическими поклонниками идей Фурье были в то время Д. Д. Ах-шарумов (который даже в тюремной камере Петропавловской крепости царапал гвоздем на стене вирши о светлом будущем человечества под знаменем фурьеризма) и некоторые другие петрашевцы. Сам Петрашевский, по-видимому, очень серьезно относился к идеям Фурье. По крайней мере в своих заметках от называл учение Фурье «путеводной звездой», а его самого — «гением из гениев». В завещании Пе-трашевский просил после его смерти передать одну треть от наследства В. Конси-дерану, «главе школы фурьеристов, для основания фаланстера »23. Известна также трагикомическая попытка Петрашевского осчастливить своих крепостных крестьян жизнью на принципах фурьеризма, закончившаяся сожжением мужиками построенного для них фаланстера. Несмотря на такой конфуз, Петрашевский все же выражал надежду «на своем веку жить в фаланстере»24.
Ф. М. Достоевский тоже, несомненно, живо интересовался идеями французского утописта и доброжелательно отзывался о восторженных ревнителях учения Фурье среди своих товарищей, однако энтузиазма их не разделял. В частности, о Тимков-ском Достоевский сказал на допросе, что тот по молодости лет, недостатку образования и чрезмерной впечатлительности некритично воспринял учение Фурье, возлагая на него преувеличенные и неосуществимые надежды, однако, по словам Достоевского, «во всех других отношениях Тимковский показался мне совершенно консерватором и вовсе не вольнодумцем. Он религиозен и в идеях самодержавия. Известно, что система Фурье не отрицает самодержавного образа правления»25.
В скептическом отношении к фурьеризму Достоевский был не одинок. Так, Ф. Г. Толль, по его словам, «узнав социальные системы, не сделался социалистом, а считал их утопиями, не принимающими в соображение эгоистической человеческой природы, попытками соединить людей в ангельское общество»26.
П. А. Кузьмин дал на допросе очень любопытный отзыв о такого рода утопиях: «Мнение мое насчет социальных систем было, есть и будет таково, что все они могут существовать только на бумаге, в применении же никогда, потому что основание всех их ложно. Все господа систематики изображают человека добродетельным, без всяких дурных наклонностей и проч. Очевидно, что основание это ложно, человек далеко не таков, и устраивать целые общества из собрания таких идеальных господ несбыточно, не только теперь, но и никогда… Положим, что такая-то система и удовлетворила бы во всех подробностях понятиям нескольких человек о лучшем устройстве общества, но где же средства к применению ее для всех? Скажут, про-поведание ее и приготовление постепенное. Но могут ли несколькие убедить всех? Не найдутся ли разве люди, которые подметят слабые стороны и опрокинут этот карточный домик?..»27
В этих рассуждениях Кузьмина уже угадывается образ «джентльмена с ретроградной физиономией» из «Записок из подполья» (1864), который отлично подметил слабые стороны «карточного домика» и предложил опрокинуть его одним непочтительным пинком. Не мог не видеть этих уязвимых сторон фурьеризма и прочих утопий Достоевский и в 1849 г. Поэтому вполне заслуживают доверия его показания, в которых он утверждал: «Я не принадлежу ни к какой социальной системе, а изучал социализм вообще, во всех системах его, именно потому я (хотя мои познания далеко не окончательные) вижу ошибки каждой социальной системы. Я уверен, что применение хотя которой-нибудь из них поведет за собою неминуемую гибель. Я уже не говорю у нас, но даже во Франции. Это мнение было не раз выражаемо мною». В конце концов Достоевский категорически заявил: «Я никогда и не был социалистом, хотя и любил читать и изучать социальные вопросы»28.
То, что Достоевский отнюдь не был пламенным адептом социалистических доктрин, подтверждают многие мемуаристы, близко знавшие Федора Михайловича в 1840-х гг. Петрашевец А. П. Милюков вспоминал: «Все мы изучали этих социалистов, но далеко не все верили в возможность практического осуществления их планов. В числе последних был Ф. М. Достоевский. Он читал социальных писателей, но относился к ним критически. Соглашаясь, что в основе их учений была цель благородная, он, однако ж, считал их только честными фантазерами… Он говорил, что жизнь в икарийской коммуне или фаланстере представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги»29.
Между прочим, ни один из дававших показания петрашевцев не припомнил, чтобы Достоевский хотя бы раз говорил что-нибудь на их собраниях в пользу социалистических идей вообще и фурьеризма, в частности.
Все это убедило следователей в том, что вменять приверженность фурьеризму в вину петрашевцам означало бы выставить себя на публичное посмешище, во-первых, в силу совершенной политической безобидности этого учения, а во-вторых, вследствие того, что далеко не все из них (в том числе и Достоевский) являлись его поклонниками.
В итоге же первый этап расследования дела петрашевцев, драматично начинавшийся как спасение Отечества от зловещей секты фурьеристов, заканчивался слегка комически: 2 августа 1849 г. на допросе А. Н. Майкова, бывавшего у Петрашевского и вызванного для дачи показаний в Следственную комиссию, допрашиваемый вместе с членами комиссии уже весело потешались над разными нелепыми фантазиями Фурье о будущей блаженной жизни в «фаланстериях»30.
Те из петрашевцев, которых не удалось уличить в каких-либо иных прегрешениях, кроме интереса к «утопическим мечтаниям» (как Н. Я. Данилевский, А. П. Беклемишев, А. П. Баласогло, М. М. Достоевский, А. Н. Майков и др.), были выпущены на свободу без серьезных для них последствий, если не считать таковыми высылку на некоторый срок из столиц и секретного полицейского надзора. В правительственном сообщении о приговоре петрашевцем говорилось лишь о распространении ими неких «зловредных учений», однако имя Фурье не упоминалось вовсе.
Следует обратить внимание на то, что фурьеризм в понимании петрашевцев был учением с ярко выраженной антибуржуазной и антилиберальной направленностью. Петрашевский писал в своих показаниях: «Причина, почему социализм, при всей бла-годатности своего направления и стремления, так много подвергался и подвергается еще поныне в Европе превратным истолкованиям и даже площадным ругательствам и насмешкам, заключается в том, главным образом, что он есть учение (начала), прямо противоположное либерализму, и то, что, восставая противу тех злоупотреблений, тех законами дозволяемых по сие время разбоев, которые могут производить в настоящее время в обществе Ротшильды и другие владельцы капиталов в деньгах через скупы (accaparage), биржевую игру (agiotage), он таковые безнравственные действия представляет в настоящем их виде и вредит этим удаче их спекуляций подобного рода. Либералы и банкиры суть властители (феодалы) в настоящее время в З[ападной] Европе. Одни господствуют влиянием на мнение общественное, другие же — чрез посредство биржи и промышленности — по своему произволу распоряжаются явлениями жизни общественной. Нет ни одного волнения народного, от которого при видимой сперва потере не понажился хороший банкир — подобно Ротшильду, — от одного уменья выждать время и возможности перенести потерю, для других разорительную, для него ничтожную»31.
Нельзя не провести параллели между этими рассуждениями и тем, что много лет спустя писал Достоевский о «ротшильдовской» идее, о буржуазной бездуховности и т. п.
На вопросы следователей об источниках и причинах возникновения у него либеральных настроений Достоевский либералом себя не признавал, объясняя: «Со всею искренностию говорю еще однажды, что весь либерализм мой состоял в желании всего лучшего моему Отечеству, в желании безостановочного движения его к усовершенствованию. Это желание началось с тех пор, как я стал понимать себя, росло во мне все более и более, но никогда не переходило за черту невозможного. Я всегда верил в правительство и самодержавие… Меня всегда руководила самая искренняя любовь к Отечеству, которая подсказывала мне добрый путь и (я верю в то) оберегала меня от пагубных заблуждений. Я желал многих улучшений и перемен. Я сетовал о многих злоупотреблениях. Но вся основа моей политической мысли была — ожидать этих перемен от самодержавия»32.
Спустя совсем немного лет Достоевский в Сибири рассказывал своему другу барону А. Е. Врангелю, что «Петрашевского он не любил, затеям его положительно не сочувствовал и находил, что политический переворот в России пока немыслим, преждевременен, а о конституции по образцу западных при невежестве народных масс и думать смешно»33.
Достоевский действительно не питал к Петрашевскому личных симпатий34, но, судя по всему, вполне разделял сомнения того в благодеяниях западного конституционализма. В «Карманном словаре иностранных слов», изданном Петрашевским, в статье «Конституция» об этом образе правления сказано следующее: «Защитники его доказывают, что он основан на праве каждого члена общества участвовать в управлении того целого, которого он часть, но на практике это начало неосуществимо в больших государствах. Везде необходимость заставляет ограничить число лиц, имеющих право выбрать депутата от провинции или от сословия. А так как единственная мера, которою везде руководствуются, состоит в количестве имущества гражданина, то на практике до сих пор это хваленое правление есть не что иное, как аристократия богатства… Защитники конституции забывают, что человеческий характер заключается не в собственности, а в личности, и что, признав политическую власть богатых над бедными, они защищают самую страшную деспотию»35.
Позднее идею «увенчания здания» — заветную мечту либералов-конституционалистов — Достоевский называл «заговором против народа», а сам народ, по его словам, «прямо окрестил названием: „господчиной“»36. Эту мысль писатель высказывал неоднократно: «Конституцию, — вспоминал А. С. Суворин, — он называл „господ-чиной“ и уверял, что так именно называют ее мужики в разных местах России, где ему случилось с ними говорить»37.
Отвергали буржуазный либерализм и конституционализм и многие другие петрашевцы. И. Л. Ястржембский заявил следователям: «Либеральным себя я не сознаю, а держусь системы Фурье, который придерживается монархического правления»38.
Ф. Г. Толль, опираясь на исторический ход развития просвещения в России, приходил к выводу о незаменимости царского самодержавия для блага русского народа: «Мне кажется, что ни у одного народа на Западе (не говоря уже о древних) просвещение не истекало так прямо от верховной власти, как на Руси; не буду распространяться об этом, потому что это очевидно и давно сказано и доказано. Но из этого убеждения выходит у меня другое: что если просвещение должно идти вперед в России, то источником прогресса и впоследствии будет самодержавная власть, которая источник его в настоящую минуту»39. С. Ф. Дуров тоже назвал себя сторонником самодержавия: «Мои убеждения, глубокие, задушевные убеждения в том, что… самодержавие есть, так сказать, краеугольный камень прошедшего, настоящего и будущего величия и благоденствия России»40.
-
А. П. Беклемишев показал: «Я не либерал, не приверженец конституций, ни монархических, ни республиканских, дарованных или завоеванных. По моему мнению, можно быть свободным в монархии, рабство часто господствует в республике»41.
А. П. Баласогло хотя и допускал в каком-то неопределенном будущем возможность возникновения в России некоторых элементов представительного правления, но для настоящего времени полезным это не считал: «Я коренным и опытным образом, во всю полноту своей совести, убежден, что Россия без монарха не может просуществовать и ныне, и весьма-весьма надолго вперед ни единого часа. Это ключ свода; вырвать его — значит обрушить все здание»42. Наиболее зрелый и житейски опытный из петрашевцев Р. А. Черносвитов находил (в согласии с Достоевским), что существующий политический режим самодержавия соответствует культурному уровню населения империи: «Народ наш, — рассуждал он, — не в состоянии усвоить себе понятия о представительном правлении, и потому лучше настоящего оно быть не может… Республиканское правление еще дальше от возможности в народе младенческом и едва только не диком»43.
Приведенные критические мнения петрашевцев относительно либеральной доктрины и представительной демократии показывают, что Достоевский не был белой вороной в их среде, что подобные взгляды разделяли многие из них (хотя и не все). А это служит косвенным доказательством правдивости показаний Достоевского о его взглядах, иначе трудно было бы объяснить, каким образом он мог так долго вращаться в среде предполагаемых «революционеров» и «заговорщиков». Логичнее предположить, что ни Достоевский, ни большинство петрашевцев таковыми не были.
Непричастность к каким-либо революционным замыслам у петрашевцев объяснялась также теми историософскими взглядами, которые были свойственны многим из них. В соответствии с этими взглядами исторический процесс в России коренным образом отличался от западноевропейского, равно как и сформировавшийся под его воздействием национальный характер русского народа. Достоевский излагал на следствии данную историософию так: «Я, может быть, еще объясню себе революцию западную и историческую необходимость тамошнего современного кризиса. Там несколько столетий, более тысячелетия, длилась упорнейшая борьба общества с авторитетом, основавшимся на чуждой цивилизации завоеванием, насилием, притеснением. А у нас? И земля-то наша сложилась не по-западному! У нас исторические примеры перед глазами: 1) падение России перед татарами от ослабления авторитета и раздробления его, 2) безобразие республики новгородской — республики, испробованной в продолжение нескольких веков на славянской почве, — и, наконец, 3) двукратное спасение России единственно усилением авторитета, усилением самодержавия: первый раз — от татар, второй раз — в реформу Петра Великого, когда только одна теплая, детская вера в своего великого кормчего дала России возможность перенести такой крутой поворот в новую жизнь»44.
Схожие взгляды развивал и В. А. Головинский: «Либерализм и социализм — понятия чисто западные, там для них есть применение, потому что они развились историческим ходом Западной Европы. Европейское общество сложилось завоеванием: два враждебные племени — завоеватели и побежденные — вот основание. Власть феодальная не примирила, а еще более разъединила их; образовалось сословие феодалов, требовательное перед властию королевскою, угнетательное для прочих сословий (городского и сельского); вольные горожане соединяются с королями для того, чтобы избегнуть сурового угнетения, и в свою очередь неприязненно действуют на сословие сельское. При усилении власти монархической короли опираются не на народ, а на сословие привилегированное, которое в 1789 году своею требовательностию перед властию, своим нежеланием сделать необходимую уступку своих привилегий открыло ход движению революционному. Это начало либерализма, последовательно развиваемого всею новейшею историею Запада, то есть последнего 50-летия».
Буржуазная революция, однако, породила новые не разрешимые мирно противоречия: «При большом промышленном развитии, быстром увеличении народонаселения, неравномерном распределении собственности открылось новое зло — пауперизм. Трудящийся не находил обеспечения своих первых потребностей в труде своем и с жадно-стию бросился на те системы, которые представляли ему лучшую организацию общества (по его понятию). Социализм — это протест голода. Как выйдет Европа из своего затруднительного положения, обеспечится ли благосостояние всех и каждого — решит время и история. В России же все эти понятия, как либеральное, так и социальное, совершенно не применимы, они могут явиться только как плод фантазии — быть вычитаны, а самый поверхностный разбор исторического развития России покажет их неосновательность. Русское правительство всегда опиралось не на одно какое-либо сословие, а на целый народ, оно не предоставляло интересов слабых на произвол интересам сильных и постоянно заботилось о нравственном и физическом благосостоянии народа. Оно шло впереди развития». В России же, благодаря особости ее исторического пути, нет присущих Западу социальных противоречий, трудящиеся не подверглись обезземеливанию и пауперизации. Поэтому здесь нет почвы ни для буржуазной, ни для социалистической революции45. Об особом историческом пути и отсутствии в России социальных конфликтов западного типа говорил и Н. А. Момбелли: «Мне
-
44 Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. С. 133.
-
45 Дело петрашевцев. Т. 3. С. 224–225.
Памятные даты России. К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского (1821–1881) 57
казалось, что у каждого народа своя особая судьба, свое особое назначение, своя история, что между Западом и Востоком Европы нет ничего общего, кроме политических сношений, что Россия… развивается совершенно иначе, из семейного начала, патриархального (Русский император — патриарх России), которое допускает, без треволнений, без тревог, спокойное улучшение своего семейного быта»46.
Подобные историософские взгляды петрашевцев свидетельствуют об их знакомстве с сочинениями не только Фурье, но также и французских историков Ф. Гизо и О. Тьерри47, с «Историей государства Российского» Н. М. Карамзина48 и, вероятно, с первыми тремя томами «Исследований, замечаний и лекций о русской истории» М. П. Погодина, вышедшими в 1846 г. М. П. Погодин, один из главных идеологов т. н. «официальной народности» в период царствования Николая I, писал о своей концепции русской истории своему соратнику С. П. Шевыреву в 1832 г.: «Россия есть особливый мир, у ней другая земля, кровь, религия, основания, словом, другая исто-рия»49. Особые основания русской истории, с точки зрения Погодина, заключались в том, что, в отличие от Европы, государство на Руси возникло путем не завоевания, а добровольного призвания власти, что обусловило надклассовую природу этой власти, не имевшей пристрастия ни к одному из сословий и старавшейся умирять их противоречия во имя общего блага. Погодинская историческая концепция отлично укладывалась в идеологическую формулу «Православие, самодержавие, народность» С. С. Уварова и с приходом последнего к управлению Министерством народного просвещения в 1832 г. стала активно внедряться в учебный процесс. Так что многие петрашевцы, в том числе и Достоевский, могли познакомиться с взглядами Погодина на русскую историю еще на школьной скамье в 1830–1840-х гг. На их ровесников, будущих идеологов славянофильства Ю. Ф. Самарина и К. С. Аксакова, учившихся в те годы в Московском университете, лекции Погодина произвели сильное впечатление. «Мы были наведены им на совершенно новое воззрение на русскую историю и русскую жизнь вообще. Формулы западные к нам не применяются; в русской жизни есть какие-то особенные, чуждые другим народам начала, — вспоминал Самарин. — До Погодина господствовало стремление отыскивать в русской истории что-нибудь похожее на историю народов западных; сколько мне известно, Погодин первый, по крайней мере, первый для меня и для моих товарищей, убедил в необходимости разъяснения русской истории из нее самой»50.
Историческая концепция Погодина оказала заметное влияние на взгляды как славянофилов, так и петрашевцев, включая Достоевского, который с течением времени лишь укрепился в вере в особый путь России. Подобная историософия, разумеется, небесспорна, но бесспорно то, что она никоим образом не могла бы служить элементом революционной идеологии.
О том, что подавляющее большинство петрашевцев действительно не имело революционных устремлений, а взгляды их были чужды какого-либо радикализма, косвен но свидетельствует их судьба посл е амнистии и возвращения к гражданской жизни.
Двое из них (Н. Я. Данилевский и Ф. М. Достоевский) стали видными идеологами консерватизма. Некоторые сделали блестящую карьеру в царской администрации (А. П. Беклемишев стал губернатором, Е. И. Ламан-ский в течение нескольких десятилетий возглавлял Государственный банк Российской империи). Другие ушли в частную жизнь, занимались наукой, литературой, бизнесом. Те немногие, кто принимал участие в общественно-политической жизни, за пределы весьма умеренного либерализма не выходили. Нельзя сказать, что все они были сломлены заключением, ведь, в отличие от декабристов, проведших в «каторжных норах» многие десятилетия и вернувшихся домой глубокими стариками, петрашевцы находились на каторге или в арестантских ротах годы, а не десятилетия, многие же и вовсе отделались легким испугом. Когда петрашевцы вернулись домой, в стране были в разгаре «Великие реформы» 1860– 1870-х гг., открывшие довольно широкий простор для общественно-политической деятельности. Популярность социалистических учений в эту эпоху росла по экспоненте, однако никто из прежних «фурьеристов»
шзвлФДФздзаад» злмъчлшя и декцш,
М. Погодина» о русс л©! щаторзш.
■ эдАвМ
ИМПЕРАТОРСКИМ!» Мосховскпжь Оьщкегвомв Исгорш II ДРЕВНОСТЕЙ Ро<ХШСКИХЪ.
ТОМЬ I.
■ СТГП41ВИ.
011 ВСТОЧИВКАП XPIBHXi РУССЖО* НСТОРСН.
пргжмущгетжемыо О жестор*.
МОСКВА.
Пт. УннвгрсштЕтской Тжаогг**1в.
184G.
«Исследования, замечания и лекции о русской истории» М. П. Погодина, изданные в 1846 г.
не проявил желания включиться в деятельность тогдашних социалистов51.
Это явление представляет разительный контраст с тем, как вели себя социалисты народнического периода: А. И. Желябов, С. Л. Перовская, Е. К. Брешко-Брешковская, В. Н. Фигнер, Г. А. Лопатин, Л. Э. Шишко и многие другие. Будучи репрессированы за пропаганду, как и петрашевцы, они, едва вырвавшись из лап тюремщиков, немедленно возобновляли борьбу с самодержавием, переходя к вооруженным, террористическим методам. И даже отсидев десятки лет на каторге или в крепости, те из них, кому посчастливилось дожить до освобождения, снова присоединялись к революционно-социалистическому движению и продолжали борьбу во имя своих идеалов до последнего дыхания. Конечно, необходимо учитывать различие исторических эпох и поколенческих психотипов, однако М. А. Бакунину, ровеснику многих петрашевцев, ни смертные приговоры, ни длительное заточение в крепости и на каторге не помешали сохранить верность революционным убеждениям. Кстати сказать, Бакунин, лично хорошо знавший Петрашевского, не считал его настоящим революционером и отзывался о нем как о человеке с невысокой нравственностью («просто свинья с человеческою головою»), но с сатанинскими амбициями. Об остальных петрашевцах Бакунин высказался однозначно: «Кроме Толля и потом Спешнева, явившегося позже, все были решительными, систематическими противниками революционных мер и действий»52.
По мнению Достоевского, никакого «революционного заговора» из собраний у Петрашевского не могло бы возникнуть уже потому, что не существовало и в помине хоть каких-то пунктов общего согласия между петрашевцами: «Чтоб ответить на вопрос, не было ли какой тайной, скрытой цели в обществе Петрашевско-го, можно утвердительно сказать, припоминая всю разноголосицу, все это смешение понятий, характеров, личностей, специальностей, все эти споры, доходившие чуть-чуть не до вражды и которые тем не менее оставались одними спорами, — смотря на все это и сообразив, можно утвердительно сказать, что невозможно, чтоб была какая-нибудь тайная, скрытая цель во всем этом хаосе. Тут не было и тени единства и не было бы до скончания веков»53.
Участие в этих бурных дискуссиях служило для Достоевского чуть ли не единственным оправданием его посещения пятниц Петрашевского: «Без споров у Пе-трашевского было бы чрезвычайно скучно, потому что одни споры и противоречия и могли соединить этих разнохарактерных людей…» Причем, и это, по-видимому, было важно для Достоевского, в подобных прениях с открытым забралом, когда нельзя было увернуться от всесторонней критики, когда позиции сторон высказывались до последних пределов, обнаруживались и любые подтасовки, софизмы и словесная мишура, в которые закутывались разные «великодушные» идеи: «Истина всегда наверх всплывет, и здравый смысл одержит победу; так я смотрел на эти собрания и на основании такого взгляда ходил иногда к Петрашевскому. И опыт оправдал меня. Потому что, например, о фурьеризме перестали наконец совсем говорить, ибо фурьеризм был засыпан насмешками со всех сторон, даже как учение. Но если бы решился кто-нибудь у Петрашевского говорить о применении системы Фурье к нашему общественному быту, то ему тут же бы без всяких околичностей насмеялись в глаза»54.
Еще одним пунктом обвинения петрашевцев было обсуждение на их собраниях крестьянского вопроса, реформы судоустройства и цензурных стеснений печати. Никто из них этого не отрицал. Так, П. А. Кузьмин в своих показаниях от 7 мая 1849 г., признав свое участие в беседах об «улучшении судопроизводства и судоустройства, свободе книгопечатания и уничтожении крепостного состояния» на вечерах у Пе-трашевского, в свою очередь, задал вполне резонный вопрос следователям: «Но толк об этих предметах нарушил ли хотя на один атом благополучное спокойствие нашего Отечества? Да и мог ли нарушить?»55 Многие петрашевцы справедливо указывали на то, что сама верховная власть неоднократно возбуждала вопрос об освобождении крестьян от крепостной зависимости и предпринимала конкретные преобразования в этом направлении56. В обществе всевозможные толки об этом не утихали ни на минуту. Даже в тогдашней печати этот вопрос рассматривался с разных точек зрения, достаточно вспомнить знаменитую статью А. И. Кошелева «Охота пуще неволи», опубликованную легально всего за полтора года до ареста петрашевцев.
Предметом общего обсуждения крестьянский вопрос был только на одном вечере у Петрашевского, 1 апреля 1849 г. Дискуссия велась в основном между М. В. Пет-рашевским и В. А. Головинским и касалась действительно центральной проблемы: каким образом обеспечить наделение крестьян землей при выходе из крепостной зависимости, не нарушив при этом законных прав помещиков? Достоевского эта непростая проблема настолько заинтересовала, что потом он еще отдельно обсуждал ее с Головинским. В своих показаниях Достоевский рассказывал об этом так: «В одном из разговоров моих с Головинским, один на один, у меня на квартире, мы заговорили о крестьянах и о возможности их освобождения. Так как я очень интересовался этим вопросом, то и спросил Головинского, каким образом он полагает возможность освобождения крестьян, не разорив помещиков, то есть при вознаграждении помещиков, представляя ему, что иначе вопроса и нельзя разрешить; ибо нашего времени помещик не сам поработил крестьян, а случилось это до него за два столетия, то есть в этом он нисколько не виноват, а теряя право на крестьянина, он теряет работника, след., капитал? Я очень хорошо помню, что Головинский не только согласился с этим, но даже сказал мне, что, по его идее, нет прямой невозможности освободить крестьянина с вознаграждением, что, напротив, вознаграждение возможно, и даже сказал несколько слов о какой-то финансовой мере, по которой бы можно было, рассрочив на несколько лет платеж, выплатить все сполна»57.
Любопытно, что Петрашевский в ходе этой дискуссии высказывал довольно необычные для «революционера» взгляды, выступая против отмены крепостного права. По словам С. Ф. Дурова, «Петрашевский восставал против освобождения крестьян, отзываясь тем, что помещичьи крестьяне благоденствуют сравнительно с казенны-ми»58. Достоевский в своих показаниях подтвердил, что Петрашевский выражал подобную мысль, правда, с несколько иным акцентом: «Он говорил о необходимости реформ: юридической и цензурной прежде крестьянской и даже вычислял преимущества крепостного сословия крестьян перед вольными при нынешнем состоянии судопроизводства»59. Н. А. Момбелли тоже высказывал серьезные опасения, что само по себе освобождение крестьян не гарантирует автоматически улучшения их участи: «От одного слова свободный, оттого, что вместо помещичьего крестьянин сделался исключительно казенным, благосостояние его еще не везде улучшится. Без сомнения, правительство имеет больше средств, чем помещики; но зато тут потребуется значительное число особых чиновников, за добросовестность которых всегда нельзя ручаться. Помещик, даже самый строгий, все-таки смотрит на своих крестьян, как на детей, по необходимости понимает, что его собственное благосостояние зависит от благосостояния его крестьян, и в нужде им помогает и выручает их из случайных бед. Недобросовестный же чиновник никакого родственного чувства к крестьянину чувствовать не будет, интересами с ним никакими не связан, о будущности его не подумает и, что можно, вытянет, при случае»60.
Хотя подобные аргументы нередко звучали и из уст крепостников вроде Н. М. Ка-рамзина61, это не означает, что Момбелли или Петрашевский не сочувствовали освобождению крестьян, просто хорошо осознавали всю сложность этой задачи. Тем не менее в своем завещании Петрашевский наказывал его крепостных «крестьян освободить, если только они по разделу могли бы достаться на мою долю»62. Им был составлен тезисный план бесплатного наделения землею крестьян при выходе их из крепостной зависимости. Впрочем, сам же он считал подобный план нереалистичным и выдвигал его скорее в качестве благого пожелания63. В любом случае ни Пе-трашевский, ни тем более Достоевский «звать Русь к топору» и пускать «красного петуха» и в мыслях не имели.
По сообщению П. П. Семенова-Тян-Шанского, тоже одно время посещавшего Пет-рашевского, в его кружке читали секретную записку А. П. Заблоцкого-Десятовского «О крепостном состоянии в России», написанную по поручению министра государственных имуществ графа П. Д. Киселева в 1841 г. и предназначенную для императора
Николая I64. В этой записке были внимательно рассмотрены существующие нездоровые отношения помещиков с их крепостными и сформулированы, в самой, впрочем, общей и осторожной форме те принципы освобождения крестьян с наделением их землею, которые в 1861 г. легли в основу Великой реформы Александра II65. Возможно, под влиянием этой записки петрашевец А. П. Беклемишев разработал свой проект освобождения крестьян, предусматривавший обеспечение их земельным наделом и вознаграждение помещиков за уступленную крестьянам землю посредством выкупной операции, которая по сути своей очень близка к той, что вошла в Положения 19 февраля 1861 г.66.
Возможность народных бунтов том в случае, если правительству не удастся найти способ мирного и контролируемого освобождения крепостных крестьян, действительно обсуждалась петрашевцами67. Но желательным такой исход они не считали (кроме, возможно, Спешнева68). А. П. Милюков вспоминал, с каким вдохновением читал Достоевский на одном из вечеров стихотворение А. С. Пушкина «Деревня» про «рабство, падшее по манию царя», а «когда при этом кто-то выразил сомнение в возможности освобождения крестьян легальным путем, Ф. М. Достоевский резко возразил, что ни в какой иной путь он не верит»69. Достоевского пугали даже повествовательные беседы о бунтах и восстаниях. Когда на одном из вечеров у Петрашев-ского Р. А. Черносвитов рассказал о бунте государственных крестьян в Оренбургской и Пермской губерниях, свидетелем которого он был, Достоевский заподозрил в нем шпиона III Отделения, специально подосланного, чтобы спровоцировать их сообщество на какую-нибудь антиправительственную выходку70. Очевидно, что Федору Михайловичу были неприятны любые толки о пугачевщине71, так как в его жизненные планы едва ли входило вместо салона столичных интеллектуалов внезапно оказаться в шайке злоумышленников, а потом в застенке… Больше подобных разговоров в присутствии Достоевского не велось. Впрочем, и сам Петрашевский в дальнейших приватных беседах с Черносвитовым высказался «вообще против бунта и восстаний черни»72.
Избежать подобных разговоров в России в те времена не представлялось возможным даже в самых верноподданных кругах. Например, Ф. В. Булгарин, казалось бы, олицетворение угодничества перед начальством и главный рупор идеологии «официальной народности» Николаевской эпохи, и тот в одном из своих донесений главе III Отделения Л. В. Дубельту (от 16 апреля 1848 г.) излагал план постепенной отмены крепостного права, к осуществлению которого советовал приступать безотлагательно, предвидя в противном случае прямую угрозу крестьянского восстания: «Крестьяне не могут всегда оставаться в нынешнем положении — рано или поздно дойдет до топорной экспликации»73.
Достоевский на допросах категорически отрицал, что в его присутствии среди петрашевцев велись какие-либо разговоры о бунтах, вооруженных восстаниях и тайных обществах в смысле их желательности или целесообразности , резонно указывая следователям, между прочим, на то, что подобный способ устройства заговора — в многолюдных собраниях, свободно посещаемых случайными гостями, — являл бы собой верх слабоумия. Если бы такие речи вдруг зазвучали на вечере у Петрашевского, то никакого другого впечатления кроме недоумения и ужаса на подавляющее большинство вполне законопослушных и верноподданных гостей они не смогли бы произвести, и на следующий вечер к Петрашевскому никто просто не пришел бы74.
В конечном итоге даже суровый военный суд вынужден был признать, что «все описанные собрания, отличавшиеся вообще духом, противным правительству, и стремлением к изменению существующего порядка, не обнаруживают единства действий; к разряду организованных тайных обществ они тоже не принадлежали, и чтобы имели какие-либо сношения внутри государства, не доказывается никакими положительными данными»75.
Петрашевцы в поисках ответа на жгучие социальные вопросы больше уповали не на «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», а на русскую крестьянскую общину. Внимание на общину они обратили, скорее всего, под влиянием известного труда Августа Гакстгаузена «Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России» (1847), выписки из которого сохранились в бумагах Петрашевского. В сочинении Гакстгаузена поземельная община рассматривается как институт, предохраняющий русское крестьянство от пролетаризации и пауперизма, которые стали страшной язвой в странах Западной Европы, вследствие чего там не прекращается революционное брожение и распространяются, словно повальные болезни, идеи социализма и коммунизма. Община, по мнению Гакстгаузена, представляла огромное преимущество России и залог мирного разрешения социальных противоречий76.
Отголоски концепции Гакстгаузена можно видеть во многих высказываниях петрашевцев. Так, по мнению Петрашевского, единственное, что до сих пор не позволяло русскому мужику впасть в беспросветную нищету при крайне низкой производительности его труда, — это существующий в общине «передел полей — общее пользование землею»77. В. А. Головинский, в свою очередь, утверждал: «В славянском начале есть основание, которое избавит Россию от ужасных последствий социализма, — это община. Так в России существует два рода собственности — личная и общинная — деревенская, т. е. крестьянская земля принадлежит не какому-либо отдельному лицу, а целому миру — общине, которая распределяет ее между мирянами»78. Н. П. Григорьев вторил ему: «Что такое артель, как не слышимое изобретение русского простого ума — давно поставившего социализм на должное ему место? Что такое наша общественная запашка — все тот же социализм, только без глупости, страшно лишь слово одно»79. По свидетельству петрашевца А. П. Милюкова, подобные взгляды разделял в то время и Достоевский: «В особенности настаивал он на том, что все эти теории для нас не имеют значения, что мы должны искать источников для развития русского общества не в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом историческом строе нашего народа, где в общине, в артели и круговой поруке давно уже существуют основы более прочные и нормальные, чем все мечтания Сен-Симона и его школы»80. По-видимому, Достоевский ничуть не кривил душой, когда писал в своих показаниях: «Фурьеризм, вместе с тем и всякая западная система, так неудобны для нашей почвы, так не по обстоятельствам нашим, так не в характере нации, а с другой стороны, до того порождение Запада, до того продукт тамошнего, западного положения вещей, среди которого разрешается во что бы то ни стало пролетарский вопрос, что фурьеризм с своею настойчивою необходимостью в настоящее время, у нас, между которыми нет пролетариев, был бы уморительно смешон»81.
Что же касается обсуждения петрашевцами недостатков в российском судоустройстве, то в том, что отечественная судебная система страдает многими недостатками, согласны были практически все в России, не исключая и представителей высшей власти. Само по себе обсуждение в частных беседах изъянов существующих порядков и возможных улучшений в них не могло бы служить поводом для обвинений, поскольку речь не шла о покушении на прерогативы самодержца. Ведь реформы в России всегда исходили от царской власти, и от нее петрашевцы в большинстве своем ожидали реформаторских починов и в будущем82. Самым активным сторонником судебной реформы выступал Петрашевский, считавший ее даже важнее крестьянской. Суть его предложений сводилась к введению гласного и состязательного суда, учреждению адвокатуры и суда присяжных, причем все эти институции Петрашевский предлагал властям в качестве эксперимента испробовать на собственном их, петрашевцев, процессе83. Революционными подобные преобразования назвать нельзя. Ничего принципиально другого не смогло придумать и само правительство Российской империи, когда оно приступило к разработке судебной реформы при Александре II84.
В дебатах вокруг судебной реформы Достоевский, видимо, не чувствуя себя достаточно компетентным в этом вопросе, участия не принимал. Зато споры о свободе слова и цензуре явно задевали его за живое. В своих показаниях он необычайно эмоционально изложил свои воззрения на предпринимаемые драконовские меры в отношении печатного слова. Достоевский пытался донести до властей, что неоправданно жесткая цензура убивает не крамолу, а литературу как таковую: «Литературе трудно существовать при таком напряженном положении. Целые роды искусства должны исчезнуть: сатира, трагедия уже не могут существовать. Уже не могут существовать при строгости нынешней цензуры такие писатели, как Грибоедов, Фонвизин и даже Пушкин. Сатира осмеивает порок, и чаще всего порок под личиною добродетели. Как может быть теперь хоть какое-нибудь осмеяние? Цензор во всем видит намек, заподозревает, нет ли тут какой личности, нет ли желчи, не намекает ли писатель на чье-либо лицо и на какой-нибудь порядок вещей… Как будто скрывая порок и мрачную сторону жизни, скроешь от читателя, что есть на свете порок и мрачная сторона жизни. Нет, автор не скроет этой мрачной стороны, систематически опуская ее перед читателем, а только заподозрит себя перед ним в неискренности, в неправдивости…»85
Достоевский доказывал, что не может искусство, оставаясь живым, рисовать только фальшивые картины всеобщего согласия, благоденствия и безмятежности. Жизнью движет борьба между добром и злом, оттого искусство, правдиво отражающее жизнь, не может игнорировать явлений неприглядных и уклониться от изображения конфликта, вне которого невозможна победа над заблуждением и пороком и торжество добра. Торжества последнего художники жаждут так же, как и правительство, потому мнимое противостояние между ними основано на чистом недоразумении, так как цель у них общая.
Как бы ни были неприятны эти рассуждения властям, не сознавать их справедливость не могли даже самые преданные слуги николаевского режима. Сам Л. В. Дубельт подчас сомневался в эффективности цензурного террора: «Хороший человек не станет читать худых книг, порочного и безнравственного листка и в руки не возьмет; а дурному человеку никакая цензура не помешает доставать худые книги. Запрещение, напротив, еще более раздражает любопытство и заставляет прочесть какую-нибудь скверность»86. В 1846 г. даже Ф. В. Булгарин, заслуживший позорную славу своей рептильностью журналист, представил Дубельту записку о цензуре87, в которой возмущался бессмысленными преследованиями печатного слова буквально в тех же выражениях, что и Достоевский в своих показаниях (за исключением того, что Булгарин прямо называл цензоров идиотами, а Достоевский ограничивался эвфемизмами). Чтобы быть последовательными, властям надлежало бы посадить на скамью подсудимых вместе с Достоевским также Булгарина и Дубельта за то, что они в частных беседах «порицали государственные учреждения» и вели «рассуждения, противные духу правительства», а также за недонесение о подобных фактах (именно такие вещи вменялись петрашевцам). Вместе с ними можно было бы посадить и министра народного просвещения С. С. Уварова, который в своем всеподданнейшем докладе «О цензуре» от 24 марта 1848 г. пытался объяснить Николаю I контрпродуктивность политики запугивания и репрессий в отношении литературы и периодической печати88.
Видимо, поэтому обвинения против Достоевского по данным пунктам в его приговоре не были упомянуты89. К тому же он не принимал активного участия в дебатах ни вокруг крестьянской и судебной реформы, ни по поводу цензуры, а взгляды его на эти вопросы, откровенно изложенные им в показаниях, очевидно, не заключали в себе ничего неблагонамеренного90.
Что же еще могли власти вменить Достоевскому? Были ли какие-то вещественные улики, помимо взаимных оговоров петрашевцев?
Поскольку Достоевский, как и другие петрашевцы, был арестован внезапно в ночь на 23 апреля 1849 г., то уничтожить какие-либо документы возможности он не имел. Пришедшие с обыском жандармы изъяли все обнаруженные у него бумаги и книги. Однако ровно ничего, имеющего отношения к обвинениям в государственном преступлении, среди них не оказалось. Все, что удалось обнаружить подозрительного, сводилось к трем пунктам:
-
1. Письмо к Достоевскому от А. Н. Плещеева о его пребывании в Москве. Следователи обратили свое бдительное внимание на передаваемые Плещеевым московские сплетни: «Царь и двор встречают здесь мало симпатии. Все, исключая разве лиц, принадлежащих ко двору, желают, чтобы скорее уехали. Даже народ как-то не изъявляет особенной симпатии» и т. д.91 Письмо Плещеева заключала также игривая фраза «всем salut et fraternité»92, и слово «fraternité» заставило сыщиков рефлекторно навострить уши. Приобщение к делу в качестве улик такой ерунды лишний раз показывает, насколько ничтожна была доказательная база в распоряжении тех, кто затеял это дело о «революционном заговоре». Кроме того, если это письмо и могло вообще компрометировать кого-либо, то не Достоевского, а Плещеева;
-
2. Записка от В. Г. Белинского с приглашением Достоевского в гости к неназванному по имени третьему лицу, совершенно невинного содержания, доказывающая лишь факт знакомства Достоевского с покойным Белинским, коего Достоевский и не отрицал93;
-
3. Две запрещенные в России книги на французском языке: “Le Berger de Kravan” и “La célébration du dimanche”94. Относительно этого пункта Достоевский дал следующее объяснение: «Накануне ареста, 22 апреля, я заходил вечером к Григорьеву и взял у него со стола “Le Berger de Kravan”. Я не успел прочесть этой книги ни строчки и потому содержания ее не знаю. Другую же, “La célébration du dimanche”, взял я, кажется, за неделю до ареста, у Головинского. Я прочел в ней только несколько страниц еще в бытность у Головинского, и так как она показалась мне занимательною, то я и взял ее с собой»95.
Первая книга принадлежала перу Эжена Сю — “Le Berger de Kravan, ou Entretiens socialistes et démocratiques sur la république, les prétendants et la prochaine présidence” («Пастух из Кравана, или Социалистические и демократические беседы о республике, претендентах на престол и предстоящем президентстве», Paris, 1848. Вторая часть вышла в 1849 г.); автор второй — Ж. П. Прудон — “De la célébration du Dimanche, considérée sous les rapports de lʼhygiène publique, de la morale, des relations de famille et de cité” («О праздновании воскресенья, рассмотренном в связи с общественной гигиеной, моралью, семейными отношениями и городским общежитием». Впервые опубликована в Безансоне в 1839 г., в 1840-х гг. во Франции вышло еще несколько изданий этого сочинения). Книга Сю представляет собой антироялистский и анти-бонапартистский памфлет, и хотя написана она с республиканских позиций, однако целиком и полностью посвящена французской политической повестке 1840-х гг., имеющей к России весьма отдаленное отношение96. Что касается работы Прудона, на- писанной на конкурс Безансонской академии, то в ней с многочисленными ссылками на Моисея и Иисуса Христа проводились идеи равенства и народного суверенитета, которые, впрочем, почти полностью тонули в нарочитом пафосе и проповеднической риторике этого сочинения.
Обе книги содержали в себе крамолы не больше, чем любая из французских газет, которые в те времена подавали вместе с кофе в петербургских кондитерских. Извлечь что-нибудь пригодное для серьезного обвинения из материалов, изъятых у Достоевского при аресте, не представлялось возможным, поэтому в окончательном приговоре по его делу они не фигурировали.
Одним из главных обвинений Достоевского и других петрашевцев было чтение на обеде у Н. А. Спешнева 2 апреля 1849 г. рассказа Н. П. Григорьева «Солдатская беседа». В рассказе от имени отставного солдата Семеновского полка выражалось в резкой и даже грубой форме недовольство засильем «немцев» в русской армии («Царь строит себе дворцы да золотит блядей, да немцев. С каждым годом служба все тяжелее, а все колбасники проклятые; все захватили, да и мучат православных»). «Рыжим псом» именовался брат царя, великий князь Михаил Павлович; высказывалось сочувствие декабристам, страдающим на каторге за народ; ставились в пример порядки в революционной Франции («А уж у них не житье ли? Нет там графов, ни господ, все равны… Они не хотят царей и управляются, как и мы же в деревне. Миром сообща и выборными»)97. Хотя этот рассказ удостоился похвал у большинства присутствовавших, Ф. М. Достоевский пошел против общего мнения и прямо заявил, что «не одобряет направление статьи Григорьева»98. К брату присоединился и Михаил Михайлович Достоевский, который даже «просил Григорьева уничтожить свое сочинение»99.
-
7 апреля 1849 г. чтение «Солдатской беседы» было повторено на вечере у петрашевца С. Ф. Дурова. И снова, согласно показаниям В. А. Головинского, Достоевский «порицал» рассказ Григорьева, заявив: «Вечера наши примут преступное направление, если мы будем читать статьи преступного содержания и рассуждать о преступных способах распространения своих мыслей; остановимтесь, не сделаем из простого удовольствия собираться для того, чтобы видеть друг друга, вещи преступной»100.
Достоевскому смогли инкриминировать лишь недонесение о распространении «злоумышленного сочинения поручика Григорьева», но не единомыслие с ним.
Наконец, самым тяжким пунктом обвинения Достоевского было публичное чтение им знаменитого письма Белинского к Гоголю, в котором Белинский обрушился с уничтожающей критикой на общественно-политические воззрения, выраженные автором «Ревизора» и «Мертвых душ» в своей новой книге «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). Воспользовавшись поводом, Белинский в этом письме подверг тотальной дискредитации основные институты Российской империи — самодержавную власть, крепостное право, православную религию, — которые, по его мнению, пытался оправдывать Гоголь в своей книге.
Жандармы не сомневались, что Достоевский, затеяв чтение письма Белинского к Гоголю, сделал это для пропаганды радикальных взглядов Белинского, с которыми, очевидно, он был солидарен, будучи заведомым фурьеристом, заговорщиком,

В. Г. Белинский.
Литография К. А. Горбунова, 1843 г.
карбонарием и т. д. В русле этой логики жандармов рассматривали данный эпизод и многие советские исследователи, разделявшие представление о Достоевском как об искреннем социалисте и революционере в период его принадлежности к кружку Петрашевского.
Первым это мнение высказал Орест Миллер в своем очерке о Достоевском, утверждая, что, тот «с полным сочувствием читал у Петрашевского письмо Белинского, что и послужило одним из капитальных пунктов его обвинения». Вывод о «полном сочувствии» Достоевского содержанию крамольного письма Миллер сделал на основании рассказа И. Л. Ястржембского, присутствовавшего на собрании 15 апреля 1849 г. у Петрашевского, где происходило чтение переписки Белинского с Гоголем. По словам Ястржембского, «он живо помнит, до какой степени был он поражен симпатичным голосом Ф. М. „Читать он был мастер“, — замечает Ястржембский. Впоследствии, говорит он, „это чтение послужило поводом к осуждению как Достоевского, так и меня, за то, что я выражал одобрение и сочувствие мыслям письма и даже кивал головою“»101.
Рукопись воспоминаний Ястржембского о деле петрашевцев была найдена в бумагах Ореста Миллера после его смерти и опубликована в 1908 г. в журнале «Минувшие годы»102. Однако в этих воспоминаниях вышеприведенный эпизод отсутствует, в них вообще не упоминается Достоевский и чтение письма Белинского. Следовательно, Миллер использовал в своем очерке какие-то устные рассказы Ястржембского о том, что у Достоевского был «симпатичный» голос и вообще он был хороший чтец. Исходя из этого факта, Миллер нашел возможным умозаключить, что Достоевский полностью «сочувствовал» тому, что писал Белинский в своем письме. Несмотря на в высшей степени шаткие основания для подобного умозаключения, многие последующие биографы Достоевского ссылались на сообщение Миллера как на единственный источник для подтверждения того, что Достоевский всецело разделял взгляды Белинского и в споре его с Гоголем, несомненно, был на стороне критика103.
Однако на допросах Достоевский утверждал, что прочитал письмо В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю лишь в качестве примечательного литературно-общественного явления, нимало при этом не солидаризируясь с мнениями автора письма: «Меня обвиняют в том, что я прочел статью „Переписка Белинского с Гоголем“ на одном из вечеров у Петрашевского. Да, я прочел эту статью, но тот, кто донес на меня, может ли сказать, к которому из переписывавшихся лиц я был пристрастнее? Пусть он припомнит, было ли не только в суждениях моих (от которых я воздержался), — но хоть бы в интонации голоса, в жесте моем во время чтения, что-нибудь способное выказать мое пристрастие к одному лицу, преимущественно, чем к другому из переписывавшихся? Конечно, он не скажет того». Собственное мнение Достоевского, по его словам, было отнюдь не в пользу Белинского: «Письмо Белинского написано слишком странно, чтоб возбудить к себе сочувствие. Ругательства отвращают сердце, а не привлекают его; а все письмо начинено ими и желчью написано. Наконец, вся статья образец бездоказательности — недостаток, от которого Белинский никогда не мог избавиться в своих критических статьях и который усиливался по мере истощения нравственных и физических сил его в болезни… Я прочел эту статью ни более ни менее как литературный памятник, твердо уверенный, что она никого не может привести в соблазн, хотя она и не лишена некоторого литературного достоинства. Что до меня касается, я буквально не согласен ни с одним из преувеличений, находящихся в ней. Теперь я прошу взять в соображение следующее обстоятельство: стал ли бы я читать статью человека, с которым был в ссоре именно за идеи (это не тайна; это очень многим известно), да еще писанную в болезни, в расстройстве умственном и душевном, — стал ли бы я читать эту статью, выставляя ее как образец, как формулу, которой нужно следовать?..»104
Федор Михайлович, по его утверждению, не хотел устраивать публичное чтение переписки Белинского с Гоголем и был вынужден к этому щекотливыми обстоятельствами психологического, а не политического свойства. Копию этой переписки он получил от А. Н. Плещеева при письме, отправленном на адрес С. Ф. Дурова, который и вручил все это Достоевскому в присутствии А. И. Пальма. Достоевскому волей-неволей пришлось рассказать Дурову и Пальму о том, что писал Плещеев из Москвы, чтобы не оскорбить товарищей недоверием, а также ознакомить их с присланной перепиской Белинского и Гоголя. Дуров немедленно предложил устроить чтение этой переписки у него на вечере, от чего Достоевскому было неловко отказаться. Явившемуся вскоре к Дурову на обед Петрашевскому также сообщили об этом сенсационном документе, и тот, разумеется, пожелал, чтобы Достоевский прочитал переписку Белинского с Гоголем и для его гостей. И на этот раз Достоевский не нашел в себе решимости отказаться. Так состоялись два публичных чтения — у Дурова в конце марта и у Петрашевского 15 апреля 1849 г. Причем на последнем из вечеров Петрашевский должен был специально напомнить Достоевскому о его обещании, от исполнения которого тому, по-видимому, очень хотелось уклониться, так что пришлось Федору Михайловичу скрепя сердце прочитать эту переписку и здесь105.
Этот тягостный опыт впоследствии нашел отражение в романе «Бесы», где люди, увлекаемые кружковой атмосферой, под давлением страха показаться недостаточно «прогрессивными», оказываются втянуты в гнусные дела, которым не только не сочувствуют, но против которых внутренне протестует все их существо…
Достоевский не скрывал от следователей своей прежней близости к Белинскому, но утверждал, что решительно разошелся с ним из-за тенденциозно-политического значения, которое критик отводил литературе. «Взгляд мой был радикально противоположный взгляду Белинского», — утверждал Достоевский, и если на собраниях петрашевцев он оставил без каких-либо критических комментариев читанную им переписку и не высказал своего негативного отношения к воззрениям Белинского, то лишь из-за этических соображений: «Из уважения к человеку, уже умершему, замечательному в свое время, которого многие уважают за некоторые литературноэстетические статьи его, написанные действительно с большим знанием литературного дела, — наконец, из щекотливого чувства но поводу ссоры нашей за идеи, которая многим известна, я прочел всю переписку, воздержавшись от всяких замечаний и с полным беспристрастием»109.
Можно было бы и здесь заподозрить Достоевского в неискренности перед лицом царских сатрапов, что и делали многие исследователи110. Однако нет никаких документальных подтверждений этого. Остальные участники кружка Петрашевского в своих показаниях не сумели припомнить хоть каких-то высказываний Достоевского после чтения письма Белинского, которые позволяли бы говорить о его солидарности с инвективами «неистового Виссариона». Напротив, самостоятельную ценность искусства, которому надлежит стоять выше газетной злобы дня и любой политической конъюнктуры, Достоевский отстаивал в спорах с Петрашевским, придерживавшимся воззрений Белинского на этот вопрос111.
О реакции аудитории на чтение Достоевским письма Белинского к Гоголю сохранились противоречивые свидетельства. Так, П. А. Кузьмин полностью разделял мнение Достоевского: «Чтение письма Белинского к Гоголю произвело на меня грустное впечатление, видно, что писано было в раздраженном, болезненном состоянии»112. П. И. Ламанский также отнесся отрицательно к услышанному, сравнив Белинского с «лошадью, закусившей удила»113. С другой стороны, шпион Антонелли в своих доносах сообщал, что «это письмо вызвало множество восторженных одобрений общества, в особенности у А. П. Баласогло и И. Л. Ястржембского, преимущественно там, где Белинский говорит, что у русского народа нет религии»114. Многие из присутствовавших пожелали сделать для себя копию письма Белинского, возникло предложение размножить его литографским способом, но против этого решительно восстал Ф. М. Достоевский. «Достоевский убедил всех, что мысль эта безрассудна», — говорилось в итоговом докладе по результатам следствия по делу петрашевцев115.
Едва ли это свидетельствует о том, что Достоевский вместе с другими петрашевцами восторгался письмом Белинского. Даже по прошествии десятилетий писатель не мог без возмущения вспоминать оскорбительные отзывы Белинского о религии, Иисусе Христе и русском народе. Конечно, в конце 1840-х гг. отношение Достоевского к Белинскому и его атеистическим взглядам далеко не достигло того градуса неприятия и осуждения, как во времена написания «Бесов», когда Достоевский называл покойного критика «самым смрадным, тупым и позорным явлением русской жизни»116. Тем не менее очевидно, что разрыв Достоевского с кружком Белинского и «Современника» в 1847 г. объясняется не только задетым самолюбием писателя, чьими произведениями в этом кружке перестали восторгаться как «гениальными» творениями «нового Гоголя», но и тем, что Федору Михайловичу претили рассуждения наподобие тех, которые нашли свое концентрированное выражение в письме Белинского к Гоголю и которые Достоевский не мог слышать без содрогания. Позднее Достоевский так описывал эти болезненные для него столкновениях с критиком: «Белинский обращал его в атеизм и на возражения Достоевского, защищавшего Христа, ругал Христа по-матерну. „И всегда-то он сделает, когда я обругаюсь, такую скорбную, убитую физионо-мию“, — говорил Белинский, указывая на Достоевского с самым добродушным, невинным смехом»117. Хотя в письме к Гоголю Белинский не задевал личность Иисуса Христа, утверждая, что это Христианская Церковь в корне извратила его «учение свободы, равенства и братства» и сделалась пособницей светской власти в преследовании инакомыслящих, однако огульные обвинения и хамские отзывы Белинского о Православной Церкви и религиозной жизни русского народа не могли не возбудить у Достоевского неприятные воспоминания о его прежних спорах с Белинским.
Напряженность вокруг религиозного вопроса сильно ощущалась и в кружке петрашевцев. Источником этой напряженности выступал прежде всего сам Петра-шевский. Он, например, глумливо называл Иисуса Христа «известным демагогом, несколько неудачно кончившим свою карьеру»118. Спешнев, сам убежденный атеист, вспоминал, что «на Федора Михайловича Петрашевский производил отталкивающее впечатление тем, что был безбожник и глумился над верой»119. А по мнению

М. В. Буташевич-Петрашевский. Неизвестный художник
А. И. Герцена, Петрашевский «занят был исключительно изысканием возможных средств для низвержения современного управления в России, а так как он полагал, что главной причиной порабощения русского народа были религиозные представления, то направил свою атаку главным образом против религии»120.
Достоевский был не единственным, кому были не по душе антирелигиозные тенденции Петрашевского и некоторых других членов кружка. Так, на собрании у Петрашевского 11 марта 1849 г. (на котором Достоевский отсутствовал) Ф. Г. Толль произнес речь о происхождении религии, которая вызвала неоднозначную реакцию слушателей. Толль утверждал, что изначально религиозные идеи возникли из страха невежественных дикарей перед явлениями природы и ложными представлениями об их причинности121. Традиционная религия, по его мнению, «не только не нужна в социальном смысле, но даже вредна, потому что она подавляет развитие ума и заставляет человека быть добрым и полезным своему ближнему не по собственному его убеждению, а по чувству страха наказания, следовательно, она убивает и нравственность». Петрашевский высказался в поддержку концепции Толля, однако у многих она вызвала энергичные протесты. По сообщению шпиона Антонелли, «на речь Толля многие делали возражения»122, в частности, И. Л. Ястржембский, П. Н. Филиппов, П. И. Ламанский и А. П. Баласогло. Последний заявил, что Толль «религию слишком унизил, производя это высокое чувство от одного страха, и говорил весьма умно и достойно этого предмета, что рели- гия происходит от соединения чувств энтузиазма, сознания своего ничтожества и своей зависимости от высшей силы, которою управляется вся вселенная»123. По мнению Баласогло, «религия есть высочайшая необходимость всякого человеческого общества; опровергать же это безумно»124. На другом вечере К. И. Тимковский в очередном споре с атеистически настроенными петрашевцами весьма эмоционально «разругал [материалистическую] философию, французскую революцию»125. А. П. Беклемишев также указывал на пагубные социальные последствия распространения атеизма: «Они (философы) дерзнули сказать: нет бога!.. А каковы же плоды философии? Войны, революции, нищета!»126 С. Ф. Дуров в этих дискуссиях высказывал убеждение, что никакой социальный прогресс и рост благосостояния народных масс не утолит потребности человеческого сердца в религиозной вере, обусловленной неустранимостью зла в жизни — страстей, болезней, смерти127.
Таким образом, у Достоевского в его расхождениях с Белинским наверняка было немало единомышленников среди петрашевцев, по крайней мере, в вопросе о религии. Не в этом ли кроется причина того, почему Достоевский все же согласился на чтение злополучного письма Белинского? Возможно, он надеялся вызвать полемику об идейных позициях Белинского и Гоголя, выслушать и высказать аргументы pro et contra, проверить свои сомнения в горниле критики, как это часто бывало на вечерах у Петрашевского. Однако обсуждения, критического разбора переписки Белинского и Гоголя на этот раз не получилось. Достоевский разочаровано признавал: «По прочтении письма я не говорил об нем ни с кем из бывших у Петрашевского. Мнений об этой переписке тоже не слыхал. При чтении слышны были иногда отрывочные восклицания, иногда смех, смотря по впечатлению, но из этого я не мог заметить чего-нибудь целого»128.
<*//*.*«yrn« #М9 teyA r<-fyt<#rr*’«
.7ftAlfKl«« Z^^6**/.i М9 Копия со всеподданнейшего доклада о Буташевиче-Петрашевском и его сообщниках. Копия с извлечений, сделанных из донесений Антонелли (ГАРФ. Ф. 109. Оп. 24. Д. 214. Ч. I. Л. 3–20) Итак, прямых свидетельств о том, что Достоевский в споре Белинского и Гоголя разделял позицию критика, нет. Напротив, тот факт, что Достоевский воздержался от каких-либо комментариев по поводу прочитанной им самим переписки между ними на собраниях петрашевцев, свидетельствует, как минимум, о его колебаниях и сомнениях в правоте Белинского. Иначе, что же помешало Достоевскому, видя одобрительную реакцию и даже «общий восторг» слушателей, выразить хотя бы односложно, улыбкой или жестом свою поддержку взглядов Белинского? Напомним, что на чтении присутствовал шпион Антонелли, и в своем отчете он бы это непременно зафиксировал. Кроме того, если Достоевский был всецело на стороне Белинского и своим чтением преследовал только цель воодушевить соратников яркою революционною речью, то непонятно, зачем он везде читал именно переписку, то есть не только письмо Белинского к Гоголю, но и ответное послание последнего? Ведь очень сдержанный, смиренный ответ Гоголя должен был бы показаться взбудораженной резкостями Белинского аудитории на редкость бледным и скучным, вообще излишним. Значит, для Достоевского позиция Гоголя была не менее интересна и важна, а может быть, и близка… При отсутствии прямых свидетельств единомыслия Достоевского с Белинским в его споре с Гоголем исследователи старательно подыскивали хотя бы подтверждения негативного отношения Достоевского к гоголевским «Выбранным местам…» В частности, такое негативное отношение усматривали в словах Достоевского из письма к брату Михаилу от 5 сентября 1846 г.: «Я тебе ничего не говорю о Гоголе, но вот тебе факт. В „Современнике“ в следующем месяце будет напечатана статья Гоголя — его духовное завещание, в которой он отрекается от всех своих сочинений и признает их бесполезными и даже более. Говорит, что не возьмется во всю жизнь за перо, ибо дело 127 Там же. Т. 3. С. 190. Показания С. Ф. Дурова. 128 Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. С. 133. Памятные даты России. К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского (1821–1881) 73 его молиться. Соглашается со всеми отзывами своих противников. Приказывает напечатать свой портрет в огромнейшем количестве экземпляров и выручку за него определить на вспомоществование путешествующим в Иерусалим и проч. Вот. — Заключай сам»129. Исследователи и комментаторы творчества Достоевского почему-то находили этот его отзыв «ироническим»130, хотя он подчеркнуто нейтральный. Другое доказательство осуждения Достоевским книги Гоголя пытались обнаруживать в двух предложениях из его фельетона в газете «Санкт-Петербургские ведомости» в апреле 1847 г., где сказано: «Книга Гоголя наделала много шуму в начале зимы. Особенно замечателен единодушный отзыв о ней почти всех газет и журналов, постоянно противоречащих друг другу в своем направлении»131. Из этих двух предложений комментаторы ПСС Достоевского сумели вывести непреложный факт: «То, что сказано Достоевским в настоящем фельетоне, как и другие свидетельства, доказывают его сочувственное отношение к единодушному отрицательному отзыву об этой книге». А в качестве «других свидетельств» приводятся цитированные выше строки из письма Федора Михайловича к брату132! В логике подобные мнимые «доказательства» называются тавтологией. Мы же склонны думать, что в столь сдержанной реакции Достоевского на травлю Гоголя, в его нежелании (даже в частном письме) присоединиться к «единодушному» осуждению вчерашнего кумира «прогрессивной» публики можно предположить скорее скрытое сочувствие Достоевского Гоголю, в особенности, учитывая, под каким сильным влиянием кружка Белинского — главного гонителя Гоголя — в те годы находился Достоевский. Молчание, как при всеобщем поношении (книги Гоголя), так и при общем восторге (от письма Белинского к Гоголю), бывает красноречивее любых слов. Наконец, доказательство солидарности Достоевского с Белинским в осуждении Гоголя видят в том, что Достоевский вложил в уста карикатурного персонажа Фомы Опискина из «Села Степанчикова и его обитателей» (1859) некоторые рассуждения, пародирующие «Выбранные места…» Первым это подметил и обосновал Ю. Н. Тынянов еще в 1920-х гг. Позднее аргументы Тынянова оспаривались многими литературоведами, а в лицемерных речах и гадком образе Фомы Опискина пытливые исследователи находили многочисленные отсылки не только к Гоголю, но и к другим литераторам — к самому В. Г. Белинскому, к Н. В. Кукольнику, к Н. А. Полевому, к Н. М. Карамзину, к А. С. Шишкову, к А. В. Дружинину и т. д.133 Образ Фомы Опискина оказался столь емким, что Н. К. Михайловский легко смог использовать его для весьма нелестного сопоставления с самим Федором Михайловичем в своей знаменитой статье «Жестокий талант» (1882). Собирательный образ Фомы доказывает лишь то, что Достоевскому претили лицемерие, ханжество, фальшивость, унижение человеческого достоинства, в ком бы и как бы они ни проявлялись. «Заволакиваться в облака величия (тон Гоголя, например, в „Переписке с друзьями“) — есть неискренность, а неискренность даже самый неопытный читатель узнает чутьем», — писал Достоевский в письме к И. С. Аксакову от 4 ноября 1880 г.134, объясняя, сколь трудно вести серьезную речь о «святых вещах», не скатываясь при этом в назидательность и ходульность, а то и кликушество. Достоевский очень хорошо знал, о чем говорил. Как легко и быстро давались ему «отрицательные» главы «Братьев Карамазовых» («Бунт» Ивана Карамазова, «Легенда о Великом Инквизиторе» и др.)! И как тяжело и мучительно выходили из-под его пера «поучения старца Зосимы»135! В итоге же всех творческих усилий Достоевскому удалось создать лишь вариацию «Выбранных мест из переписки с друзьями» и развить главную идею книги Гоголя о необходимости начать улучшение мира с усмирения гордыни и с исправления собственных слабостей и низостей под духовным водительством Православной Церкви136. Беспощадные критики не преминули уличить Достоевского в вольном или невольном подражании «злосчастной» книге Гоголя. «Это та же буквально мораль аскетизма и принижения, которую проповедовал Гоголь в своей „Переписке с друзьями“», — писал М. А. Антонович в статье «Мистико-аскетический роман» (1881) о «Братьях Карамазовых»: «Во многих пунктах Гоголь и Достоевский буквально сходятся между собой; например, оба они восстают против гордыни ума и превозношения науки и рекомендуют смирение и покорную волю; оба они прославляют простой русский народ как самый религиозный в мире и т. п.»137. Другой критик из «прогрессивного» лагеря, А. М. Скабичевский, еще в романе Достоевского «Подросток» подметил у автора черты «резонера», склонного впадать «в мистический бред не то в славянофильском духе, не то духе переписки с друзьями Гоголя»138. На собственном опыте Достоевский убедился, как трудно обращаться к обществу с речью о сокровенном и священном, как легко стать жертвой всеобщего глумления и травли, пытаясь побудить людей к духовным устремлениям и внутреннему преображению, к самоосуждению и самосовершенствованию… Такое понимание миссии писателя в его отношении к обществу Достоевский пытался отстаивать уже в кружке петрашевцев. Согласно показаниям В. А. Головинского, «Достоевский говорил, что… следует не осуждать общество, а действовать на него не желчью и насмешкою, а показанием собственных недостатков», «что прежде чем осуждать, надобно быть лучше самому»139. Но разве не об этом же самом писал Гоголь в своих «Выбранных местах…»? Разве не в этом одна из важнейших идей его книги? И разве не эту гоголевскую идею сам Достоевский проповедовал в своих зрелых произведениях от лица старца Зосимы и странника Макара Долгорукого или от первого лица — в «Дневнике писателя» и «Пушкинской речи»? Учитывая вышесказанное, можно предположить, что немногочисленные позднейшие критические отзывы Достоевского о книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» касались исключительно не всегда удачной формы и манеры выражения (что признавал и сам Гоголь), но не ее существенного содержания. По злой иронии судьбы, не будучи солидарен ни с формой, ни по большей части с содержанием письма Белинского к Гоголю140, Достоевский был осужден к смертной казни именно «за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского»141. Столь жестокая кара в отношении Достоевского явилась следствием не его мнимой преступности, а параноидального состояния властей в обстановке европейских революций 1848–1849 гг. и накануне заграничного похода русской армии для подавления венгерского восстания142. Те противоречивые и неустоявшиеся взгляды, которых большинство из т. н. «петрашевцев» придерживалось, даже «заговором идей» назвать затруднительно. Подводя итог реконструкции общественно-политических взглядов Достоевского в период его участия в кружке Петрашевского, можно констатировать следующие основные их черты (отчасти присущие всем петрашевцам, отчасти — только некоторым): 1. Достоевский не был революционером ни в каком из известных смыслов этого слова. Малейшие поползновения на какие-либо незаконные действия среди петрашевцев мгновенно вызывали решительный отпор у Ф. М. Достоевского. 2. Достоевский был монархистом, по крайней мере не желал и не представлял себе иной формы правления в России, будучи убежден, что любые реформы в государстве Российском должны совершаться по инициативе самодержавного правительства. Обществу же надлежит оказывать правительству всевозможное содействие как в уяснении стоящих перед страной задач, так и в их правомерном осуществлении. 3. Поэтому Достоевский считал необходимым устранение неоправданных цензурных стеснений для печатного слова, ведь честная критика недостатков деятельно способствует их исправлению. 4. Самой насущной для России была, по его убеждению, крестьянская реформа, которая должна была не только освободить крестьян от крепостной зависимости, но и обеспечить их наделами земли. 5. Петрашевцы, и в их числе Достоевский, отрицательно относились к либеральной идеологии, к буржуазному индивидуализму, культу священной частной собственности, к царящему на Западе всевластию денег, к парламентаризму — демократии для богатых — и т. д. Подобные установки имели своим источником преимущественно сочинения Фурье, в которых французский утопист подвергал тотальной критике капиталистический миропорядок. 6. Впрочем, эти язвы Запада Достоевский считал неактуальными для России, ведь, по его мнению, русская история принципиально отличалась от западной, поэтому в России не сложились те классовые антагонизмы, которые порождали небратские отношения между людьми в Западной Европе и периодически сотрясали кровавыми переворотами европейские страны. Из этого, однако, вовсе не следует, что Достоевский не ценил достижений западной культуры и пренебрегал изучением исторического опыта европейских народов143. 7. Историческим залогом бесконфликтного и мирного развития России представлялась Достоевскому и некоторым другим петрашевцам русская крестьянская 8. В спорах между петрашевцами о роли религии в обществе Достоевский, несомненно, занимал сторону тех, кто считал христианскую веру совершенно необходимым устоем для здоровой нравственной и социальной жизни. община, заключающая в себе тот реальный образец жизнеустройства и справедливых социально-экономических отношений, в поисках которого тщетно мечутся лучшие умы Запада, создавая одну фантастическую утопию за другой. Названные элементы мировоззрения встречались в разных комбинациях с другими элементами у всех петрашевцев, но в таком сочетании, пожалуй, только у Достоевского. Что ж, Достоевский никогда не был «стадным» человеком, а кружок петрашевцев — революционной организацией борцов-единомышленников, каким его пыталась представить советская историография. К какому же идейному течению 1840-х гг. в наибольшей мере тяготеет система взглядов Достоевского? Какого-либо оформившегося революционно-демократического течения в России в этот период не было (считать таковым петрашевцев нет оснований); оно только наклевывалось заграницей в лице А. И. Герцена, переживавшего глубокий мировоззренческий кризис под воздействием французских событий 1848–1849 гг. Некоторые соприкосновения взглядов Достоевского с идеологией «официальной народности» в ее уваровской версии заметить можно, о чем говорилось выше. Но в силу аморфности основных понятий и уклончивой позиции относительно важнейших вопросов современности эту идеологию затруднительно взять за точку отсчета и критерий для квалификации других идейных течений. Против того смысла, какой вкладывал в формулу «Православие, самодержавие, народность» сам ее изобретатель С. С. Уваров, Достоевский-петрашевец вряд ли что-нибудь существенное возразил бы, разве — в отдельных нюансах и акцентах. В этом легко убедиться, заглянув в один из программных документов (1833), в котором министр народного просвещения докладывал императору Николаю I о намерении «учредить у нас народное воспитание, соответствующее нашему порядку вещей и не чуждое Европейского духа». О роли религии говорилось в этом докладе так: «Без любви к Вере предков, народ, как и частный человек, должны погибнуть; ослабить в них Веру, то же самое, что лишать их крови и вырвать сердце. Это было бы готовить им низшую степень в моральном и политическом предназначении». И, наконец, о понятии народности: «Народность не состоит в том, чтобы идти назад или останавливаться; она не требует неподвижности в идеях. Государственный состав, подобно человеческому телу, переменяет наружный вид по мере возраста: черты изменяются с летами, но физиономия изменяться не должна. Безумно было бы противиться сему периодическому ходу вещей; довольно того, если мы не будем добровольно скрывать лицо под искусственной и нам не сродной личиной»144. В известных нам высказываниях Достоевского 1840-х гг. нельзя найти ничего, что бы противоречило по сути этим рассуждениям Уварова. А вот другой глашатай «официальной народности», Ф. В. Булгарин, в своих доносах неоднократно уличал министра просвещения в покровительстве злоумышленным распространителям подрывных идей — «социалисма», «коммунисма», «пантеисма» и «антихристиа-нисма»145. Дело петрашевцев сильно ударило по позициям и авторитету Уварова, ведь это он был ответственным за «идеи», но проявил преступную халатность и нерасторопность, проморгав «заговор идей». Вскоре он ушел в отставку. Начиная с 1848 г. и до смерти Николая I никаких «идей», за исключением сохранения любой ценой существующего порядка вещей, у правящего режима не осталось. В этот период он превратился в откровенно террористическую диктатуру146, которой кто угодно, кроме верстовых столбов, мог показаться «революционером»147. За вычетом революционной идеологии, не сформировавшейся еще в России в 1840-х гг., и идеологии «официальной народности», от которой фактически отказалась сама власть после 1848 г., взгляды Достоевского-петрашевца остается сопоставлять лишь с западничеством и славянофильством. Совпадения во взглядах у Достоевского имеются и с тем, и с другим (по поводу крестьянской и других назревших реформ), но присущее Достоевскому (и многим петрашевцам-фурьеристам) неприятие либерализма, индивидуализма, конституционализма и других основополагающих ценностей буржуазного Запада выводит Достоевского за пределы классического русского западничества 1840-х гг. Зато с воззрениями славянофилов у Достоевского обнаруживается практически полное совпадение по всем пунктам: 1. Отвращение к революционным переворотам у славянофилов общеизвестно. 2. Приверженность славянофилов к самодержавной форме правления тоже не подлежит сомнению. Идея совещательного Земского Собора, самым горячим энтузиастом которой среди славянофилов выступал К. С. Аксаков, была вынесена из славянофильского кружка на общественное обсуждение лишь в середине 1850-х гг., после смерти «Незабвенного». Отношение Достоевского к этой идее в 1840-е гг. неясно, но в середине 1850-х гг. он, по свидетельству А. Е. Врангеля, выражал согласие с ней148. При этом и для славянофилов, и для Достоевского совет Царя с Землею не допускал никаких «контрактов», писанных хартий, системы «сдержек и противовесов», как на Западе, а должен был являть собой добровольное согласие и соборное единение в любви, не нарушая ничем принципа самодержавной власти149. 3. Необходимость дать больше свободы выражению общественного мнения в печати была очевидной для славянофилов в 1840-х гг.150, не изменили они этому убеждению и позднее151, как и Достоевский152. В их приверженности принципу свободы слова 4. Освобождение крестьян с наделением их землей через выкупную операцию — за такой вариант отмены крепостного права выступали и славянофилы, и Достоевский-петрашевец. Славянофилы Ю. Ф. Самарин, В. А. Черкасский, А. И. Кошелев сделали немало для выработки проекта, организационной подготовки и реализации реформы 1861 г. 5. Отношение к буржуазной Европе и ее либеральным ценностям было у славянофилов не менее отрицательным, нежели у Достоевского. В конституционализме, например, И. С. Аксаков, как и Достоевский, видел попытку «установить господ-чину чуждой народному духу интеллигенции над народными массами, тиранию условно-либеральных чуждых доктрин над свободою жизни, над народною духовною самобытностью»153. 6. Дискурс об «особом пути» России — визитная карточка славянофильства155. Достоевский также тяготел к этому дискурсу еще со времен кружка петрашевцев, позднее он развился у писателя до идеи мессианского предназначения русского народа, не чуждой и славянофилам156. В 1868 г. Достоевский писал о своем понимании этого «особого пути» России: «Я три года назад, еще в то время, когда журнал изда-вал157, говорил даже вслух и меня не понимали, именно: что наша конституция есть 7. Материальный базис «особого пути» России и славянофилы, и Достоевский-петрашевец видели в русской крестьянской общине. Русский народ, предсказывал, например, И. С. Аксаков в 1859 г., предложит человечеству «такое решение всемирноисторической социальной задачи, какого не достигла Англия, при всей своей свободе. Я говорю о наделе землею в собственность, об общинном землевладении»159. В этой связи славянофилы тоже проявляли интерес к идеям утопического социализма и даже сравнивали русскую общину и артель с «фаланстером», но не выдуманным кабинетными теоретиками, а выросшим естественно из народной жизни и предохраняющим русский народ от язв западного капитализма160. 8. Исключительная роль православной религии в доктрине славянофильства очевидна из предыдущего. Достоевский в 1840-х гг., несмотря на мощную и агрессивную атеистическую обработку со стороны западнического кружка Белинского, а потом Пе-трашевского и Спешнева, все же не порвал с теми религиозными чувствами и идеалами, которые были привиты ему в московском родительском доме164. В спорах среди петрашевцев о роли религии в обществе он, несомненно, был на стороне тех, кто считал, что без религиозных верований ничто не удержит человечество от падения в животное состояние. От церковного православия Достоевский в те годы был, по-видимому, далек, что и неудивительно, учитывая господствовавшую в тогдашнем петербургском образованном обществе религиозно индифферентную атмосферу165. Однако если принять во внимание рассмотренную нами совокупность его взглядов в период 1840-х гг., их логическую взаимосвязь, то эволюция его отношения к православию в направлении славянофильской доктрины была в какой-то мере предопределена. Печальные перипетии его судьбы после ареста, вырвавшие его из космополитического Петербурга и поставившие лицом к лицу с русским народом, лишь ускорили эту эволюцию. сказывался не только личный интерес пишущей братии, но и логика политической доктрины: рассматривая государство как свободную соборную общину, трудно было бы достичь искомого качества посредством принудительной безгласности народа. К. С. Аксаков наиболее ярко разоблачал бесчеловечность рыночно-правовых, рационалистических принципов, на которых основывается буржуазное общество: «Северная Америка, — писал он, — вся насквозь проникнута эгоистическим, холодным началом и вся представляет обширную общественную сделку людей между собою, лишенную всякой любви, сделку спокойную, крепкую, ибо основанную на себялюбивом расчете». Однако, «как бы широко ни была составлена общественная сделка, как бы в пределах своих ни признавала она всякую личность, все же она эгоистична, как сделка относительно всего, вне ее находящегося; она признает существование других народов и человеческих обществ только из страха и из выгоды. Вражда лежит тайно в основе. Ожесточенный бой возможен каждую минуту. Одно, по-видимому, могло бы отвратить эту опасность. Если бы все человечество на всем земном шаре отказалось от всех народных и других нравственных общественных условий, от высших связей веры, обратилось в разрозненные единицы, в эгоистические личности, и составило одну всеобщую сделку, основанную на эгоистическом расчете каждого, — тогда это было бы всеобщая смерть жизни на земле…»154 Образы эгоистичных и бездушных буржуазные дельцов из романов Достоевского могли бы служить прекрасной иллюстрацией этих рассуждений К. С. Аксакова. взаимная любовь монарха к народу и народа к монарху. Да, любовное, а не завоевательное начало государства нашего (которое открыли, кажется, первые славянофилы) есть величайшая мысль, на которой много созиждется. Эту мысль мы скажем Европе, которая в ней ничего ровно не понимает»158. Помимо социально-экономического значения, славянофилы нагружали крестьянскую общину и религиозным содержанием161. Для них община — это, прежде всего, духовно-нравственное братство во Христе, а не просто равноправный союз ради сугубо практических целей. В последнем случае, как заметил К. С. Аксаков, такая «сделка эгоизмов совершенно возможна и между бездушными разбойниками, не терпящими друг друга или равнодушными друг к другу», а «в общине личность добровольно отрешается от себя, от деспотизма, произвола и, следовательно, от рабства и приобретает свободу». Это «свобода в духе и любви, в Боге»162. Достоевский после каторги тоже постепенно усвоил это понимание общины, и не без влияния славянофильства163. В 1840-х гг. Достоевский не имел возможности соотнести свои взгляды с славянофильскими. В Петербурге, где он жил с 1837 г., славянофилов не было, в периодической печати их статьям крайне редко удавалось прорываться сквозь цензурные рогатки, а в кружках Белинского и Петрашевского бытовали весьма превратные мнения о славянофилах и их идеях166. Впрочем, и у славянофилов о петрашевцах тоже не имелось адекватных сведений: в Москве ходили слухи, что петербургские заговорщики собирались уничтожить все церкви, «перерезать всех русских до единого, а для заселения России выписать французов», и т. п. Зато у властей сложилось ощущение, что петрашевцы и славянофилы заодно. После открытия «заговора» московский генерал-губернатор граф А. А. Закревский говорил своему приятелю: «Что, брат, видишь, из московских славян никого не нашли в этом заговоре. Что это значит, по-твоему?» — «Не знаю, ваше сиятельство». — «Значит, все тут; да хитры, не поймаешь следа»167. Относительно будущего Ф. М. Достоевского и Н. Я. Данилевского подозрение царского сановника оказалось верным. Остается определиться с вопросом о характере славянофильской идеологии. Существует мнение, что славянофилы, наряду с западниками, представляли собой либеральные течения в общественной мысли 1840–1850-х гг. Обосновывается это мнение тем, что при всех различиях во взглядах западников и славянофилов общим у них было стремление к освобождению от гнета цензуры, к освобождению крестьян и вообще к расширению общественной самодеятельности. А поскольку все, что стремится к освобождению от каких-либо стеснений, несомненно, либерально, то, следовательно, и славянофильство либерально168. Однако перед сторонниками концепции славянофильства как либерального течения возникает большое затруднение в связи с «плохим поведением» славянофилов после свершения освободительной реформы 1861 г. Ведь сразу после крестьянской реформы славянофилы весьма недвусмысленно выступили за подавление национально-освободительного польского восстания 1863 г. и за целостность Российской империи, потом — за активную экспансионистскую политику России на Балканах и в других направлениях, потом позволили себе антисемитские выходки по поводу «еврейского засилья», потом осмелились осудить «бледных юношей с горящим взором», взявшихся за бомбы, чтобы освободить народ от царского деспотизма, и, наконец, категорически выступали против разрушения отяготительных для крестьян общинных порядков и против свободы рыночного оборота крестьянской надельной земли. Во всех этих нелиберальных делах самое заметное участие принимал и Ф. М. Достоевский. Такое противоречие объясняют обычно изменой славянофилов прежним либеральным взглядам. Однако, в чем именно они им изменили, остается непонятным. Разве они стали после реформы 1861 г. призывать снова закрепостить крестьян? Или до 1860-х гг. они мечтали разрушить крестьянскую общину, а тут вдруг взялись за ее защиту? Или ранее они ратовали за распад Российской империи, а потом превратились в империалистов? Или раньше они любили царя, а потом разлюбили и стали призывать к свержению самодержавия? Или поклонились Западу как высшей цивилизации? Или, быть может, после 1861 г. они разочаровались в православии и решили обратить русских в мормонство?.. Необязательно быть либералом, чтобы быть противником рабства и его разновидностей, как необязательно быть либералом, чтобы понимать, что борьба с идеями с помощью штыков и застенков — затея не из лучших. Если не принимать за «либерализм» обычную гуманность и элементарное уважение к свободе мысли и слова, а рассматривать либерализм в качестве идеологии буржуазных классов Европы и Северной Америки XIX в., то, с этой точки зрения, славянофилы, конечно, никакими либералами не были. Славянофилы отвергали все базисные постулаты западнического либерализма — рационализм, индивидуализм, неограниченную свободу рыночного обмена (“laisser faire, laisser passer”), «священность» частной собственности, формально-юридический тип общественных взаимосвязей (закон, а не правда) и т. д. Исходя из этого, не чем иным, как русской разновидностью консерватизма, славянофильство признать невозможно169. Да и не только злобами дня и политической текучкой озабочены были славянофилы: в центре их внимания находилась судьба России в истории — с самых ее первых шагов до неведомого будущего, которое может быть как великим и спасительным, если следовать своему предназначению, так и погибельным, если совершить фатальную ошибку. Аполлон Григорьев, как и Достоевский, пришедший к славянофильству далеко не прямым путем, писал: «Есть вопрос и глубже и обширнее по своему значению всех наших вопросов — и вопроса (каков цинизм?) о крепостном состоянии, и вопроса (о ужас!) о политической свободе. Это вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности»170. Именно такие вечные, а не временные вопросы прежде всего волновали и Достоевского, потому-то он и примкнул к славянофильству, когда в достаточной мере познакомился с его учением, а его собственное мировоззрение достигло зрелости. Как уже говорилось, после возвращения Достоевского в конце 1850-х гг. к общественной и литературной деятельности для него открылись возможности прямо выражать свои взгляды в печати. В журналах «Время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864–1865) вместе с А. А. Григорьевым и Н. Н. Страховым он пытался пропагандировать изобретенную ими идеологию «почвенничества», которая претендовала на то, чтобы снять противоречие между западничеством и славянофильством в некоем примиряющем синтезе, открывающем новую эпоху в русской истории171. Чтобы отвоевать себе место на идеологическом поле, почвенники вели борьбу на два фронта — с либеральными и леворадикальными журналами («Русский вестник», «Современник», «Свисток» и др.), с одной стороны, и с единственным в то время славянофильским органом печати — газетой И. С. Аксакова «День», с другой. Однако если с первыми почвенники во «Времени» вступали в принципиальную и жесткую полемику, то в спорах с Аксаковым затрагивались в основном второстепенные вопросы, не задевавшие ядро славянофильской доктрины172. Самая серьезная критика «Дня» со стороны Достоевского заключалась в том, что славянофильская газета слишком идеализировала допетровскую старину, где отнюдь не все было благополучно, царили домостроевские порядки, угнетались женщины и прочая меньшая братия. Достоевский также упрекал «День» Аксакова в сварливости, в огульном отрицании всей западной культуры, а также в приукрашивании отношений помещиков со своими крепостными в дореформенные времена, в которых Достоевский видел один сплошной мрак. А. А. Григорьев свои расхождения со славянофилами видел лишь в вопросах эстетики, в частности, в том, что те на высшую ступень в русской художественной литературе ставят Гоголя, тогда как он — Пушкина173. Н. Н. Страхов с «Днем» не спорил вовсе. Бывало и так, что Достоевский брал под защиту аксаковский «День» от нападок и поношений со стороны западников174. Не упускал случая Достоевский и для того, чтобы обозначить четко и определенно, в каких действительно важных пунктах он согласен с воззрениями славянофилов, например, в вопросе об общине: «Ни один западник не понял и не сказал ничего лучше о мире, об общине русской, как Константин Аксаков… Трудно представить себе понимание более точное, ясное и широкое и плодотворное»175. Вообще в полемике с газетой Аксакова со стороны Достоевского-почвенника было больше запальчивости, мелочных придирок и цепляния к словам, нежели принципиальных расхождений176. Это было понятно как их оппонентам-западникам, которые сразу раскусили в новоявленном «почвенничестве» славянофильское нутро, так и самому И. С. Аксакову. Последний писал о «Времени»: «Журнал славянофильствует отчаяннейшим образом и при всяком удобном случае нас ругает, говорит, что Славянофильство — отживший момент, и хочет создать учение о русской народности — минус Веры и нравственного закона»177. Аксаков, конечно, был обижен тем, что «Время» «свысока» и «с презрением» третировало славянофилов, хотя позаимствовало у них основные свои идеи. Но именно поэтому славянофилы, по словам Аксакова, «нигде, ни единым словом даже не задели „Времени“»178. После закрытия «Времени» распоряжением правительства за «вредное направление» Н. Н. Страхов написал И. С. Аксакову примирительное письмо (июль 1863 г.): «Теперь скажу несколько слов в защиту „Времени“. Я совершенно понимаю, как глубоко должно было показаться противным его хвастовство, притязание на оригинальность и в то же время легкомысленное обращение с школою славянофилов. Но при всех этих недостатках направление народное в нем было, — отрицать этого никак нельзя. „Время“ было, если хотите, просто попыткою популяризировать славянофильские идеи на петербургской почве. Пусть оно было не оригинально, пусть ради успеха оно прикидывалось, что оно совсем не славянофильский орган, а что-то новое, небывалое, чудесное, — все-таки в сущности дело остается то же… Ни один петербургский журнал не отзывался с большим уважением о славянофилах, ни один не становился так резко против „Современника“…»179 Когда Ф. М. Достоевский начал издавать новый журнал под названием «Эпоха», критика славянофильства вовсе исчезла с его страниц. Вероятно, повлияло на это первое путешествие Достоевского в Европу в 1862–1863 гг., где он собственными глазами мог полюбоваться на «хрустальные дворцы» западной цивилизации. Итогом этого путешествия стали его знаменитые «Зимние заметки о летних впечатлениях», в которых Запад изображен в виде «гроба повапленного». Любопытно, что, будучи во Франции, Достоевский обратил внимание на неудачные опыты тамошних фурьеристов завести коммуны по заветам своего учителя (вроде тех, о которых мечтали и петрашевцы). Рассудочного братства не получилось: частнособственнические инстинкты, глубоко вкоренившиеся под влиянием исторически сложившейся национальной культуры, быстро приводили подобные коммуны к распаду. Эти факты лишь подтвердили изначально скептическое отношение Достоевского к фурьеризму и еще раз заставили его обратиться к славянофильским идеям о русской крестьянской (= христианской) общине, в которой искомая «коммуна», притом без доктринерских крайностей и надругательства над человеческой природой, возникла естественно, как итог «особого» исторического пути России180. Н. Н. Страхов в своих воспоминаниях показал, насколько закономерен был путь Достоевского к славянофильскому мировоззрению: «Славянофильство ведь не есть надуманная и оторванная от жизни теория: оно есть естественное явление, с положительной стороны — как консерватизм, то есть приверженность к давнишним началам русской жизни, с отрицательной — как реакция, то есть желание сбросить умственное и нравственное иго, налагаемое на нас Западом. Таким образом произошло и то, что Федор Михайлович создал себе целый ряд взглядов и симпатий совершенно славянофильских и выступил с ними в литературу, сперва не замечая своего сродства с давно существующею литературною партиею, но потом прямо и открыто примкнул к ней. Такие союзники, как известно, в каждом деле считаются самыми дорогими; это не вышколенные последователи, не ученики, рабски повторяющие слова учителей, а люди самостоятельные, способные сами крепко стоять за идею и развивать ее дальше. С большою тонкостию Федор Михайлович угадывал приложения своих начал и открывал их различные стороны; случалось, ему потом и указывали, что то или другое было уже сказано славянофилами, и тогда он откровенно признавался: „я этого не знал“»181. Уже в журнале Достоевского «Эпоха» летом 1864 г. была опубликована статья Н. Н. Страхова с характерным названием «Славянофилы победили», в которой утверждалось, что сама жизнь подтверждает истинность славянофильских идей и разоблачает фальшь западничества182. Прекращение «Эпохи» в 1865 г. вынудило Достоевского сотрудничать с М. Н. Катковым, западническая ориентацию которого была не по душе Федору Михайловичу. Во избежание недоразумений Достоевский «с самого начала объявил Каткову, что я славянофил и с некоторыми мнениями его не согласен»183. В 1877 г. в главе своего «Дневника писателя» под названием «Признания славянофила» он снова недвусмысленно заявил: «Я во многом убеждений чисто славянофильских», а в черновых материалах (1877) выразился еще более категорично: «Я славянофил»184. Свою принадлежность к «партии славянофилов» писатель подтвердил и в 1880 г. в «Объяснительном слове» по поводу своей знаменитой речи о Пушкине, подчеркнув, что сказанное им в этой речи «не мне одному принадлежит, а всему славянофильству, всему духу и направлению „партии“ нашей»185. С И. С. Аксаковым Достоевского связывали самые дружеские отношения до самой его смерти, которую Аксаков переживал как огромную личную потерю… Из этого, разумеется, не следует, что взгляды Достоевского во всем были идентичны взглядам славянофилов. Да и между самими славянофилами никогда не существовало полного единомыслия: разногласия по тем или иным вопросам возникали даже между братьями Константином и Иваном Аксаковыми, между Петром и Иваном Киреевскими. Славянофильство было направлением общественной мысли, а не катехизисом. Вышеизложенное позволяет, на наш взгляд, поставить под сомнение широко распространенное, можно сказать, каноническое, представление о происшедшем глубочайшем перевороте в мировоззрении Достоевского после его ареста, инсценировки смертной казни и многих лет, проведенных им на каторге и в ссылке. Чудесного превращения революционного Савла в консервативного Павла не было, так как система взглядов Достоевского, насколько она может быть реконструирована по скупым источникам периода его участия в кружке петрашевцев, не носила никакого революционного, радикального характера, но гораздо полнее укладывалась в матрицу консервативной идеологии славянофильства, нежели любого другого идейного течения из существовавших тогда в России. Разумеется, под влиянием жизненных испытаний, накопленного опыта и рефлексии система взглядов Достоевского подвергалась корректировке, отпадали какие-то случайные и чуждые ее консервативной природе элементы, а другие уточнялись и видоизменялись, приходя в соответствие с этой природой. Осознание совпадения своих главных убеждений со славянофильством было в случае Достоевского лишь вопросом времени. Если бы в николаевской России циркуляция идей не была искусственно подавлена, а затем Достоевский не был насильственно вырван из общественной жизни на целых десять лет, то это осознание могло бы произойти и в 1840-х гг.
Список литературы Ф. М. Достоевский: от фурьеризма к славянофильству
- Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002.
- Семья Аксаковых и Н.С. Соханская (Кохановская): Переписка (1858-1884) / Сост., вступ. статья, подгот. текста и коммент. О.Л. Фетисенко. СПб.: Пушкинский дом, 2018.
- И. С. Аксаков — Н. Н. Страхов. Переписка / Сост. М. И. Щербакова. Ottawa, Canada: Slavic Research Group at the University of Ottawa; М.: Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, 2007.
- Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1995.
- Записка К. С. Аксакова «о внутреннем состоянии России», представленная государю императору Александру II в 1855 г. // Ранние славянофилы. А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. и И. С. Аксаковы. М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1910. С. 69-102.
- Альтман М. С. Достоевский. По вехам имен. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1975.
- Анненков П.В. Литературные воспоминания. М.: Правда, 1989.
- Антонович М.А. Избранные статьи. Философия. Критика. Полемика. Л.: Художественная литература, 1938.
- Аронсон М, Рейсер С. Литературные салоны и кружки. М.: Аграф, 2001.
- Барсуков Н.П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 10. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1896.
- Белов С.В. Федор Михайлович Достоевский. Книга для учителя. М.: Просвещение, 1990.
- Бельчиков Н Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. М.: Наука, 1971.
- Валицкий А. В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства. М.: Новое литературное обозрение, 2019.
- Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение / Публ., сост., предисл. и коммент. А. И. Рейтблата. М.: Новое литературное обозрение, 1998.
- Виленская Э. С. Революционное подполье в России в середине 60-е годов XIX века. М.: Наука, 1965.
- Возный А. Ф. Петрашевский и царская тайная полиция. Киев: Наукова думка, 1985.
- Волгин И. Л. Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 года. М.: Либерия, 2000.
- Врангель А.Е. Из «Воспоминания о Ф.М. Достоевском в Сибири» // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. М.: Художественная литература, 1964.
- Греков В.Н. Иван Аксаков — сотрудник и редактор «Русской беседы» // «Русская беседа»: История славянофильского журнала: Исследования. Материалы. Постатейная роспись. СПб.: Пушкинский дом, 2011. С. 124-157.
- Григорьев А.А. Письма / Издание подготовили Р. Виттакер, Б.Ф. Егоров. М.: Наука, 1999.
- Гус М. С. Идеи и образы Ф. М. Достоевского. М.: Гослитиздат, 1962.
- Дело петрашевцев. Т. 1-3. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1937-1951.
- Долинин А. С. Последние романы Достоевского. Как создавались «Подросток» и «Братья Карамазовы». М.; Л.: Советский писатель, 1963.
- Достоевская Л Ф. Достоевский в изображении своей дочери. СПб.: Андреев и сыновья, 1992.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1972-1990.
- Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Художественная литература, 1990.
- Дубельт Л.В. Записки для сведения, 1849 год // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. Вып. XIV. М.: Российский Фонд Культуры; Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова; Российский архив, 2005. С. 146-248.
- Заметки и дневники Л. В. Дубельта // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. Вып^.М.: Студия «ТРИТЭ»; Российский архив, 1995. С. 106-343.
- Егоров Б. Ф. Петрашевцы. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1988.
- Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991.
- Киреевский И.В. Избранные статьи. М.: Современник, 1984.
- Кирпотин В.Я. Достоевский и Белинский. М.: Советский писатель, 1960.
- Кулешов В. И Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского: Очерк. М.: Детская литература, 1979.
- Лазари Анджей де. В кругу Федора Достоевского. Почвенничество. М.: Наука, 2004.
- Лейкина-Свирская В.Р. Петрашевцы. М.: Просвещение, 1965.
- Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826-1855 гг. По подлинным делам Третьего Отделения Собств. Е. И. Величества Канцелярии. 2-е изд. М.: Изд. С. В. Бунина, 1909.
- Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872-1891). М.: Республика, 1996.
- Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М.: Республика, 1994.
- Миллер О. Ф. Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского // Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1883. С. 1-176.
- Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время», 1861-1863. М.: Наука, 1972.
- Павленко Н.И. Михаил Погодин. М.: Памятники исторической мысли, 2003.
- Первые русские социалисты: Воспоминания участников кружков петрашевцев в Петербурге / Сост. Б. Ф. Егоров. Л.: Лениздат, 1984.
- Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1988.
- Петрашевцы в воспоминаниях современников. Сборник материалов. М.; Л.: Государственное издательство, 1926.
- Петрашевцы. Сборник материалов. Т. 3. Доклад генерал-аудиториата. М.; Л.: Государственное издательство, 1928.
- Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. СПб.: Издание В. Врублевского, 1906.
- Погодин М. П. Избранные труды. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010.
- Порох В.И. И.С. Аксаков в борьбе за свободу слова и печати. Саратов: Изд-во ФГОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2014.
- Пущаев Ю. В. Достоевский как петрашевец: был ли молодой Достоевский революционером? // Тетради по консерватизму: Альманах. 2021. № 1. С. 229-244.
- Сакулин П. Н Русская литература и социализм. Ч. 1. Ранний русский социализм. М.: Государственное издательство, 1924.
- 1840-1876: Ю. Ф. Самарин. Статьи. Воспоминания. Письма / Сост. Т.А. Медовичева. М.: ТЕРРА, 1997.
- Сараскина Л.И. Достоевский. 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 2013.
- Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. Т. 2. Крестьянский вопрос в царствование императора Николая. СПб.: Тип. т-ва «Общественна польза», 1888.
- Семевский В.И. Собр. соч. Т.2. М.В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. Ч.1. М.: Задруга, 1922.
- Семевский В.И Петрашевцы и крестьянский вопрос // Великая реформа. Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. Кн. 1. М.: Изд. дом ТОНЧУ, 2012. С. 811-828.
- Следственное дело М. М. Достоевского-петрашевца // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 1. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1974. С. 254-265.
- Смирнова-Россет А. О. Воспоминания. Письма. М.: Правда, 1990.
- Страхов Н.Н. Избранные труды. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010.
- Туниманов В.А. Творчество Достоевского (1854-1862). Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1980.
- Доклады министра народного просвещения С. С. Уварова императору Николаю I. Публикация М.М. Шевченко // Река времен (Книга истории и культуры). Кн. 1. М., 1995. С. 67-78
- Фридлендер Г.М. Достоевский и Гоголь // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 7. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1987. С. 3-21.
- Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 1-8. М.: Университетская тип., 1900.
- Шкерин В.А. «Поединок на шпионах»: Дело петрашевцев и политическая провокация в России. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2019.