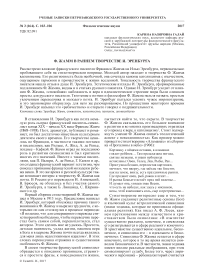Ф. Жамм в раннем творчестве И. Эренбурга
Автор: Галай Карина Назировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (164), 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрено влияние французского писателя Франсиса Жамма на Илью Эренбурга, первоначально пробовавшего себя на стихотворческом поприще. Молодой автор находит в творчестве Ф. Жамма вдохновение. Его религиозность была необычной, она сочетала каноны католицизма с язычеством, ощущением гармонии и причастности к жизни вселенной. Тональность творчества французского писателя нашла отзыв в душе И. Эренбурга. Эстетические взгляды И. Эренбурга, сформированные под влиянием Ф. Жамма, видны и в статьях русского писателя. Однако И. Эренбург уходит от влияния Ф. Жамма, «спокойная» набожность и вера в идеалистическое строение мира были слишком просты для русского писателя. Тяготение к поэзии и философии Ф. Жамма нельзя назвать простым увлечением переводчика и молодого поэта. И. Эренбург пытался усвоить чужое мировоззрение, и это закономерно обернулось для него же разочарованием. По прошествии некоторого времени И. Эренбург называл это «ребячеством» и открыто говорил о подражательности.
Эренбург, жамм, символизм, католичество, пантеизм, дионисийство
Короткий адрес: https://sciup.org/14751171
IDR: 14751171 | УДК: 82.091
Текст научной статьи Ф. Жамм в раннем творчестве И. Эренбурга
В становлении И. Эренбурга как поэта немалую роль сыграл французский писатель-символист конца XIX – начала ХХ века Франсис Жамм (1868–1938). Поэт, драматург, публицист и романист, он был достаточно известным культурным деятелем своего времени. Его творчество ценилось во Франции, в частности такими поэтами и писателями, как Рильке, А. Жид, А. де Ренье, позднее – Кафкой. Ф. Жамм играл не последнюю роль в развитии символизма и был критиком многих его значений. Вместе с такими писателями, как П. Валери, А. де Ренье, Г. Каном и др., он создавал французский вариант эстетизма, чем снискал признание французской молодежи рубежа веков. В это же время в русской культуре также возникает интерес к творчеству Ф. Жамма как поэта. В России его переводили И. Анненский, В. Брюсов, не обошлось и без участия самого И. Эренбурга, а также Б. Лившица, С. Шервин-ского и др.
Первый сборник стихотворений Ф. Жамма вышел в Москве в 1913 году. Предисловие написал И. Эренбург, который обосновал причину такого внимания к Ф. Жамму и выразил трудности, с которыми он сам столкнулся в процессе перевода: «Я полагаю, что для совершенного перевода стихотворений необходимо, чтобы переводчик перестал быть самим собой, перевоплотился, стал автором. Этого сделать мне не удалось. Простота, детская наивность, уклад жизни, наконец вера в Бога и в церковь Жамма почти всегда являлись для меня лишь недостижимым идеалом»1. В этих словах переводчика отражена и существенная особенность Ф. Жамма.
В своем творчестве французский символист обращается к описанию провинции, стремится к простоте фразы, к повседневности жизни, пытается найти то, что скрыто. В творчестве Ф. Жамма сказывалось его большое внимание к религии и во многих произведениях отразился его приход к вере, к католицизму2. Стоит подчеркнуть умение Ф. Жамма связать теологический аспект с повседневностью. Как пример можно привести стихотворение «Альманах» из сборника «Прогалины в небе» (1906):
Корзинку с яйцами оставив, в альманах глядит ребёнок… Там предсказана погода, святые названы, и знаки небосвода исчислены: Овен, Телец, Лев, Рыбы, Рак… Простушка бедная, перелистав картинки, мечтает, что вверху, где звёзды так блестят, как на земле, внизу, есть праздничные рынки. Где продают овец, рыб, раков и ягнят… И рынка Божьего встаёт пред ней виденье… И думает она, увидев знак Весов, что есть на небесах, как здесь у мясников, весы, чтоб взвешивать соль, сыр и прегрешенья… Стихотворение интересно еще и тем, что Ф. Жамм соединяет религиозные основы (Бог) и языческий культ астрологической символики (знаки зодиака, которые не принимала официальная религия). Как писал А. Ф. Лосев, камнем преткновения между язычеством и христианством была символика: «В язычестве существенно реальное, конечное, и символика его разыгрывается в сфере реального конечного. В христианстве существенно идеальное, бесконечное, и символика его – в идеальном и бесконечном». Символика Ф. Жамма остается в сфере конечного, которое в то же время является символом бесконечности. В частности, знаки зодиака имеют вполне реальные изображения, при этом символизируют судьбу. Более того, через лирического персонажа – ребенка (который считается непорочным по канонам религии) поэт описывает бытовой, можно даже сказать человеческий, характер божественной сущности: через Весы взвешивать соль, сыр и прегрешенья…
Это увлечение религией было в русле времени как среди соотечественников французского писателя, так и в России. В это время в Европе происходили колебания от веры к неверию, было время религиозных исканий, стремлений к духовности. В России начала ХХ века религиозные искания привели к «богоискательским» (А. Блок, Д. Мережковский, Н. Бердяев и др.) и «богостроительным» (М. Горький, А. Луначарский) тенденциям. Стоит отметить, что даже в ранней лирике футуриста В. Маяковского выделяют темы, так или иначе связанные с тематикой Ф. Жамма. Это увлечение наряду с другими характеризовало и молодого И. Эренбурга. Оно во многом соединило его с Ф. Жаммом, однако не глубоко: русскому писателю «было чуждо последовательное смирение» [4].
Вероятно, к религиозным воззрениям и писаниям И. Эренбурга подтолкнуло и то критическое положение, в котором он оказался в 1910–1914 годах. Позднее он вспоминал: «Годы и годы я ходил по улицам Парижа, оборванный, голодный, с южной окраины на северную; шел и шевелил губами: сочинял стихи»3. Можно сказать, что поэзия И. Эренбурга была в то время малодушной, в ней он мог забыться от тех трудностей, которые претерпевал. В одном из исследований жизни И. Эренбурга Е. Берар писала, что «после всех этих бесприютных лет, проведенных в скитаниях, сомнениях, поэзия Жамма дарит ему чувство мира, покоя и надежды» [1]. И. Эренбурга роднил с Ф. Жаммом и синкретизм: религиозность французского писателя была нерас-членима с понятием о божественной сущности окружающей действительности, человека, это отвечало мыслям И. Эренбурга. Например, его стихотворение в прозе «Звезд у Бога много…»:
Звезд у Бога много – целый светлый рай, а ты у меня одна на свете, обожди, не умирай! А когда умрешь всё же и станешь звездой в раю, ты так скажи господу:
«Боже, исполни просьбу мою!»
Он исполнит, и ты вернешься ко мне назад в своей ночной рубашке, длинной, длинной до пят.
Я буду в твоей комнате тогда и, глядя на небо, скажу: «Упала звезда!..» (ноябрь, 1913)
Русскому писателю показалось спасением мировидение Ф. Жамма, у которого есть мысли об опрощении, и молодого писателя прельстила мысль «войти в рай вместе с ослами»4. В автобиографии от 1922 года И. Эренбург написал следующее: «Часто голодал: пятый, шестой день… Увлекался средневековьем. Много читал. Потом – Жамм, католицизм. Предполагал принять католичество и отправиться в бенедиктинский монастырь. Говорить об этом трудно. Не сверши-лось»5. Модный в то время кубизм И. Эренбург еще не оценил, его волновало нечто совершенно противоположное, и он в поисках ответов на насущные вопросы начинает интересоваться католицизмом. Молодой автор находит вдохновение в творчестве Ф. Жамма, чья религиозность была необычной, она сочетала все каноны католицизма, и к этому примешивалось, кроме язычества, ощущение гармонии и причастности к жизни вселенной. Французский поэт писал о природе, о животных и птицах, о деревенской жизни, видя в этом божественное проявление. Одно из известных его стихотворений, которое, кстати сказать, перевел И. Эренбург и очень ценил его, это «Молитва, чтобы войти в рай с ослами»:
Когда ты, Господи, прикажешь мне идти, Позволь мне выбрать самому пути;
Я выйду вечером в воскресный день Дорогой пыльной, мимо деревень, И, встретивши ослов, скажу: «Я Жамм, И в рай иду. – И я скажу ослам: – Пойдемте вместе, нежные друзья, Что, длинными ушами шевеля, Отмахивались от ударов мух, Назойливо кружившихся вокруг». Позволь к Тебе прийти среди ослов – Средь тех, что возят фуры паяцев, Средь тех, что тащат на спине тюки Иль в маленьких повозочках горшки. Среди ослиц, что ноги ставят так, Что трогает вас их разбитый шаг, Что, пчелами ужалены, должны На ножках раненых носить штаны.
Позволь прийти мне с ними в райский сад, Где над ручьями яблони дрожат, И сделай, Господи, чтоб я в него вошел, Как много поработавший осел, Который бедность кроткую несет К прозрачной чистоте небесных вод.
Надо сказать, такая евангельская простота, наивность, искренность стихотворений Ф. Жам-ма привлекала не только И. Эренбурга – потребность гармонии с миром была чертой, присущей поколению того времени. К тому же, как писал Б. Слуцкий: «В ряду поэтов своего времени он выделялся прочной приверженностью к лирике природы и крестьянского быта и чрезвычайно редкостной для того времени ясностью и демократичностью формы»6.
В своих воспоминаниях И. Эренбург также писал о большом впечатлении, которое произвели на него книги Ф. Жамма: «Его католицизм был свободен и от аскетизма, и от ханжества… я перевел его стихи и начал ему подражать: пантеизм мне казался выходом».
Тональность творчества французского писателя нашла отзыв в душе И. Эренбурга, который томился в чужом краю и чувствовал себя свободным и приобщенным к утраченной России только наедине с природой. Он вспоминал: «На короткий срок меня прельстила философия Жамма – он оправдывал и голубя, и коршуна.
Меня давно мучила мысль: откуда приходит зло? Дуализм представлялся мне отвратительным; я по-прежнему ненавидел буржуазию, но я уже знал, что не все вопросы будут разрешены обобществлением средств производства. Я ухватился за бога деревьев и ослов».
В это время он пишет стихи под влиянием религии, которые позже войдут в сборник «Детское»: «Боже, милый, ласковый, как ты мне близок минутами, как ты тешишь сердце сказками, сказками, прибаутками. Разве не дети мы, разве ты не балуешь нас грозами, дождями летними, сухими морозами? Когда я большую собаку глажу и чую на руке ее язык горячий и влажный, за собакой, что меня робко лижет, я тебя, Господи, вижу» (Без названия, 1913).
Привлекала И. Эренбурга не только философия его французского коллеги, но и поэтика. Жаммовский символизм отличался от символизма русского, который в то время становился популярным течением. Французский поэт еще при жизни прославился как певец провинции, которую он описывал в духе символизма-неоро-мантизма как место, где простой человек находит счастье в единении с прекрасной природой. Например, его стихотворение «Я читал романы, сборники стихов…» 1901 года:
Я читал романы, сборники стихов, Писанные умными людьми в Париже. Ах, они не жили у моих ручьёв, Где бекас купаясь шелестит и брызжет. Пусть они приедут поглядеть дроздов, На пруду опавшие сухие листья, Маленькие двери брошенных домов, Ласковых крестьян и уток серебристых, И тогда, с улыбкой трубку закурив, От тоски своей излечатся, наверно, Слушая глухой пронзительный призыв Ястреба, повисшего над ближней фермой.
Будучи в эмиграции, И. Эренбург скучал по Родине, но вернуться в Россию он не мог – он числился под следствием по обвинению в подпольной революционной деятельности, и его могли арестовать. Наверное, именно из-за невозможности снова увидеть родину она кажется ему раем, где его жизнь могла бы протекать по совершенно другому, спокойному, пути. Эта тональность напоминает тональность Ф. Жамма:
Я бы мог прожить совсем иначе, И душа когда-то создана была Для какой-нибудь московской дачи, Где со стенок капает смола, Где идешь, зарею пробужденный, К берегу отлогому реки, Чтоб увидеть, как по влаге сонной Бегают смешные паучки.
Милая, далекая, поведай, Отчего ты стала мне чужда, Отчего к тебе я не приеду, Не смогу приехать никогда?..
(По первой строчке, 1913)
В 1914 году выходит сборник «Детское. Стихи в прозе»6, который он полностью посвятил Ф. Жамму: «Часто, блуждая вечером по Парижу, я ваш скромный домик снова вижу… Если моя душа в Париже не погибла, спасибо вам за это, Жамм! Спасибо! Еще кружат надо мной метели темными стаями, еще душа не смеет назвать Того, к Кому обращается. Но вы, нашедший для своей молитвы восторг непересохшего ручья, молясь за всех, немного помолитесь за то, чтоб мог молиться я!» (Франсису Жамму).
В этом сборнике достаточно много младенческих стихотворений. Написаны они отчасти стихом, отчасти прозой, с ослабленной рифмой. Таким образом автор выражает детскость и наивность стихов этого сборника. Например: «Спи, мой Заинька, нежный пушок, серенький, маленький, робкий зверек. Заиньке не спится; заинька боится увидеть во сне Лисицу. Не бойся, Заинька, не бойся, маленький, Баинька, Заинька, Баинька, маленький!» (Колыбельная, 1913).
Ф. Жамм был близок И. Эренбургу не только как поэт, ему было понятно мышление писателя. Возможно также, что И. Эренбург был одинок в то время, ощущал потребность в духовном руководстве, он решился на встречу с Ф. Жаммом и поехал к нему в далекую деревню где-то в Пиренеях. Однако эта встреча не оправдала ожиданий молодого русского писателя, он уехал с пустым сердцем: «Он мне понравился, но я понял, что он не Франциск Ассизский и не отец Зосима, а только поэт и добрый человек…»8.
Эстетические взгляды И. Эренбурга, сформированные под влиянием Ф. Жамма, нашли отражение и в его статьях. Например, в статье «Заметки о русской поэзии» эпиграфом служат цитаты из Ф. Жамма: «Мы осознавали, что великое движение было неизбежным, оно протекало выше нас, в небесной сфере, среди богов». «Поэтому мы опустили голову и взглянули вниз». Так И. Эренбург характеризует акмеистов как новое поколение писателей и поэтов, «склонных к искренности и к простоте, к наблюдению над окружающей их жизнью… Это не “реализм” старых поэтов… это нечто новое, чему еще не найдено истинного и глубокого определения». Он противопоставляет их символистам и футуристам. Поэзию символистов он называет «внежизненной», утверждая, что «“Солнце” и “Звезды” Бальмонта, “Змии” Сологуба, “ложа пытки” и “смертные колеса” Брюсова при всей их значительности – вчерашний день русской поэзии». Футуристов же он вообще исключает из категории искусства, говоря, что это муть искусства и собрание молодых людей, «совершенно лишенных каких бы то ни было человеческих чувств, мыслей и переживаний»9.
Таким образом, он критиковал символистов и принимал акмеистические тенденции. Однако надо сказать, то, что в России было акмеизмом, было присуще Ф. Жамму, влияние которого испытывал И. Эренбург на протяжении трех лет, с 1911-го по 1914-й. Но «спокойная» набожность и вера в идеалистическое строение мира были слишком просты для русского писателя, они не давали ответов на мучившие его вопросы. С одной стороны, тяготение к поэзии и философии Ф. Жамма нельзя оценивать как простое увлечение переводчика и молодого поэта, потому что поиски гармонии с миром, поиски нравственных ценностей было поколенческой чертой. С другой – для И. Эренбурга попытка усвоить чужое мировоззрение закономерно обернулась разочарованием. По прошествии некоторого времени И. Эренбург называл это «ребячеством» и открыто говорил о подражательности. Он перерос это увлечение, но последствия сказались на его творчестве. Это был период его исканий.
Список литературы Ф. Жамм в раннем творчестве И. Эренбурга
- Берар Е. Бурная жизнь Ильи Эренбурга/Предисловие Е. Эткинда; Пер. с фр. О. Пановой. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 276 с. . Режим доступа: http://fanread.ru/book/10772575/?page=1 (дата обращения 07.08.2016).
- Большухин Л. Ю. «Другое» сознание в ранней лирике Маяковского: диалог с Франсисом Жаммом//Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2011. № 6 (2). С. 71-74.
- Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. 962 с.
- Перцов В. Маяковский. Жизнь и творчество (1893-1917). М.: Наука, 1969. 368 с.
- Рубашкин А. Илья Эренбург: путь писателя. Л.: Сов. писатель, 1990. 527 с.
- Тень деревьев. Стихи зарубежных поэтов в переводе Ильи Эренбурга. М.: Прогресс, 1969.
- Фрезенский Б. Об Илье Эренбурге: Избранные статьи и публикации . Режим доступа: http://www.e-readimg.club/book.php?book=1032316 (дата обращения 07.08.2016).
- Харджиев Н. И. Статьи об авангарде. Т. 2. М.: RA, 1997. 198 с.