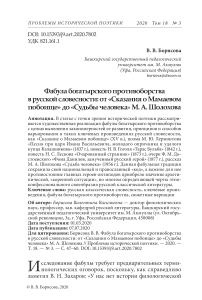Фабула богатырского противоборства в русской словесности: от "Сказания о мамаевом побоище" до "Судьбы человека" М. А. Шолохова
Автор: Борисова Валентина Васильевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.18, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье с точки зрения исторической поэтики рассматривается художественная реализация фабулы богатырского противоборства с целью выявления закономерностей ее развития, принципов и способов варьирования в таких ключевых произведениях русской словесности, как «Сказание о Мамаевом побоище» (ХV в.), поэма М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837 г.), повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (1842 г.), повесть Н. С. Лескова «Очарованный странник» (1873 г.), очерк Ф. М. Достоевского «Фома Данилов, замученный русский герой» (1877 г.), рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека» (1956 г.). Данная фабульная традиция сохранила свой национальный и православный «код», а важное для нее противостояние главных героев-антиподов приобрело значение архетипической, «коренной ситуации», во многом определяющей черты этноконфессионального своеобразия русской классической литературы.
Русская классическая словесность, ключевые произведения, фабула богатырского противоборства, сюжетные вариации
Короткий адрес: https://sciup.org/147227210
IDR: 147227210 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/j9.art.2020.7802
Текст научной статьи Фабула богатырского противоборства в русской словесности: от "Сказания о мамаевом побоище" до "Судьбы человека" М. А. Шолохова
Исследование фабулы требует предварительных терминологических оговорок, поскольку, как справедливо заметил В. Н. Захаров: «У нас нет истории филологической терминологии» [Захаров: 8], отсюда — неоднозначность литературоведческих понятий, которая на сегодняшний день определила, например, четыре варианта соотношения фабулы и сюжета. Восстановив их изначальные значения, В. Н. Захаров предложил следующие определения: «Фабула — развитие действия в хронологической или причинно-следственной обусловленности. Сюжет — предмет, тема, причина повествования. Сюжет реализуется в самом процессе повествования» [Захаров: 60]. Именно в таком понимании «фабула» и «сюжет» как соотносимые универсальные категории исторической поэтики используются нами при рассмотрении фабулы богатырского противостояния в отечественной словесности.
В теоретическом плане мы также используем терминологический тезаурус, составленный в свое время Р. Г. Назировым для исследования фабульного репертуара русской литературы [Назиров: 2]. Ученый понимал фабулу как «событийную конструкцию произведения, предопределенную литературной традицией» (в том числе мифопоэтической), «мыслимую как жизнеподобно выпрямленную в плане общечеловеческого опыта времени и выведенную из-под субъективной точки зрения, в отличие от сюжета» [Назиров: 2]. Соответственно под сюжетом он имел в виду «индивидуальную конкретизацию фабулы в плане авторской субъективности, допускающую пространственно-временные смещения (инверсии) и организующую систему образов» [Назиров: 2].
Значимы для нас и следующие понятия: фабульная традиция, устойчивыми показателями которой являются структурная соотнесенность образов (в данном случае это образы национальных богатырей); общность сюжетных функций персонажей, повторяющийся набор их отличительных черт; фабульный мотив; фабульная ситуация как центральная ситуация, общая для ряда произведений одной фабульной традиции (в данном случае это ситуация противостояния двух богатырей).
Закономерностью развития фабулы в литературе является ее повторяемость, варьирование, обновление и трансформация. Выявление принципов и способов этой трансформации — задача данной статьи.
Фабула богатырского противоборства, связанная с традицией героического эпоса, вобрала в себя целый комплекс архетипических и исторических мотивов (противостояние русского богатыря инородцу или иноверцу, защита веры и отечества, испытание физической и духовной силы противников), который, варьируясь, обеспечил ее продуктивное функционирование в русской словесности.
Но, несмотря на важность изучения фабулы с точки зрения исторической поэтики и нарратологии (показательны, например, в этом плане работы В. Шмида [Шмид: 138–149], [Schmid: 105–121]), оно не стало приоритетным в литературоведении, хотя ряд соответствующих образов и мотивов исследователями выявляется. Например, в работе С. В. Капустиной «Феномен богатырства в трактовке Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского» богатырское подвижничество рассмотрено в свете православной традиции [Капустина: 234]. Историко-типологический подход реализуется здесь в сопоставлении взглядов Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского на категорию «богатырство». Они подчеркивали преимущественно духовную крепость истинных богатырей, поэтому олицетворением богатырства для обоих писателей стали святые воины. Примечательно, что Н. В. Гоголь, указывая современникам на образец богатырского подвижничества, называл имена преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби, а для Ф. М. Достоевского аналогичным стал не только христианский богатырь Илья Муромец, но и «безвестный русский солдат» Фома Данилов.
Думается, интерпретация подобных фактов с учетом их роли в историческом развитии фабулы позволит выявить важнейшие аспекты «этнопоэтики русской литературы» [Захаров], в которой фабула богатырского противоборства является сквозной и достаточно типичной.
В одной из первоначальных форм комплекс мотивов, связанный с данной фабулой, или, точнее, с ее инвариантом, который А. Н. Веселовский с типологической точки зрения назвал «формулой-сюжетом» [Веселовский: 376], реализовался в «Сказании о Мамаевом побоище» (ХV в.). Его автор показал Куликовскую битву как противостояние христианской Руси степным иноверцам-мусульманам:
«…Как случилась битва на Дону великого князя Дмитрия Ивановича и всех православных христиан с поганым Мамаем и с безбожными агарянами»1.
Здесь фабульная структура закрепляет связь мотива русского богатырства с важнейшим мотивом защиты православной веры и Отечества. Не случайно в «Сказании» подчеркивается, что князь Дмитрий получил благословение старца Сергия, который предоставил ему «двух воинов из братии — Пересвета Александра и брата его Андрея Ослябу», иноков Троице-Сергиевского монастыря. Старец сказал: «Мир вам, братья мои, твердо сражайтесь, как славные воины за веру Христову и за все православное христианство с погаными половцами»2 — и дал им нетленное оружие — крест Христов, нашитый на схимах.
Как известно, битва началась с ритуального поединка Пересвета с Челубеем, который, по преданию, отличаясь не только огромной физической мощью, но и особой военной выучкой, был непобедимым воином. Но сломить русский дух ему не удалось. Пересвет, облеченный небесной силой, налетев на острие копья Челубея и пропустив его сквозь свое тело, ударил так, что противник замертво рухнул на землю:
«…И тогда выехал злой печенег из большого войска татарского, перед всеми доблестью похваляясь, видом подобен древнему Голиафу: пяти сажен высота его и трех сажен ширина его. И увидел его Александр Пересвет, монах, который был в полку Владимира Всеволодовича, и, выступив из рядов, сказал: “Этот человек ищет подобного себе, я хочу с ним переведаться!” И был на голове его шлем, как у архангела, вооружен же он схимою по велению игумена Сергия. <…> И ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под ними, и свалились оба с коней на землю и скончались»3.
Со «Сказания о Мамаевом побоище» приоритетным мотивом в развитии ключевой фабульной ситуации богатырского противоборства стало одоление врага русским православным
Фабула богатырского противоборства в русской словесности… 51 воином. Этим обусловлен сакральный характер повествования в памятнике древнерусской словесности.
Фабульная традиция, закрепившая соотнесенность образов богатырей-антиподов, их отличительные национальные и религиозные черты, в полной мере проявилась в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837 г.). Стилизация поэмы в духе русских исторических песен предопределила в ней достаточно свободное переложение, парафразу фабулы, с сохранением ее структуры.
Центральная фабульная ситуация противостояния двух богатырей в поэме раскрывается в символической сцене кулачного боя, в котором сошлись смелый купец Степан Парамонович Калашников и «злой опричник царский Кирибеевич». Калашников называет его «бусурманским сыном» из-за неуважения к христианской вере и морали. Поскольку прозвище Кирибеевич тюркского происхождения (от татарского имени Кирибей), этот мотив не только иносказателен, среди опричников Ивана Грозного было много служилых татар.
Поэтому мотив духовного противоборства в данном случае исторически связан с борьбой русских против «басурман»: «К тебе вышел я теперь, басурманский сын, / Вышел я на страшный бой, на последний бой!»4, — говорит Калашников, которого православный народ восхвалил как нового святого богатыря:
«Пройдет стар человек — перекрестится, Пройдет молодец — приосанится, Пройдет девица — пригорюнится, А пройдут гусляры — споют песенку5».
В своих главных этнологических аспектах фабула богатырского противоборства получила дальнейшее развитие в исторической повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (1842 г., вторая редакция), что в той или иной мере отмечено многими исследователями. Так, гиперболизированность героического образа Тараса Бульбы с присущими казакам эпохи Запорожской Сечи архетипическими чертами — ненавистью к «ляхам», неистовством, преданностью Вере и товарищам — подчеркнул Е. М. Ме-летинский [Мелетинский: 85]. Исторические и мифологические истоки эпопейной романтической повести Н. В. Гоголя выявил
В. Д. Денисов: «Мотивы воинской службы Бульбы и его сыновей, испытания его веры, потери сыновей, религиозного противостояния и мученической смерти за Веру перекликаются с житием святого Евстафия», дополняясь многоплановыми былинными аллюзиями [Денисов: 76]. Действительно, в облике «добрых козаков» видны черты русских богатырей: способность «славно биться», широко «гулять». Их стихия — «чистое поле да добрый конь» и сабля. Они изображены как защитники православия от «бусурман» («ляхов», «турок» и «татаров»), не прощающие предательства «святой русской веры» и «товарищества».
Есть в повести и редуцированная сцена непосредственного богатырского противоборства с участием персонажей второго плана: с одной стороны, это «увертливый и крепкий лях», который «пышной сбруей украшен и пятьдесят одних слуг привел с собою. Погнул он крепко Дёгтяренка, сбил его на землю и уже, замахнувшись на него саблей, кричал: — Нет из вас, собак-казаков, ни одного, кто бы посмел противустать мне!». С другой стороны, это сильный атаман Мосий Шило, который выступил вперед и сказал: «А вот есть же!»6.
Здесь, несмотря на замену места действия и исторической приуроченности, сохраняется важный мотив, определяющий фабульную традицию: русский богатырь бесстрашно принимает вызов сильного противника (ср.: Пересвет говорит Челубею: «…Я хочу с ним переведаться!». Калашников обращается к Кирибеевичу со словами: «К тебе вышел я теперь, басурманский сын»). Также наряду с переакцентировкой персонажей в гоголевском тексте наблюдается сквозная амплификация фабульного мотива самоотверженной защиты «веры Христовой» и «товарищества», в силу чего он становится ключевым в произведении.
Таким образом, православная вера, воспринимаемая поляками как «сверхъестественная сила», помогающая козакам, остается наиболее важной в структуре фабулы богатырского противоборства наряду с архетипической значимостью национально-родовых мотивов.
В повести Н. С. Лескова «Очарованный странник» (1873 г.) житийный образец дополняется обращением к былинной
Фабула богатырского противоборства в русской словесности… 53 традиции, отсюда характерные приметы богатырской внешности героя. В образ Ивана Северьяновича Флягина, напрямую сопоставленного с былинными героями Ильей Муромцем, Василием Буслаевым, Святогором, входит мотив богатырского испытания, который реализуется в одном из фабульных звеньев повести, содержащем отсылки к традиционным эпическим мотивам укрощения чудо-коней и поединка с басурманином. Подобно герою былин, выезжающему помериться силой «в чисто поле», Флягин выходит на поединок с Сава-киреем, который считался «первым батыром» в степи.
Этот эпизод возвращает героя-рассказчика и его слушателей в легендарное прошлое, отмеченное противостоянием русских и «поганых» татар. По мнению Б. С. Дыхановой, подчеркнутой царственностью хана Джангара («на пестрой кошме сидит тонкий, как жердь, длинный степенный татарин в штучном халате и в золотой тюбетейке»7), выставляющего на торги лучших лошадей, имитируется народное, ярмарочное представление встречи русских и татар [Дыханова: 80]: «Красавцев-коней можно продать и обычным порядком, но в игре с русскими покупателями, которую в самый последний день ярмарки затевает хан Джангар», «как из-за пазухи» вынимающий «особенного коня», проявляется желание исторического реванша. «Азиатская» хитрость устанавливающего предельно высокую цену на самую лучшую лошадь, а затем «пускающего её наперепор» хана Джангара исключает самую возможность покупки отборных лошадей русскими «князьями», «физически и морально не готовыми к татарскому вызову» [Дыханова: 80–81]. Поэтому поединок русского мужика с татарином превращается в негласное соперничество представителей двух народов: «…И Флягин, и Савакирей будут биться до последнего, насмерть, ибо татарин “хотел благородно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацию не положить”, а русский — чтобы утвердить превосходство своего народа над иноверцами» [Дыханова: 81]. Так, лесковский персонаж оказывается в архетипической ситуации, представленной в новом сюжетном варианте: «кто кого перепорет?», который приобретает пародийную окраску из-за утрированного испытания физической силы и духа.
В целом же, благодаря общей фабуле обретения праведни-чества и фабульному мотиву богатырского противостояния, в характере и судьбе «очарованного странника», как святого воина, или воина-инока, предстоящего в конце своего жизненного пути «в клобуке и рясе», готового пойти воевать за народ и надеть «амуничку», отчетливо слышна общенациональная нота, звучание которой по-прежнему определяется православной верой.
Героический и патриотический пафос повестей Гоголя и Лескова сохранил Ф. М. Достоевский в очерке «Фома Данилов, замученный русский герой», опубликованном в «Дневнике писателя» за 1877 г., что обусловлено жанровым сходством произведений, продолжающих традицию «воинских повестей» древнерусской литературы, и доминированием фабульного мотива защиты веры.
Здесь, как и в предшествующих текстах, очевидна историческая приуроченность действия к определенному месту и времени. Трансформация фабулы обусловлена целенаправленной перверсией образа героя, приобретающей аксиологическое значение: «христианская собака» в глазах «поганых татар» превращается в «русского батыра» [Борисова: 34].
Сам образ Фомы Данилова автор представил как эмблему:
«Нет, послушайте, господа, знаете ли, как мне представляется этот темный безвестный Туркестанского батальона солдат? Да ведь это, так сказать, — эмблема России, всей России, всей нашей народной России, подлинный образ ее»8.
Действительно, структурно образ Фомы Данилова соответствует классической эмблематической триаде, переведенной в вербальную плоскость: есть изображение (pictura), надпись (inscriptio) и подпись (subscriptio). «Рисуя» эмблему, Достоевский помещает ее в своеобразную повествовательную рамку, в центре которой две фигуры — русского солдата и хана, который велит «ему переменить веру, а не то — мученическая смерть»9. Эта яркая картина, похожая на живописное полотно, ассоциируется с былинным противостоянием русского богатыря Пересвета и степного батыра Челубея на Куликовском поле. Она обрамляется надписью «Эмблема
России» и подписью-толкованием «Фома Данилов — русский батыр», выражающими удивление иноверцев и восхищение, которые у них вызвал русский солдат. Победив противника в честном поединке, народный герой вызывает уважение врагов. Отсюда эквивалентный по смыслу и нравственной оценке перевод: азиаты, «замучив его до смерти, удивились силе его духа и назвали его батырем, то есть по-русски богатырем»10.
В данном случае коллизия национального и религиозного противостояния героев-антиподов на войне, заданная архетипом, архетипом же разрешается.
Аналогичным образом развивается соответствующая сюжетная линия в рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека» (1956 г.). В разгар полемики вокруг этого знаменитого произведения А. Кобринский позволил себе сказать, что писатель, построивший свое произведение «по законам советской мифологии, сам пал ее жертвой» [Кобринский: 6]. Думается, современный критик ошибся, хотя кое-что угадал: произведение Шолохова действительно укоренено в мифологической почве. Эпопейный характер рассказа во многом обусловлен опорой на архетипы, использованием и трансформацией мифологических образов и мотивов, закрепленных фабулой богатырского противоборства.
Для народной эпической традиции характерно наделение героя силой духа и воинской доблестью. При этом одним из художественных приемов при создании образа богатыря выступает гипербола. Преувеличиваться может все: рост героя, его поступки, количество еды и питья. Остановимся на последнем мотиве, который сюжетно реализован в эпизоде противостояния Андрея Соколова и коменданта лагеря для военнопленных Мюллера.
На наш взгляд, наиболее близким и «родным» контекстом, в котором оказывается возможной адекватная интерпретация этого эпизода [Есаулов, 1995], являются произведения отечественной литературы, типологически связанные с фабулой богатырского противоборства. В них проявляются черты русского «культурного бессознательного» [Есаулов, 2004: 12], хотя сохранение сюжетно-фабульной (или мотивной) структуры, которое оборачивается своего рода «квазицитатой», не обязательно означает совпадение аксиологической основы текстов ХIХ и ХХ вв., как справедливо подчеркивает И. А. Есаулов.
В шолоховском тексте сохраняется совокупность фольклорно-мифологических мотивов, связанных с испытанием героя, в образе которого выразительно подчеркнуты черты русского богатыря: не случайно немец Мюллер трижды называет Андрея Соколова «русс Иваном». В сцене его испытания в первую очередь актуализируется мотив культового питья русского человека. Согласно пословице («что для русского хорошо, то немцу смерть»), сила духа русского солдата, поражающая врагов, проявляется здесь в его способности выпить три стакана водки, не закусывая.
Смысл этой поговорки пояснил в ХIХ в. Фаддей Булгарин, приведя исторический анекдот, связанный с военными походами Суворова в Европу: «Наши солдаты, разбив аптеку, уже объятую пламенем, вынесли на улицу бутыль, попробовали, что в ней находится, и стали распивать, похваливая: славное, славное винцо! В это время проходил мимо немец. Он взял чарку, выпил — тут же свалился и умер. Когда Суворову донесли об этом происшествии, он сказал: “Вольно же немцу тягаться с русскими! Русскому здорово, а немцу смерть!”»11.
В рассказе Шолохова эпизод с водкой — это актуализированная мифопоэтическая форма выражения стойкости Андрея Соколова, который победил, или, так сказать, «перепил» немцев, показав им «свое русское достоинство и гордость» и вызвав, подобно Фоме Данилову, восхищение врагов12.
Здесь, наряду с неизбежной «сменой декораций», заменой места и времени действия, обнаруживается глубинная перекличка с национальными мотивами произведений Лескова и Достоевского. Религиозная же составляющая фабульной традиции в рассказе «Судьба человека» практически нивелируется, из-за чего происходит десакрализация самой фабулы, показательная для советской литературы.
По сути, в данном случае мы имеем дело с « псевдоморфозой » — «прямой “отменой” собственного смысла» изначальной структуры и «привнесением иного смысла, прямо противоположного уже существующему» [Есаулов, 2004: 427].
Показательно также, что анализируемая фабула у Шолохова редуцируется до побочного мотива жизненной истории героя, низводясь до рудиментарного уровня.
От фабулообразующего мотива веры в шолоховском тексте сохранились только отдельные семантически обедненные элементы: в названии места «Белая Церковь», в незнаменательном значении слова «Бог», употребленного в качестве междометия «Боже тебя упаси падать» и т. п. Лишь в одном эпизоде, когда фашисты загнали пленных на ночь в «церковь с разбитым куполом», как овец в темный катух (тоже примечательное сравнение!), пробивается прежний мотив: «И, как на грех, приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился-крепился он, а потом заплакал. “Не могу, — говорит, — осквернять святой храм! Я же верующий, я христианин!”»13.
И хотя Шолохов — советский писатель, причем, не только хронологически, но и по убеждению, — появление таких деталей в его тексте, даже в таком редуцированном виде, означает, что советская литература в своих лучших, наиболее жизнеспособных в «большом времени» артефактах не могла обойтись без прикосновения к настоящим истокам русской культуры.
С одной стороны, в этом можно увидеть влияние «культурного бессознательного», безуспешно подавляемого советской «партийностью», с другой же стороны, в аспекте рецептивной, «поставторской» истории произведения становится возможной его интерпретация в контексте национальной культуры.
Итак, рассмотренное с точки зрения исторической поэтики развитие фабулы богатырского противоборства на примере ее сюжетных вариаций в ключевых произведениях оте-чественной классики показывает, что в целом фабульная традиция сохранила свой национальный и православный «код» (в случае Шолохова — возможность обращения к нему на уровне рецепции), а важное для нее противостояние главных героев-антиподов приобрело значение архетипической, «коренной ситуации» [Бочаров: 9], во многом определяющей черты этноконфессионального своеобразия русской литературы. Художественный потенциал данной фабулы несомненен, что позволяет надеяться на ее ресакрализацию в новейшей отечественной словесности.
Список литературы Фабула богатырского противоборства в русской словесности: от "Сказания о мамаевом побоище" до "Судьбы человека" М. А. Шолохова
- Борисова В. В. Эмблематика Ф. М. Достоевского. — Уфа: Изд-во Башкирского государственного педагогического университета им. М. Ак-муллы, 2013. — 132 с.
- Бочаров С. Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». — 3-е изд. — М.: Худож. лит., 1978. — 103 с.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. — Л.: Худож. лит., 1940. — 648 с.
- Денисов В. Д. Тарас Бульба: герой-козак и его время // Культура и текст. — 2017. — № 4 (31). — C. 73-91.
- Дыханова Б. С. В зазеркалье волшебного слова (поэтика «отражений» Н. С. Лескова). — Воронеж: ВГПУ, 2013. — 204 с.
- Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя»). — М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. — 102 с.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. — М.: Кругъ, 2004. — 560 с.
- Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспекты. — М.: Индрик, 2012. — 264 с.
- Капустина С. В. Феномен богатырства в трактовке Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ 2014. — Вып. 12. — С. 233-242 [Электронный ресурс]. — URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1429618551.pdf (18.01.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2014.743
- Кобринский А. Миф и идеология. О рассказе М. Шолохова «Судьба человека» // Литература. — 2003. — № 17. — С. 6.
- Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. — М.: РГГУ, 1994. — 136 с.
- Назиров Р. Г. Традиции Пушкина и Гоголя в русской прозе. Сравнительная история фабул: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.01 — Екатеринбург, 1995. — 46 с.
- Шмид В. Нарратология. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Языки славянской культуры, 2008. — 304 с.
- [Schmid W.] Kompositionstheorie der Prosa // Slavische Narratologie. Russische und tschechische Ansatze / Ed. W. Schmid. — Berlin; New York, 2008. — Pp. 105-121.