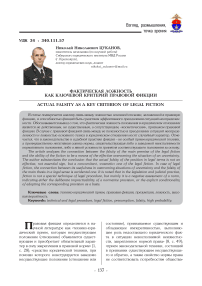Фактическая ложность как ключевой критерий правовой фикции
Автор: Цуканов Николай Николаевич
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 4 (41), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье подвергается анализу связь между ложностью основной посылки, заложенной в правовую фикцию, и способностью фикций быть средством эффективного преодоления ситуаций неопределенности. Обосновывается вывод о том, что фактическая ложность положения в юридическом отношении является не действенным, не существенным, а сопутствующим, «косметическим», признаком правовой фикции. В случае с правовой фикцией связь между ее полезностью в преодолении ситуаций неопределенности и ложностью основного тезиса в юридическом отношении носит случайный характер. Отмечается, что в законодательстве и судебной практике фикция - не особый прием юридической техники, а преимущественно негативная оценка нормы, свидетельствующая либо о заведомой неисполнимости нормативного положения, либо о явной условности принятия соответствующего положения за основу.
Технико-юридический прием, правовая фикция, презумпция, ложность, высокая вероятность
Короткий адрес: https://sciup.org/140250112
IDR: 140250112 | УДК: 34
Текст научной статьи Фактическая ложность как ключевой критерий правовой фикции
Правовая фикция определяется в научной литературе как «технико-юридический прием, которым несуществующее положение (отношение) объявляется существующим и приобретает обязательный характер в силу закрепления в правовой норме» [1, с. 28]; «средство юридической техники, при помощи которого конструируется заведомо несуществующее положение (отношение или состояние), признаваемое существующим и обладающее императивностью, выполняющее роль недостающего юридического факта в ситуации невосполнимой неизвестности, закрепленное нормой права» [8, с. 49]; «прием законодательной техники, состоящий в признании существующим несуществующего и обратно, а также свойство нормы права не соответствовать потребностям общества»
[10, с. 7]; «создание (sic) государством или уполномоченным им органом определенному явлению, обстоятельству положения действительного, которому оно изначально не соответствует в действительности» [3]; «особый прием юридической техники, посредством которого заведомо ложное положение условно признается истиной» [5] и т.д. При многообразии подходов ключевым признаком остается ложность основной посылки (ее несоответствие истине) и способность фикций быть средством эффективного преодоления ситуаций неопределенности. Между тем связь этих свойств совершенно не очевидна. Можно ли, например, предполагать, что эффективность фикции как приема юридической техники обратно пропорциональна степени вероятности закрепленного в ней тезиса, что, создавая соответствующую норму, законодатель сознательно ориентируется на необходимость закрепления именно ложного тезиса? Один из самых распространенных в современной литературе примеров правовой фикции связан с ч. 3 ст. 45 ГК РФ1, можно ли в том случае, если день фактической смерти лица случайно совпадет с днем вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, считать, что фикция перестала быть таковой, «оказалась фиктивной» применительно к конкретной ситуации? Очевидно, что уместен лишь отрицательный ответ.
Использование признака крайне низкой вероятности или даже заведомой ложности закрепленного правовой фикцией положения делает традиционной ее характеристику путем сопоставления с презумпцией. В этом контексте следует обратить внимание на четыре обстоятельства.
Во-первых, фикция ни по форме, ни по юридическим свойствам может вообще не иметь ничего общего с презумпциями, в этом легко можно убедиться, изучая приводимые в научной литературе примеры фикций. Так, О.А. Курсова называет фикцией ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, отмечает, что фикции могут быть сформулированы в виде дефиниции
«и даже содержаться в примечании» [8, с. 44]. А.В. Демин в качестве примеров фикций указывает п. 7 ст. 227, п. 4 ст. 195, п. 3 ст. 362, п. 3 ст. 167, п. 3 ст. 182, п. 4 ст. 269 НК РФ [2, с. 22-28], М.В. Карасева – ст. 20, ч. 2 ст. 42, п. 6 и 9 ст. 69 НК РФ [4]. По мнению О.В. Танимова, «ярким примером» фикций служит такая категория, как состав преступления [13], а В.Н. Сидорова приводит в качестве «условной фикции» юридическое лицо [12].
Во-вторых, при сравнении фикции и фактической презумпции принято отмечать различную степень вероятности заключенного в них положения. Но если это так, то какая величина этой вероятности является пороговой для их разграничения? Можно ли, например, утверждать, что предположение о том, что лицо знает об уголовном запрете совершать убийства, – является презумпцией, а то же самое правило в отношении условий транспортировки психотропных веществ – фикцией? Как отмечает В.А. Кучинский, «вероятное явление, презюмируемое как действительное, может быть ложным, а ложное явление, признаваемое фикцией, может оказаться действительным… не следует удивляться тому, что при такой трактовке презумпций некоторые авторы рассматривают их как разновидность фикций и наоборот, характеризуют фикции как разновидность презумпций» [9, с. 302, 308]. В итоге в научных публикациях предлагается использовать специфические термины: «квази-презумпция» [6, с. 16], «фиктивная презумпция» [7, с. 455], «маловероятная презумпция» [2, с. 171], «полуфикции», «фикции с потенциалом» [13, с. 52-56] и т.п., что, на наш взгляд, только подтверждает условность признака ложности фикции как критерия ее отграничения от презумпции.
При сравнении фикции с фактической презумпцией главенствующее значение имеют не механизмы их возникновения, а обусловленная различием этих механизмов разница в способе их воздействия на общественные отношения: фикция действует как норма права, а фактическая презумпция – как не тре-
Взгляд, размышления,
точка зрения

бующее нормативного закрепления правило, основанное на индуктивном обобщении.
В-третьих, условием закрепления правовой презумпции (не фактической) служит способность быть эффективным средством регулирования общественных отношений. Если фактическая презумпция не нуждается в формальном закреплении, поскольку применяется в силу высокой вероятности презюмируемого факта, то правовая презумпция не обязательно характеризуется высокой вероятностью презюмируемого факта, поскольку в основе его признания лежит прямое предписание источника права [подр.: 15, с. 104]. В этом контексте правовая презумпция в научной литературе нередко именуется фикцией. «Все, что охватывается распространенным в литературе понятием неопровержимых презумпций, – отмечает К.К. Панько, – является правовыми фикциями, установленными правовыми нормами и не подлежащими опровержению» [10, с. 71]. Аналогичное мнение высказывает И.В. Решетникова [11]. Как отмечает О.В. Танимов, «фиктивной презумпцией является презумпция знания закона» [13, с. 52]. О.А. Курсова в качестве «наиболее известной фикции» указывает, по сути, правовую презумпцию – положение, введенное законом Карнелия, в силу которого предполагалось, что пленный умер свободным в момент своего пленения, вследствие чего, если он оставил завещание, оно сохранялось в силе, если нет – призывались наследники по закону [8, с. 9]. Следуя этой логике, фикцией можно было бы назвать и правовую презумпцию невиновности.
В-четвертых, важным критерием разграничения фикции и презумпции принято считать неопровержимость первой, что само по себе не очень понятно по двум причинам:
-
1) идея существования неопровержимых правовых презумпций поддерживается в работах многих авторов: В.К. Бабаева, М. Гурвича, Т.Д. Зражевской, Ю.Г. Зуева, Я.Б. Левенталя, В.И. Каминской, А.А. Крымова, А. Штейнберга и т.д. [подр.: 14, с. 22] В качестве частной иллюстрации отметим, что рассуждения о безусловной необходимости опровержения презумпции уместны лишь в контексте парадигмы решения задачи объективного установления обстоятельств дела.
Однако потенциал правовых презумпций этими рамками не ограничен. Например, согласно п. 13.13 Правил дорожного движения: «Если водитель не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и тому подобное), а знаков приоритета нет, он должен считать, что находится на второстепенной дороге». Обязанность признать презюмируемый факт адресована водителю, который не обладает правом выносить правоприменительные акты, т.е. опровергать правовую презумпцию. Очевидно, что причиной закрепления данной презумпции служит не высокая вероятность вывода, а соображения дорожной безопасности. Безопасность участников дорожного движения в данном случае безусловно ценнее, чем фактическая правильность определения статуса участка дороги. Похожие правила предусмотрены п. 68 Правил плавания судов по внутренним водным путям, пп. «а» п. 10.1 приказа Мининформсвязи России от 11 августа 2005 г. N 99 «Об утверждении Инструкции о порядке приобретения, учета, передачи, хранения, выдачи, транспортирования и использования организациями федеральной почтовой связи служебного и гражданского оружия, патронов к нему и специальных средств» и т.д.;
-
2) несмотря на предпринимаемые попытки систематизации юридических свойств правовой фикции, приводимые в юридической литературе примеры фикций зачастую просто несовместимы с опровержением. Например, ч. 1 ст. 1 Конституции РФ [5], ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ [3]. В то же время нельзя исключать возможность опровержения положений, отраженных во многих фикциях. Например, вывод, предусмотренный ч. 3 ст. 45 ГК РФ, вполне может быть опровергнут, равно как и вывод, основанный на приведенной И.В. Решетниковой в качестве примера фикции ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ: «Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований» [11].
Можно предположить, что в приведенных случаях представлены не фикции как прием юридической техники, а фиктивные правовые нормы. Но если это так, то мы имеет дело с антиподом закона [10, с. 27-28], «разновидностью правотворческой ошибки, возникшей вследствие добросовестного заблуждения нормодателя, обусловленного неполнотой познания правовых явлений или несоответствием конкретного правового явления основам идеологии государства» [8, с. 65], однако ни в одном из приведенных случаев авторы не приходят к выводу о необходимости отмены или корректировки указанных норм.
Наконец, как оценить критерий «несоответствия истине», системой каких координат должна быть ограничена эта оценка? Например, по мнению О.А. Курсовой, фикцией является положение ст. 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» о том, что больной наркоманией – лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с этим Федеральным законом, поставлен диагноз «наркомания», поскольку в действительности «больных гораздо больше» [8, с. 44]. В данном случае вывод о неистинности делается на основе перенесения в единую плоскость сравнения заведомо неравнозначных юридических и медицинских критериев. Однако при таком подходе возникает возможность отнесения к фикциям неограниченного чис- ла норм. Если одномоментно использовать в качестве равнозначных критерии юридические и социально-биологические, то фикцией оказывается ч. 1 ст. 69 Жилищного кодекса РФ; как отмечает О.В. Егорова, «нельзя не признать, что иждивенцы, а также иные лица по договору социального найма могут не быть связаны с нанимателем (собственником) кровно-родственными связями» [3]. При учете физиологических критериев фикцией может быть признана ч. 3 ст. 19 Конституции РФ, закрепляющая, что мужчина и женщина имеют равные возможности для реализации своих прав и обязанностей. В случае использования критериев религиозных фикцией оказывается ст. 2 Конституции РФ, предусматривающая, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и т.д.
Анализ законодательства и судебной практики позволяет сделать вывод о том, что правовая фикция, в отличие от правовой презумпции, – термин не нормативный, а доктринальный. Законодатель достаточно часто использует термин «презумпция», не уточняя его содержания, очевидно ориентируясь на его общеизвестное значение1. При этом в ходе исследования не удалось найти ни одной нормы, которую законодатель сам сознательно называл бы фикцией.
Высшие органы судебной власти, достаточно часто фиксирующие в своих решениях те или иные презумпции2, уклоняются от того, чтобы эти правила именовать фикция-
Взгляд, размышления, точка зрения

ми. Термин «фикция» используется, но почти исключительно в качестве негативной характеристики той или иной меры или нормы, при этом фикциями очень часто именуются положения, не сопоставимые с презумпциями ни по форме, ни по содержанию1. В практике Конституционного Суда РФ можно обнаружить утверждение о том, что то или иное закрепленное в законе право (гарантия) «превращается в фикцию»2, при этом сама норма, закрепляющая соответствующее право (гарантию), не претерпевает изменений.
Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы.
-
1. В законодательстве и судебной практике фикция – не особый прием юридической техники, а преимущественно негативная оценка нормы, свидетельствующая либо о заведомой неисполнимости нормативного положения, либо о явной условности принятия соответствующего положения за основу.
-
2. В научной литературе в качестве примеров правовых фикций нередко приводятся различные по юридическим свойствам правовые нормы, объединенные условностью отраженного в них тезиса. Связь правовой фикции с ее общепринятыми признаками характерна преимущественно для работ, ори-
- ентированных на систематизацию юридических признаков правовых фикций.
-
3. Юридическую значимость соответствующей правовой нормы (правовой фикции) обеспечивает ее способность эффективно преодолевать ситуацию правовой неопределенности, фактическая же ложность положения в юридическом отношении является не действенным, не существенным, а сопутствующим, «косметическим» признаком правовой фикции. Нормы, которые принято именовать правовыми фикциями, эффективны в тех ситуациях, когда своевременность и определенность решения оказывается важнее, чем его соответствие фактическим обстоятельствам, тезис, отраженный в фикции, с равным юридическим эффектом может как соответствовать истине, так и не соответствовать ей полностью или частично. В случае с правовой фикцией связь между ее полезностью в преодолении ситуаций неопределенности и ложностью основного тезиса в юридическом отношении носит случайный характер. Соответственно, степень вероятности заложенного в фикцию тезиса никак не связана с эффективностью самой нормы, а ложность не может быть критерием отграничения фикции от правовой (не фактической) презумпции.
Список литературы Фактическая ложность как ключевой критерий правовой фикции
- Бабаев, В.К. Презумпции в советском праве / В.К. Бабаев. - Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 1974. - 124 с.
- Демин, А.В. Фикции в нормах налогового права / А.В. Демин // Финансовое право. - 2013. - N 4. - С. 22-28.
- Егорова, О.А. Презумпции и фикции в жилищном законодательстве / О.А. Егорова // Российская юстиция. - 2015. - N 10. - С. 9-13.
- Карасева, М.В. Презумпции и фикции в части первой Налогового кодекса РФ / М.В. Карасева // Журнал российского права. - 2002. - N 9. - С. 71-80.
- Ким, Ю.В. О фикциях в конституционном праве / Ю.В. Ким // Конституционное и муниципальное право. - 2008. - N 13. - С. 8-9.
- Крымов, А.А. Правовые презумпции в уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.А. Крымов. - М., 1999. - 30 с.
- Курсова, О.А. Юридические фикции современного российского права: сущность, виды, проблемы действия / О.А. Курсова // Проблемы юридической техники: сборник статей / под ред. В.М. Баранова. - Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2000. - С. 458-459.
- Курсова, О.А. Фикции в российском праве: дис. … канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2001. - 193 с.
- Кучинский, В.А. Юридические презумпции и фикции / В.А. Кучинский // Юридическая техника. - 2010. - N 4. - С. 302-309.
- Панько, К.К. Фикции в уголовном праве (в сфере законотворчества и правоприменении): дис. … канд. юрид. наук. - Ярославль, 1998. - 232 с.
- Решетникова, И.В. Презумпции и фикции в арбитражном процессе / И.В. Решетникова // Вестник гражданского процесса. - 2019. - Т. 9. - N 1. - С. 16-28.
- Сидорова, В.Н. К вопросу о теории "примитивной фикции" юридического лица / В.Н. Сидорова // Российская юстиция. - 2020. - N 4. - С. 9-12.
- Танимов, О.В. Развитие фикций в новейшее время (опыт России) / О.В. Танимов // История государства и права. - 2014. - N 16. - С. 52-56.
- Цуканов, Н.Н. К вопросу о существовании неопровержимых правовых презумпций / Н.Н. Цуканов // Сибирское юридическое обозрение. - 2020. - Том 17. - N 1. - С. 22-29.
- Цуканов, Н.Н. Нарушил ли законодатель презумпцию невиновности лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении? / Н.Н. Цуканов // Государство и право. - 2010. - N 3. - С. 104-109.