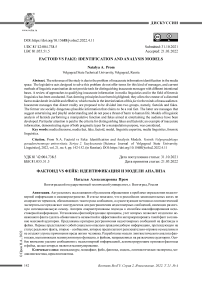Фактоид vs фейк: идентификация и модели анализа
Автор: Пром Наталья Александровна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 4 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Актуальность исследования обусловлена обращением к проблеме определения недостоверной информации в медиапространстве. В статье показано, что в российских законодательных актах не содержится терминов, обозначающих такого рода сообщения, а существующие методики лингвистической экспертизы не предлагают инструментов для разграничения недостоверных сообщений, имеющих различную интенциональную основу. Автором охарактеризованы подходы к способам квалифицирования недостоверной информации. Установлены фактообразующие принципы, учет которых позволяет создателю искаженного факта сделать обманчивость незаметной и эффективной и интериоризировать такой факт в сознание массовой аудитории. Предложены критерии разграничения недостоверных сообщений на фактоиды и фейки. Первые представляют собой социально опасную правдоподобную информацию, претендующую на статус реального факта, вторые - сообщения, которые предполагают развлекательно-игровое осмысление и не создают угрозы причинения вреда жизни человека. Разработаны модели лингвистического анализа фактоидов, выполняющих манипулятивную функцию, и фейков, направленных на развлечение аудитории. Особое внимание уделено сообщениям с недостоверной информацией, демонстрирующим признаки фактоида и фейка, целью которых является манипулирование.
Медиадискурс, медиафакт, фейк, фактоид, модель, лингвистическая экспертиза, медиалингвистика, юрислингвистика
Короткий адрес: https://sciup.org/149140554
IDR: 149140554 | УДК: 81’42:004.738.5 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2022.4.11
Текст научной статьи Фактоид vs фейк: идентификация и модели анализа
DOI:
Проблема неконтролируемости потока информации в современных медиа осложняется тем, что аудитории все труднее ориентироваться, выделять главное и второстепенное, понимать, что соответствует действительности, а что – намеренно или нет – ее искажает. В современном мире борьбу с так называемыми фейками на государственном уровне начали вести после того, как они стали социально опасными. Для того чтобы оградить население от лжи в медиа, в 2019 г. был принят Федеральный закон № 31-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.3 ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”», согласно которому недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, подлежит удалению [Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 31-ФЗ...]. Подобного рода законы существуют во всем мире. Например, в США признаются незаконными фейки, намеренно созданные для обмана избирателей и дискредитации кандидатов на выборах [Vizoso, Vaz-Alvarez, Lopez-Garcia, 2021, p. 296].
Указанный российский закон работает более двух лет, однако практика его применения порождает ряд противоречий. Часто человек осознает, какое сообщение можно квалифицировать как недостоверное, но, несмотря на эту очевидность, в том случае, если правообладатели контента намерены оспорить применение данного закона, требуется заключение эксперта. В связи с этим необходимо рассмотреть этот закон с лингвистических позиций в терминологическом и методологическом аспектах, на некоторые его недостатки уже указывали юристы и социологи.
В исследовании мы ставим прежде всего вопрос о том, какой термин должен применяться для обозначения недостоверной общественно значимой информации. Подобрать подходящее имя важно с точки зрения теории номинации: оно определяет отношение к ре- ференту, при этом неясно, является ли словосочетание недостоверная общественно значимая информация дефиницией (в этом случае отсутствует термин) или термином. Кроме того, возникают вопросы о том, как такого рода информацию называют журналисты, обычные люди вне законодательного дискурса; все ли недостоверные сообщения однородны; как их можно квалифицировать и т. д.
В области лингвистической экспертизы активно разрабатываются языковые критерии недостоверности текста или опасности того или иного сообщения для населения. Они учитывают жанр текста, наличие признаков экстремизма и побуждения к враждебности в сообщениях, которые несут отрицательный «эмоциональный заряд» и направлены на формирование негативной установки (см., например: [Ворошилова, 2016]), однако сформулированные выше вопросы остаются без ответов. Предоставление их является задачей предлагаемой работы.
Материал и методы
Для выполнения поставленной задачи мы используем такие исследовательские методы, как понятийное моделирование, методы прагматического, контекстуального и сравнительного анализа, а также лингвостилистической интерпретации текста.
Результаты и обсуждение
Вопрос терминологии
Под недостоверной информацией мы понимаем не соответствующие действительности информационные сообщения. В судебной практике используется понятие заведо- мо ложной информации – сведений, которые изначально не соответствуют действительности, о чем было известно лицу, ее распространившему. Однако, как отмечает А.А. Ефа-нов, проверить факт наличия умысла медиаинформации часто представляется затруднительным [Ефанов, 2020, с. 50].
В медиадискурсе недостоверная информация получает разные имена: фейк , слухи , ложь , неправда , вымысел , выдумка , миф , постправда , мистификация , утка . Самым употребительным сегодня является заимствованное из английского слово фейк (Cambridge Dictionary), обозначающее ложное сообщение, которое кажется новостью и распространяется с помощью средств массовой информации; фейки обычно создаются для оказания влияния на политические взгляды или в качестве шутки (Cambridge Dictionary). Рассмотрим примеры:
-
(1) В небольшом подмосковном городке, где я живу, пошел слух , что в нашу крошечную больницу «везут со всей Москвы». Для меня это вот самое «со всей Москвы» и есть признак фейка (Российская газета, 02.05.2021);
-
(2) Ложь : существует связь между прививкой и нарушением репродуктивной функции (gov. il, 09.02.2021);
-
(3) Часто «расшаривают» и то, что считают неправдой . Кому-то это важно, чтобы увеличить «кликабельность», кто-то это делает ради розыгрыша, кто-то хочет донести до собеседников степень опасности, хотя и знает, что конкретно то, что он рассылает, выдумка (Российская газета, 02.05.2021);
-
(4) Самым смешным фейком про вакцину «Спутник V» директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает миф о том, что российские хакеры украли план создания вакцины против коронавируса у компании AstraZeneca (Известия, 05.04.2021);
-
(5) Post-truth : Here are some fakes we debunked earlier: Denzel Washington did not praise Donald Trump; No, this video is not live from the ISS (BBC News, 11.11.2016);
-
(6) Лох-несское чудовище, пожалуй, самая известная мистификация в мире (12 величайших...);
-
(7) «Мы приняли решение освободить эти рестораны (отмеченные звездой Michelin. – Н. П. ) от всяких ограничений (на время локдауна. – Н. П. )», – якобы цитирует Собянина «Панорама». Эту утку быстро опроверг президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров (Москвич.mag, 29.10.2021).
В приведенных примерах (1)–(7) слова слух , ложь и пр. используются в качестве синонимов слову фейк , хотя семантически они не вполне совпадают. В частности, слухи не всегда бывают лживыми, а фейк всегда содержит недостоверные сведения. Постправда представляет собой не отдельное сообщение, а информационный поток, целью которого является воздействие на эмоции и личные убеждения аудитории до тех пор, пока большинство реципиентов не уверуют в эту постправду и не будут относиться к ней как к реальному факту [Iyengar, Massey, 2019]. Миф отличается ценностной насыщенностью [Карасик, 2017]. Мистификация, будучи намеренной попыткой введения множества людей (читателей, зрителей) в заблуждение, обман ради шутки или с иной целью (Санжаревский), относится в большей степени к области искусства и литературы, потому не предполагает нанесения вреда обманным путем. Кроме того, знание этимологии слова мистификация (от греч. mystes – посвященный в тайну, знающий таинства + лат. facere – делать) добавляет слову коннотацию приписывания предмету сверхъестественных или загадочных свойств (Комлев).
Некоторые исследователи в отношении преднамеренно ложной информации в СМИ используют термин газетная утка. Это понятие представляется наиболее близким слову фейк, однако мы обнаружили только сокращенный вариант утка (7) (полный вариант, по-видимому, является устаревшим). Вымысел находится между истиной и ложью и, по мнению Е.Ю. Ильиновой, представляет собой продукт особой формы речемыслительной деятельности, мотивированной стремлением модифицировать представление о мире, результат творческого применения категориально-семантического потенциала языковых единиц [Ильинова, 2008]. А.В. Ленец называет такие характеристики лжи, как намеренность, прагматическая направленность на достижение конкретной выгоды автора сообщения в ущерб адресату [Ленец, 2008]. Законодатели избегают термина ложь, имеющего многочисленные определения в словарях толковых и философских, отражающих не только предметно-логический, но и гуманистический, этический, ритуальный и прочие аспек- ты данного феномена. В теории манипулирования информацией у лжи есть масса разновидностей: фальсификация, подмена понятий, умолчание, стереотипы, белая ложь, ложь во благо, подтасовка фактов, шутливая ложь и др. (см., например: [McCornack, 1992, р. 15]). Это, в свою очередь, обладает несоизмеримым потенциалом как для точной квалификации лжи, так и для запутывания судебного процесса.
В научной литературе мы выявили два основных подхода к использованию термина фейк :
-
1. Термин фейк является генерализирующим обозначением таких феноменов, как слухи, сплетни и пр. [McBeth, 2011]. Данный подход основан на том, что слово фейк в последние годы расширило спектр своих значений и номинирует поддельное сообщение с любой коммуникативной целью (развлекательной и манипулятивной) и разной степенью искажения действительности. Измерение фактичности и обмана позволило исследователям создать типологию фальшивых новостей, включающую новостную сатиру, новостную пародию, фабрикацию, манипулирование, рекламу и пропаганду [Tandoc-jr, Lim, 2017, р. 137]. Специалисты в области судебной лингвистической экспертизы выделяют пять типологий фейков: по степени искажения информации, по степени достоверности и надежности источника информации, по цели создания, по типу репрезентации, по степени достоверности и надежности источника информации [Стернин, Шестернина, 2021].
-
2. Термином фейк определяется тип развлекательной недостоверной информации [Карасик, 2017]. В данной трактовке прослеживается связь фейка с «желтой прессой», аудитория которой едва ли рассчитывает на сведения, соответствующие действительности, она всегда ожидает сенсаций, новостей, которыми можно удивить собеседника.
Мы придерживаемся мнения, что в лингвистике недостоверные медиасообщения, искажающие действительность, целесообразно классифицировать на прагматическом основании, разделяя фактоиды и фейки. Факто-иды, будучи сообщениями, содержащими разные типы лжи, располагают качеством правдоподобия и претендуют на статус реального факта с целью манипулирования аудиторией. Фейки в силу определенных признаков не воспринимаются реципиентом как достоверная информация, поэтому допускают ее развлекательно-игровое осмысление [Пром, 2020].
Объединяющим критерием для этих понятий является обманчивость (философский термин, англ. deceptiveness ) как свойство ложного сообщения, которое отражает тип функциональной адаптации к требованиям сложной коммуникативной ситуации (см., например: [McCornack, 1992, р. 1]). Адаптация сообщения в данном случае осуществляется с помощью коммуникативной стратегии искажения действительности, открытое использование которой в медиадискурсе не одобряется. Автор маскирует вымысел для того, чтобы обманчивость была эффективной при сохранении свойства незаметности, а интериоризация сомнительной информации (принятие в персональную и – далее – в коллективную картину мира) в сознании адресата происходила продуктивнее. Л.И. Гришаева отмечает, что для этого из микрочастиц объективной реальности создается своего рода коллаж, не вызывающий когнитивного диссонанса у реципиента, поскольку такой медиафакт является конформным его знаниям, убеждениям и картине мира вообще [Гришаева, 2017, с. 18]. В связи с этим в конструировании искаженного факта мы выделяем следующие фактообразующие принципы: 1) отражение фрагмента действительности – это фактуальная основа; 2) вымысел – это компонент, реализующий цель сообщения; 3) он адаптирован к условиям правдивой реальности таким образом, чтобы не противоречил действительности, с одной стороны, и фактору адресата – с другой; 4) во внешних признаках соблюдается речевая структура реального факта (например, построение сообщения по принципу перевернутой пирамиды, включение заголовка, лида, указание ссылки на источник информации).
Эффективный искаженный факт, коммуникативная цель которого реализуется успешно, обеспечивает неограниченные возможности рекламного и идеологического воздействия, выражающиеся в различных экономических и политических последствиях. В связи с этим разработанные фактообразующие принципы считаем целесообразным использо- вать в качестве основы лингвистической модели при описании прагматического эффекта медиафактов для установления их фальшивого статуса.
Манипулятивный фактоид
В теории речевых актов определены составляющие успешного ложного высказывания [Матвеева, Ленец, Петрова, 2013], которые в терминах медиалингвистики формулируются как 1) новизна и затрудненная вери-фицируемость данных; 2) репутация источника информации; 3) актуальность и значимость медиафакта для аудиторного поля. Эти составляющие обеспечивают реализацию «эффективного потенциала» искаженного медиафакта.
Продуктом вымысла становится факто-ид – имитация факта, содержание которого кажется правдоподобным [Карасик, 2017; Белодедова, 2015]. Фактоид обладает высоким воздействующим потенциалом, эффект от него просчитывается в процессе конструирования и определяется авторской интенцией. Манипулятивными являются интенции ввести в заблуждение аудиторию (дезинформацию), навредить репутации конкретного человека (оговор), закрепить стереотип (миф). Эвристическая интенция помогает восстановить пробелы в информационном нарративе (домысел).
Фактоиды обладают разнообразными эффектами с точки зрения реакции на манипуляцию. Основным потенциалом фактоида, по мнению Г. Антос, является порождение реальных фактов [Antos, 2017, S. 18]. Вместе с тем изучение литературы по данной теме позволило выделить два типа манипулятивного воздействия: манипуляция восприятием и манипуляция поведением реципиента. Первый реализуется, когда адресанту удается сформировать стереотипы и критерии отбора информации в СМИ. Это предпочтение идеологически совместимой информации и игнорирование других точек зрения на действительность. Второй осуществляется, когда эффектами медиафакта становятся решения и поступки адресата, желаемые со стороны автора сообщения, такие как приобретение продукта или услуги, голосование за «нужного» канди- дата на выборах, изменение жизненных привычек и стереотипов поведения.
С лингвистической точки зрения, манипуляция характеризуется имплицитностью, результатом которой является принудительное поведение реципиента, не соответствующее его реальным желаниям. Адресант старается убедить аудиторию поверить ему без доказательств, поэтому адресат часто не осознает подконтрольность своего поведения. Воздействие усиливается за счет сфабрикованных данных в виде фото-, видео-и аудиоматериалов.
Модель лингвистического анализа манипулятивных фактоидов, цель которого состоит не в верификации информации, а выявлении речевых маркеров реальных фактов и вымысла, учитывает фактобразующие принципы и включает следующие элементы: 1) актуальность фактоида в медиапространстве; 2) речевые маркеры соответствия фактоида действительности; 3) элементы вымысла и их коммуникативная цель; 4) речевые маркеры значимости сведений для адресата. Рассмотрим пример:
-
(8) Russia is accused of trying to steal vaccine ideas from the UK, US and Canada (All Out Politics, 16.07.2020) / Россию обвиняют в попытке украсть идеи вакцины у Великобритании, США и Канады (перевод наш. – Н. П. ).
Сообщение (8), рассчитанное на западную аудиторию, появилось в СМИ во время мощной информационной кампании по дискредитации российской вакцины против коронавируса COVID-19. Фактоид включает следующие пропозиции: Россию обвиняют; Россия пыталась украсть идеи вакцины; Великобритания, США и Канада – страны, пострадавшие от действий русских.
Пропозиция «Россию обвиняют» состоит из субъекта и дефокусированного предиката в пассивном залоге, который указывает на то, что обвинитель не установлен. Это является маркером недостоверности информации и подтверждает то, что данный медиафакт – только слух. Вместе с тем пассивный залог здесь указывает на отсутствие необходимости для автора называть источник информации, потому что имплицитно передает идею о том, что «для всех нас это и так очевидно».
Пропозиция «Россия пыталась украсть идеи вакцины» сообщает сенсационную информацию и является ремой в фокусе восприятия. Заслуживает внимания дефокусированный элемент trying (попытка). С одной стороны, он выполняет функцию косвенного обвинения в «попытке кражи». С другой стороны, одним из вариантов имплицитного содержания является то, что западу удалось эту попытку предотвратить. Хотя обвинение в краже результатов разработки вакцины и ее предотвращение взаимоисключающие (анализируемое сообщение датируется 10 июля 2020 г., а информация о клинических испытаниях вакцины от коронавируса в России была известна в начале июня 2020 г.), такой намек важен для западной аудитории с психологической точки зрения, поскольку ей важно ощущать себя частью большой благородной силы, которой кто-то пытается нанести ущерб, обиду, но ему не позволили это сделать. В данном случае проявляется функция самоутверждения и самоутешения нации, когда содержание фактоида направлено на дискредитацию, высмеивание кого-то или чего-то, представленного как нечто враждебное.
Пропозиция «Великобритания, США и Канада – страны, пострадавшие от действий русских» имплицитно составляет тему высказывания – известный аудитории фон включающий, с одной стороны, достоверные данные о том, что развитые страны запада разрабатывают вакцины, которые могут спасти человечество от пандемии, а с другой – предвзятое отношение к России, сформированное более ранними сообщениями в западных медиа, в соответствии с которыми Россия, очевидно, не может создать вакцину сама, однако способна и имеет технические возможности украсть научные данные, вследствие чего Великобритания, США и Канада становятся жертвами таких действий.
Предвзятое отношение представляет собой предпосылку для успешного введения в заблуждение аудитории, на фоне которого любые домыслы кажутся достоверными. Он способствует созданию иллюзии справедливого обвинения вне зависимости от того, появится опровержение или нет. Поскольку речь идет о странах, а не об ученых, то, скорее всего, имеется в виду экономический аспект, то есть, ущерб от продажи вакцин странам, не располагающим ею. Коммуникативная цель данного фактоида состоит в том, чтобы дискредитировать Россию, которая может получить первые контракты на производство вакцины. Такое сообщение является желанным как со стороны западной аудитории, недоумевающей, почему России (имплицитно: «несмотря на отсталость») удалось первой создать общедоступную вакцину от коронавируса, так и со стороны правительств западных стран, вынужденных оправдываться за статус догоняющих.
Развлекательный фейк
Искаженную информацию развлекательного типа мы именуем фейком и определяем как заведомо ложные сведения, которые легко распространяются в Интернете для широкой аудитории, желающей верить вымыслам. Конструирование фейка соответствует указанным выше фактоообразующим принципам с учетом некоторых особенностей. Во-первых, такое сообщение не всегда тесно связано с действительностью, поскольку персуазивный эффект для фейка не является основным. Адаптация содержания к фактам действительности слабая, и вымысел сразу обнаруживается реципиентом. Во-вторых, цель таких сообщений – удивить реципиента, привлечь и удерживать какое-то время его внимание, поэтому они всегда занимательны и интересны аудитории. Фейки могут содержать имитацию тревожности, но, как правило, имеют шуточную тональность. Нередко даются ссылки на светские слухи и сплетни, которые едва ли воспринимаются как надежные источники информации.
При лингвистическом описании фейков необходимо уделить внимание: 1) актуальности сообщения в текущей ситуации действительности; 2) средствам выражения релевантности высказывания потребностям аудитории; 3) речевым маркерам шуточной тональности, позволяющим добиться удивления аудитории, удержания ее внимания и развлекательного эффекта.
Рассмотрим пример фейка с функцией развлечения:
-
(9) Традиционных астрологов ждут тяжёлые времена. Более точный прогноз теперь доступен каждому совершенно бесплатно. Достаточно взглянуть на небо, чтобы узнать, что вас ждёт сегодня. Национальный Географический Союз готовит к выпуску Альманах облачных знаков. Перед вами некоторые из его страниц с описанием. Семицвет: Вы сорвали Джекпот! Ставьте всё на зеро. Выигрыш гарантирован. Королевская стрекоза: Проведите время с родными. Но не более трёх часов. Три друга: Очень велика вероятность получения серьёзной травмы при чихании. Вы можете даже ослепнуть (Lapsha.ru, 7.10.2015).
Текст (9) сопровождается фотографиями облаков на небе, ничем не напоминающих указанные символы. В примере выявляется карикатура на речевой жанр «рекомендации астролога». Автор вводит интригу, упоминая о том, что Традиционных астрологов ждут тяжёлые времена, а затем сообщает читателю «радостную» новость – есть доступный всем способ: Более точный прогноз теперь доступен каждому совершенно бесплатно. Упоминается выдуманная организация как компиляция от реальных названий Национальное географическое общество и Международный географический союз, что, возможно, вводит адресата в заблуждение. Автор фейка эксплуатирует интерес человека к предсказаниям собственной судьбы, ежедневным гороскопам, которые, как известно, являются одной из самых читаемых рубрик. Шутливая тональность достигается с помощью популярного в медийно-политическом типе общения приема введения в заблуждение, который легко поддается декодированию. Предлагаемая информация представляется перманентно актуальной, однако насущной проблематики не содержит. Маркерами шу- точной тональности выступают фотографии, не имеющие отношения к содержанию статьи, нелепые названия символов, которые адресаты должны обнаружить на небе, и очевидно абсурдные их интерпретации. Комический, но иногда негативный прогноз способен выполнить фасцинативную функцию.
Особый интерес пользователей Интернета к информации такого рода привел к созданию специальных цифровых ресурсов, производящих исключительно фейковые новости. Это такие медиапроекты, как американские The Onion, Daily Rain и российские Панорама, Fognews, Hobosti.ru, Lapsha.ru. В условиях современной интернет-коммуникации кликабельные фейковые сообщения эксплуатируют свою игровую фактуру и выполняют релаксирующую функцию, реализация которой становится возможной благодаря удовольствию, получаемому аудиторией от чтения комического контента.
Разграничение фактоидов и фейков
В силу привлекательности категория интересного не всегда позволяет адресату дифференцировать развлекательные фейки и манипулятивные фактоиды. Отметим, что фак-тоид отличается от развлекательного фейка бóльшим прагматическим эффектом. Целью фактоида является не столько удержание внимания реципиента, сколько принуждение его к запрограммированному действию. Сравнение особенностей фактоидов и фейков позволило выявить критерии их разграничения, которые мы представили в виде таблицы.
В качестве критериев сравнения мы выбрали связь с действительностью, качество искажения, авторскую интенцию, реакцию ре-
Критерии разграничения фактоидов и фейков
Criteria for distinguishing between factoids and fakes
|
Критерий |
Фактоид |
Фейк |
|
Связь с действительностью |
Релевантный повестке дня (облигаторно) |
Релевантный повестке дня (факультативно) |
|
Доминирующие концептуальные признаки |
Значимость для адресата Правдоподобность |
Интересность Комичность, абсурдность |
|
Качество искажения |
Искажение не заметно |
Искажение очевидно |
|
Авторская интенция |
Манипулятивная |
Эвристическая, эстетическая |
|
Реакция реципиента |
Действенная реакция Негативные эмоции |
Позитивные эмоции |
ципиента и доминирующие концептуальные признаки. Связь с действительностью является релевантной для фактоида и фейка, хотя для реализации манипулятивной интенции данный фактор представляется решающим. В связи с этим правдоподобность содержания расценивается как максимально возможная, поскольку фактоид должен оставаться в статусе факта как можно дольше. Значимость сообщения для адресата обеспечивает его персуазивность, необходимую для манипулятивного сообщения, которое часто имеет алармистскую тональность. Эти качества создают условия для незаметности искажения. Важным критерием разграничения является реакция реципиента, которая сформулирована журналистом С. Веденьё: «Если вас обманывают, а вы не верите, значит, вас развлекают».
Новости, целенаправленно сконструированные, вброшенные в социальные сети и распространенные внутри них, обладают манипулятивным потенциалом, который, однако, не является очевидным. Такие сообщения часто демонстрируют признаки недостоверной информации обоих прагматических типов (фактоида и фейка). Например:
-
(10) ВНИМАНИЕ!!! По домам ходят люди! в мед- и химкостюмах, говорят, что в вашем доме зафиксирован случай заражения коронавирусом, проходит дезинфекция квартир! Заходят в квартиру, усыпляют газом и выносят все из квартиры. Будьте бдительны, передайте дальше! Сразу на горячую линию и в Росгвардию звонить! Сейчас дети не учатся, все дома! Особенно предупредите их и пенсионеров!!! (N + 1, 08.04.2020).
Пример (10) представляет собой ложное сообщение в социальных сетях о росте преступности во время пандемии коронавируса. Как фактоид сообщение учитывает ситуацию. Для адресата, испытывающего дискомфорт от самоизоляции, оно актуально и достаточно правдоподобно, хотя последнее качество в этом случае не является облигаторным, поскольку в фокусе реципиента находится алармистский характер и высокий уровень эмоциональности сообщения: слова, написанные прописными буквами, многочисленные восклицательные знаки (ВНИМАНИЕ!!!), побудительные предложения, образы беззащитных детей и стариков на фоне угрозы от опасных лично- стей: Сейчас дети не учатся, все дома! Особенно предупредите их и пенсионеров!!! Речевая структура соответствует структуре кратких текстов в социальных сетях, не предполагает распространенных объяснений и дает пищу домыслам: По домам ходят люди! в мед- и химкостюмах. Сообщение является неожиданным, вызывает активные эмоции и заставляет переживать. Это качество в большей степени характерно для фактоида. Коммуникативная задача сообщения – заставить получателя рассылать его дальше и «предупредить остальных». В течение короткого времени здравый смысл приводит к пониманию абсурдности такой новости, но сообщение к тому моменту получает широкое распространение. Трудность в идентификации данного сообщения как развлекательного фейка либо манипулятивного фактоида состоит в определенной степени тревожности, внушаемой подобными сообщениями, и неочевидности абсурда. В итоге несомненными являются и манипулятивный эффект (увеличение интернет-трафика) и развлекательность в результате осознания того, что человек попался на обман. Побочным становится эффект нагнетания панических настроений в обществе с последующим непредсказуемым поведением граждан, то есть потенциальная опасность (активная либо пассивная) для общества. По этой причине, несмотря на признаки развлекательности, считаем важным квалифицировать подобные сообщения как фак-тоиды, которые подпадают под новый закон, упомянутый в начале статьи.
Заключение
В медиалингвистике и лингвистической экспертизе, также как в обыденном дискурсе, слово фейк является основным термином для обозначения недостоверной информации. Вместе с тем в научном дискурсе считаем целесообразным говорить о двух типах недостоверных сведений – фактоидах и фейках – как о сообщениях с противоположными интенциями. Первый является потенциально опасным для социума и подлежит удалению, второй представляет собой развлекательный контент. Выделенные в работе фактообразующие принципы позволили создать лингвистические модели данных феноменов. Модель манипу- лятивного фактоида включает такие элементы, как актуальность сообщения, речевые маркеры соответствия фактоида действительности, элементы вымысла и их коммуникативная цель, а также речевые маркеры значимости сведений для адресата. Модель развлекательного фейка формируется маркерами актуальности сообщения, релевантности высказывания потребностям аудитории и комической тональности. Данные модели мы предлагаем рассматривать в качестве основы для экспертной лингвистической оценки недостоверной информации различных прагматических типов, а также при проведении дифференцированного анализа сообщений, квалифицируемых как фактоид или фейк в медиалингвистическом исследовании. Анализ медийных сообщений, учитывающий разработанные дифференцирующие критерии, представляется полезным в будущем, поскольку существующие процессы конвергенции внутри медийно-сетевого дискурса не оставляют сомнений относительно того, что будут появляться новые гибриды фейков и фактоидов.
Список литературы Фактоид vs фейк: идентификация и модели анализа
- Белодедова А. В., 2015. О фактах и фактоидах в современных журналистских текстах // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. № 24 (221), вып. 28. С. 89-94.
- Ворошилова М. Б., 2016. Лингвистическая экспертиза. Экспертиза конфликтного текста. Екатеринбург : УГПУ 220 с.
- Гришаева Л. И., 2017. «Сказка - ложь, да в ней намек...», или О принципах конструирования политической медиареальности // Политическая лингвистика. № 4. С. 18-27.
- Ефанов А. А., 2020. «Закон о фейковых новостях» с позиций методологической корректности // Информационное общество. № 1. С. 49-56.
- Ильинова Е. Ю., 2008. Вымысел в языковом сознании и тексте. Волгоград : Волгогр. науч. изд-во. 508 с. Карасик В. И., 2017. Языковая пластика общения. Волгоград : Парадигма. 462 с.
- Ленец А. В., 2008. Прагматика лжи. Ростов н/Д : ИПО ПИ ЮФУ 284 с.
- Матвеева Г. Г., Ленец А. В., Петрова Е. И., 2013. Основы прагмалингвистики. М. : Флинта. 232 с.
- Пром Н. А., 2020. Фактуализация реальности в ме-диадискурсе : характеристики, типы, способы выражения. Волгоград : ПринТерра-Дизайн. 188 с.
- Стернин И. А., Шестернина А. М., 2021. Маркеры фейка в медиатекстах. Воронеж : РИТМ. 60 с.
- Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 31-Ф3 «О внесении изменений в статью 153 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"» // Российская газета. URL: https://rg.ru/ 2019/03/20/tehnologii-dok.html
- Antos G., 2017. Fake News. Warum wir auf sie reinfallen. Oder: "Ich mache euch die Welt, so wie sie mir gefällt." Sprachdienst. № 1. S. 1-20.
- Iyengar Sh., Massey D. S., 2019. Scientific Communication in a Post-Truth Society // Proceedings of the National Academy of Sciences. № 116. P. 7656-7661. DOI: 10.1073/ pnas.1805868115
- McBeth M. K., 2011. Is the Fake News the Real News? The Significance of Stewart and Colbert on Democratic Discourse, Politics, and Policy // The Stewart-Colbert Effect: Essays on the Real Impact of Fake News / ed. by А. Amarasingam. North Carolina : McFarland & Co. Р. 79-98.
- McCornack S. A., 1992. Information Manipulation Theory // Communication Monographs. № 59. P. 1-16. DOI: 10.1080/03637759209376245
- Tandoc-jr E. C., Lim Z. W., 2017. Defining "Fake News". A Typology of Scholarly Definitions // Digital Journalism. Vol. 6. P. 137-153. DOI: 10.1080/ 21670811.2017.1360143
- Vizoso A., Vaz-Alvarez M., Lopez-Garcia X., 2021. Fighting Deepfakes: Media and Internet Giants' Converging and Diverging Strategies Against Hi-Tech Misinformation // Media and Communication. Vol. 9, iss. 1. P. 291-300. DOI: 10.17645/mac.v9i1.3494