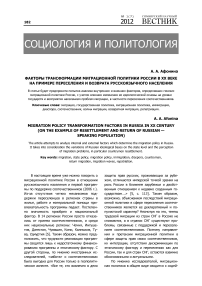Факторы трансформации миграционной политики России в XX веке на примере переселения и возврата русскоязычного населения
Автор: Афонина Анжела Андреевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Социология и политология
Статья в выпуске: 1 (7), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье будет предпринята попытка анализа внутренних и внешних факторов, определявших генезис миграционной политики России, с учетом влияния изменения ее идеологической основы на уровне государств и восприятия населением проблем миграции, в частности переселения соотечественников.
Миграция, государственная политика, миграционная политика, иммиграция, диаспора, соотечественник, волны миграции, возвратная миграция, репатриация
Короткий адрес: https://sciup.org/14113608
IDR: 14113608
Текст научной статьи Факторы трансформации миграционной политики России в XX веке на примере переселения и возврата русскоязычного населения
В настоящее время уже можно говорить о миграционной политике России в отношении русскоязычного населения и первой программы по поддержке соотечественников (2006 г.). Из-за отсутствия четких механизмов поддержки переселенцев в регионах страны в жилье, работе и материальной помощи привлекательность программы падает. Постепенно значимость приобрел и национальный фактор. В 14 регионах России просто отказались от приема соотечественников, и среди них национальные регионы: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Чувашия, Коми, Калмыкия, Тува, Удмуртия [5]. Таким образом, можно предположить, что трудности реализации программы сводятся лишь к недостаточному финансированию программы и этническому фактору. С другой стороны, по мнению иностранных исследователей, «забота» о соотечественниках была выгодна для России только в геополитическом аспекте. «Все те, кто вовлечен в дело защиты прав русских, проживающих за рубежом, отличаются имперской точкой зрения на роль России в ближнем зарубежье и двойственным отношением к недавно созданным государствам….» [5, с. 113]. Таким образом, возможно, объяснением последствий миграционной политики в сфере переселения соотечественников является ее декларативный и популистский характер? Несмотря на это, темпы трудовой миграции из стран СНГ в Россию не снижаются, а в странах СНГ существуют проблемы, связанные с поддержкой и переселением соотечественников. Поэтому направления и претензии миграционной политики в сфере защиты прав своих соотечественников, их интеграции, отсутствия дискриминации по этническому фактору и переселению как для России, так и для стран СНГ, остаются взаимно обоснованными и актуальными.
По мнению исследователей, миграционная политика в общем виде сводится к содей- ствию нежелательной миграции, а с другой стороны — к противодействию нежелательной миграции. Объектом миграционной политики является нормализация общественных отношений, возникающих в сфере миграции населения [10, с. 5]. Существуют различные мнения о том, с какой целью и с учетом каких факторов проводится та или иная миграционная политика. В. И. Переведенцев в своих работах повторяет: чтобы выяснить факторы миграции, надо установить причины, заставляющие людей переселяться. Смешение данных понятий наблюдается не однажды. В. Г. Костаков предлагает понимать под причинами миграции наличие свободных рабочих мест, а под факторами — более высокий уровень жизни, лучшие природно-климатические условия.
В общем виде к основным факторам, определяющим направление миграционной политики, относят: внутренние и внешние; экономические, политические, идеологические, демографические, социально-психологические и т. д. По мнению исследователей, миграцию соотечественников нужно относить к типу возвратной миграции населения.
Возвратная миграция — вид международной добровольной миграции на постоянное место жительства, как стимулируемый, так и не стимулируемый принимающим государством, при котором переселение происходит в государство происхождения лиц, ранее эмигрировавших из него, а также потомков этих лиц, в основе которого может лежать упрощенный порядок предоставления гражданства или вида на жительство [9, с. 8]. В зависимости от степени участия государства в процессе возвратной миграции предлагается следующая типология: стимулируемая, не-стимулируемая (возвратная).
Стимулируемая возвратная миграция имеет место при наличии определенных государственных программ по увеличению данного миграционного потока (Израиль, Греция, Германия, Казахстан, Российская Федерация).
Нестимулируемая ( декларативная ) возвратная миграция имела место в Российской Федерации до появления государственной программы содействия возвращению соотечественников.
Своеобразной формой иммиграции является репатриация (от лат. «repatriatio» — «возвращение на родину»), или возвращение на родину и восстановление в правах гражданства эмигрантов из той или иной страны — ее бывших граждан или же представителей населяющих ее народов.
Стимулирование возвратной миграции имеет несколько вполне конкретных целей:
-
а) Гуманитарная. Возвратная миграция применяется для оказания помощи соотечественникам за рубежом, испытывающим гонения либо какие-то виды дискриминации;
-
б) Демографическая . Возвратная миграция активно используется для компенсации естественной убыли населения, как и любой другой вид миграции на постоянное место жительства;
-
в) Экономическая. Примером использования возвратной миграции для решения кадрового дефицита является государственная программа по оказанию содействия добровольному возвращению соотечественников в Россию, проживающих за рубежом.
В настоящее время возвратная миграция в Россию представляет собой территориаль-но-стимулируемую [8, с. 495].
Итак, выделяют четыре волны исхода русских из России.
Первая волна (1918—1922) — военные и гражданские лица, бежавшие от победившей в ходе революции и Гражданской волны советской власти, а также от голода.
Вторая волна (1941—1944) — лица, перемещенные за границы СССР в ходе Второй мировой войны и уклонившиеся от репатриации на родину («невозвращенцы»).
Третья волна (1948 — 1989/1990) — это, по сути, вся эмиграция периода «холодной войны».
Четвертая волна (1990 — по настоящее время) — это, по сути, первая более или менее цивилизованная эмиграция в российской истории.
Эмиграция из большевистской России, по разным оценкам, составляла от 1,5 до 3 млн человек. Основными историческими периодами стали поражения Белой Армии на Северо-Западе. После поражений на Востоке другой очаг эмиграционной диаспоры (примерно в 400 тыс. чел.) образовался в Маньчжурии с центром в Харбине. Около 35 тысяч российских эмигрантов (преимущественно военных) были расселены по различным, главным образом балканским странам: 22 тысячи попали в Сербию, 5 тысяч — в Тунис (порт Бизерта),
4 тысячи — в Болгарию и по 2 тысячи — в Румынию и Грецию. Данный тип территори-ально-стимулируемой миграции был призван решить ряд государственных задач. Несмотря на ощутимую азиатскую часть, первую эмиграцию можно без преувеличения обозначить как преимущественно европейскую. Вопрос об ее этническом составе не поддается количественной оценке, но и заметное преобладание русских и других славян достаточно очевидно. Эмиграция на этом этапе не опиралась на закон, но была результатом безвластия или произвола новой власти, ее случайных конъюнктурных соображений [1, с. 188]. Основным фактором такой миграции стал политический, который, по нашему мнению, можно подразделить на пропагандистский, охранительный и колонизационный. К охранительному фактору миграционной политики можно отнести статистически ничтожную, но политически «громкую» эмиграционную акцию Советской России — депортацию ученых гуманитарного профиля в 1922 году для сохранения таких категорий, как монархизм, сословность, церковность и частная собственность. Пропагандистский фактор определяет то, что значительное количество граждан направлялось нелегально для разжигания «поддержки революционного пролетариата» в другие страны. К колонизационному фактору, возможно, следует отнести тот факт, что социализм виделся Ленину обществом, которое «гигантски ускоряет сближение и слияние наций». Ради скорейшего достижения этой цели от русской нации требовалось возместить другим нациям «то неравенство, которое складывается в жизни фактически».
В советский период можно говорить приблизительно о 5,45 млн гражданских лиц, так или иначе перемещенных с территории, принадлежавшей до войны СССР, на территорию, принадлежавшую или контролировавшуюся до войны Третьим Рейхом или его союзниками. Факторами миграционной политики в годы второй волны эмиграции стало господство тоталитарного режима, который сам регулировал передвижение населения как внутри страны, так и за ее пределы, используя для этого различные методы, включая массовое насилие [1, с. 8]. Таким образом, официальная позиция режима была во многом созвучна массовому сознанию, неодобрительно относившемуся к эмиграции. На этом культурном фоне попытки покинуть пределы страны рассматриваются как предательство, измена, переход в другую общность, заведомо враждебную нашей. Вопросы репатриации и свободной миграции не рассматривались. Идеологический фактор стал одним из основных при проведении миграционной политики. Основу послевоенной сталинской политики составляла все та же идея расширения и углубления социалистической революции путем вовлечения в орбиту революционного движения все большего числа государств и народов.
Третья волна (1948—1986) — это, по сути, вся эмиграция периода «холодной войны», периода между «поздним» Сталиным и «ранним» Горбачевым. Количественно она укладывалась приблизительно в полмиллиона человек, т. е. близка результатам «второй волны». Качественно же она состоит из двух весьма непохожих слагаемых: первое составляют не вполне стандартные эмигранты — принудительно высланные («выдворенные») и перебежчики, второе — «нормальные» эмигранты, хотя «нормальность» для того времени была вещью настолько специфической и изнурительной». По нашему мнению, данный период, в отличие от предыдущих, выявил ту закономерность в трансформации российской миграционной политики, что с уменьшением влияния господства жесткой политической власти и насилия определяющим становится субъективный фактор и рост национализма. Русскоязычные народности постепенно вытесняются, появляется негативное отношение ко всем достижениям СССР. Одним из основных внутренних факторов, определившим в итоге ход миграционной политики, стало в 1950-е годы движение депортированных народов за предоставление конституционных прав и появление диссидентских настроений в обществе. Однако долгое время власть не учитывала данные факторы, поэтому на повестке дня стояли основные факторы миграционной политики, такие как строительство новых городов, индустриализация, заселение определенных районов. Остальные же факторы стали корректировать политику власти, но уже с запоздалым эффектом.
Таким образом, в СССР миграционная политика, поскольку фактически отсутствовали внешние миграции, была сосредоточена на внутренних переселениях, которые регулиро- вались размещением производительных сил и дифференциацией условий жизни (в основном уровня заработной платы). Другим фактором, определившим ход и итоги миграционной политики в этот период, стало строительство городов. Государство при этом опиралось на неосновательность ценностей мигрантов, решающих свои проблемы на экстенсивной основе, на ограниченное стремление осваивать и благоустраивать свою территорию. С другой стороны, рост самосознания народов, этносов приводил к усилению сопротивления российской колонизации-миграции. Поворотной точкой, очевидно, можно считать неудачную попытку подчинить Афганистан. Стагнация городов укрепляет элементы консервативности, патриархальности, национальной и этнической обособленности, «удобряя» тем самым почву для национальных конфликтов [1, с. 86].
Также только к 1983 году руководство страны осознало необходимость значительного повышения самостоятельности предприятий в области планов, заработной платы и технического перевооружения. По мнению специалистов, оценивавших в начале 1987 года итоги широкомасштабного эксперимента, он был задуман в правильном направлении, но сдвиг, происшедший в результате принятых мер, не был радикальным, поскольку не произошла реальная переориентация хозяйственного механизма на экономические методы управления [7, с. 81]. По мнению исследователей, начиная с 50-х гг. в СССР формировалась теневая экономика. По А. Каценелин-бойгену, в итоге сформировался своеобразный антирыночный клановый капитализм — социально-экономическая система, в которой противоборствующие кланы осуществляют погоню за прибылью рентоискательскими методами. Возможно этим объясняется и тот факт, что после принятия Конституции ситуация в межнациональных отношениях не менялась к лучшему и в других регионах страны. Именно в такой среде постепенно формируются и переплетаются между собой мафиозные кланы, «опекающие» разного рода «теневиков» и «цеховиков», и националистические организации (всегда связанные с западными спецслужбами). Весьма характерно, что чем больше та или иная национальная республика неоправданно потребляла за счет ресурсов русского народа, тем сильнее были ее мафиозные и националистические организации (Грузия, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Эстония).
Четвертая волна миграции (с 1990 года по настоящее время) явилась следствием третьего этапа. Формирование миграционной политики в сфере взаимодействия и переселения соотечественников на данном этапе, по нашему мнению, можно свести к влиянию следующих факторов: геополитический, демографический, экономический и идеологический.
В конце 80-х — начале 90-х годов относительно стабильная картина миграционных потоков на пространстве бывшего СССР существенно изменилась — миграция приобрела вынужденный характер.
Вопросы о репатриации соотечественников решались неэффективно вследствие того, что к 2000 году в стране «зависли» в правовом отношении порядка 3 млн чел., они долгое время работали в России, но так и не могли получить гражданство. Субъективный фактор в принятии решения о переезде в данный момент сыграл важную роль. По данным обследований, проведенных в 1999 году Институтом стран СНГ в Казахстане и Киргизии, «во-первых, в кругу причин, обусловливающих выбор соотечественников в пользу “принимающей страны” преобладают семейно-бытовые факторы, и, во-вторых, отсутствуют факторы, говорящие о позитивной оценке социально-политического положения российской диаспоры в странах СНГ» [4, с. 41]. Нечеткость российской позиции привела к усилению диктата со стороны властей СНГ. Тем временем правящие элиты новых государств стремились «порвать остатки нитей, связывающих их с Москвой, и обрести уверенность полноправного хозяина, бая, гетмана на суверенной территории» [4, с. 30].
С начала 2000 года особую важность приобретает экономический и идеологический факторы. Либерализация в России и странах СНГ также привела к трансформации миграции и экономики. Постепенно миграционная и экономическая политики, по мнению автора, стали взаимообусловленными. Вплоть до 2000—2001 гг. экономические и инвестиционные отношения между странами СНГ усиливались, но не достигли нужных институциональных форм. Существовали примеры интереса иностранных компаний (в том числе и России) к сохранению неэффективности этих институтов [6, с. 71]. Зачастую успех в реализации экономических мер мог стать залогом взаимовыгодных действий и в других направлениях политики стран СНГ. В этот период благожелательная к мигрантам в 1990-х гг. политика в 2001—2002 гг. приобрела запретительный характер [10, c. 5]. Особое значение в России приобрело выстраивание «вертикали власти» к середине первого десятилетия, кардинально трансформировавшее политическое и информационное пространства, что не могло не сказаться на специфике обсуждений проблем миграции и миграционной политики. В результате проблемы миграционной политики были возведены в ранг проблемы национальной безопасности. Вследствие этого в 2002 году ФМС была включена в структуру Министерства внутренних дел, который не имел никакого опыта управления миграцией. В результате усложнения геополитической обстановки между странами и усиления демографического кризиса в стране миграционная политика этого периода стала еще одним из барьеров на пути еще стремящихся к переселению бывших соотечественников и лишила перспектив для получения российского гражданства тех, кто уже приехал раньше [3, с. 69].
В период с 2006 по 2010 гг. в результате сложившегося негативного отношения к трудовой миграции, нерешенных вопросов демографии и неравномерного демографического распределения по территории страны власти вновь задумались об использовании механизмов репатриации. К 2006 году свою роль сыграло и экономическое лобби, требовавшее притока рабочей силы. Предполагалось, что с 2007 года по 2009-й будут переселены 150 тыс. человек. Всего же за все годы реализации Госпрограммы в Россию переселилось чуть более 20 тыс. человек (по последним данным) [4, с. 11]. Выяснилось, что не все правовые акты соответствовали потребностям и возможностям регионов России и, главное, самих соотечественников.
На ход программы также продолжают оказывать сильное влияние геополитические факторы. В ряде стран СНГ существуют барьеры для распространения информации, создания каналов по работе и поддержки российских соотечественников. По мнению ис- следователей, более важным акцентом в миграционной политике России должна стать диаспоральная политика. «Диаспоральная политика Российской Федерации, направленная на интеграцию российской диаспоры в политический процесс ближнего зарубежья, должна акцентироваться в странах, где сохраняется такая возможность: Казахстане, Киргизии, Молдове, Украине. Распространение этих усилий на другие регионы постсоветского пространства малопродуктивно» [3, с. 195].
Итак, можно сделать выводы о том, что основными факторами как первой, так и второй волн миграции, были всё же в большей степени политические факторы.
Анализ ситуации, позиций работодателей, иммигрантов и Правительства Российской Империи, в том числе различных ведомств, входивших в его состав, а также региональных властей показывает, что проблемы, присущие миграционной ситуации в тот период, в определенной степени аналогичны современным. Так же как и в настоящее время, конъюнктурные и ведомственные интересы в значительной мере определяли политику в отношении иностранной миграции. В ходе реализации дореволюционной переселенческой политики был накоплен не только большой практический опыт, но и были определены концептуальные подходы регулирования миграции в России, главными из которых были: концепция волновых, поэтапных переселений; концепция подбора районов выхода и вселения; концепция подбора состава переселенцев. Но не был продуман механизм репатриации русскоязычного населения.
В годы второй волны эмиграции господство тоталитарного режима само регулировало передвижение населения как внутри страны, так и за ее пределами, используя для этого различные методы, включая массовое насилие. Использование идеологического фактора повлияло на массовое сознание, сформировав неодобрительное отношение к эмиграции. Основу послевоенной сталинской политики составляла все та же идея расширения и углубления социалистической революции путем вовлечения в орбиту революционного движения все большего числа государств и народов.
По нашему мнению, причины третьей волны миграции, в отличие от предыдущих, заключались в усилении субъективного фактора, роста национализма и диссидентства. Однако долгое время власть не учитывала данные факторы, поэтому на повестке дня стояли основные факторы миграционной политики, такие как строительство новых городов, индустриализация, заселение определенных районов. Указанные же факторы привели к корректировке миграционной политики власти, но уже с запоздалым эффектом. Формирование миграционной политики в сфере взаимодействия и переселения соотечественников на данном этапе, по нашему мнению, можно свести к влиянию следующих нескольких факторов, которые отвечают учету как внешней, так и внутренней потребности государства. Однако, по нашему мнению, власть в большей степени уделяет внимание решению миграционных вопросов, пропагандируя ту или иную политику, либо оправдывая ее, тем самым упуская решение практических задач.
-
1. Ахиезер, А. С. Эмиграция как индикатор состояния российского общества / А. С. Ахиезер // Мир России. 1999. № 4. С. 168—185.
-
2. Ивахнюк, И. В. Перспективы миграционной политики России. Выбор верного пути / И. В. Ивахнюк // Перспективы миграционной политики России: выбор верного пути. М. : МАКС Пресс, 2011. С. 127.
-
3. Интеграция российской диаспоры в политический процесс стран СНГ / Ин-т диаспоры и интеграции (Ин-т стран СНГ). М., 2010. С. 200.
-
4. Градировский, С. Н. Репатриация и трудовая миграция в России / С. Н. Градировский. Режим доступа: http://www.baromig.ru/experts/ stati-o-migratsii/repatriatsiya-i-trudovaya-migratsiya-v-rossii-gradirovskiy-s-n.php (дата обращения: 23.03.2012).
-
5. Ларюэль, М. «Русская диаспора» и «российские соотечественники» / М. Ларюэль // Демократия вертикали. М., 2006. С. 109—123.
-
6. Либман, А. М. Взаимодействие государства и бизнеса на постсоветском пространстве: возможности и риски / А. М. Либман // Общественные науки и современность. 2005. № 4. С. 63—74.
-
7. Нуреев, Р. М. Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ) / под ред. Р. М. Нуреева. М. : Московский общественный научный фонд, 2001. С. 245.
-
8. Рязанцев, С. В. Расселение и миграция русских в России / С. В. Рязанцев ; под ред. Г. В. Осипова, В. В. Локосова. М. : ЗАО «Изд-во «Экономика», 2007. С. 6—15.
-
9. Сандугей, А. Н. О сущности миграционной политики Российской Федерации на современном этапе ее развития / А. Н. Сандугей // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2008. № 4. С. 3—10.
-
10. Файзуллина, А. Р. Миграционная политика в современной России: федеральный и региональный аспекты : автореф. дис. … канд. полит. наук / А. Р. Файзуллина. Уфа, 2007. С. 8.
Список литературы Факторы трансформации миграционной политики России в XX веке на примере переселения и возврата русскоязычного населения
- Ахиезер А. С. Эмиграция как индикатор состояния российского общества/А. С. Ахиезер//Мир России. 1999. № 4. С. 168-185.
- Ивахнюк И. В. Перспективы миграционной политики России. Выбор верного пути/И. В. Ивахнюк//Перспективы миграционной политики России: выбор верного пути. М.: МАКС Пресс, 2011. С. 127.
- Интеграция российской диаспоры в политический процесс стран СНГ/Ин-т диаспоры и интеграции (Ин-т стран СНГ). М., 2010. С. 200.
- Градировский С. Н. Репатриация и трудовая миграция в России/С. Н. Градировский. Режим доступа: http://www.baromig.ru/experts/stati-o-migratsii/repatriatsiya-i-trudovaya-migratsiya-v-rossii-gradirovskiy-s-n.php (дата обращения: 23.03.2012).
- Ларюэль М. «Русская диаспора» и «российские соотечественники»/М. Ларюэль//Демократия вертикали. М., 2006. С. 109-123.
- Либман А. М. Взаимодействие государства и бизнеса на постсоветском пространстве: возможности и риски/А. М. Либман//Общественные науки и современность. 2005. № 4. С. 63-74.
- Нуреев Р. М. Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ)/под ред. Р. М. Нуреева. М.: Московский общественный научный фонд, 2001. С. 245.
- Рязанцев С. В. Расселение и миграция русских в России/С. В. Рязанцев; под ред. Г. В. Осипова, В. В. Локосова. М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2007. С. 6-15.
- Сандугей А. Н. О сущности миграционной политики Российской Федерации на современном этапе ее развития/А. Н. Сандугей//«Черные дыры» в российском законодательстве. 2008. № 4. С. 3-10.
- Файзуллина А. Р. Миграционная политика в современной России: федеральный и региональный аспекты: автореф. дис.. канд. полит. наук/А. Р. Файзуллина. Уфа, 2007. С. 8.