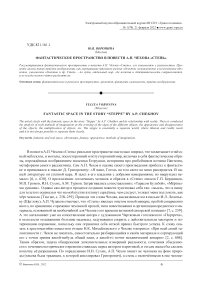Фантастическое пространство в повести А.П. Чехова «Степь»
Автор: Воронина Юлия Владимировна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (78), 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается фантастическое пространство в повести А.П. Чехова «Степь», его взаимосвязь с реальностью. Проведён анализ таких приёмов воображения, как скрещивание признаков разных объектов, возникновение и исчезновение объектов, умножение объектов и др. Степь - по сути, отдельный мир, где иллюзия и действительность соприкасаются, и не всегда можно чётко разделить их.
Фантастическое и реальное пространство, хронотоп, фантазия, кажимость, приёмы воображения
Короткий адрес: https://sciup.org/148324021
IDR: 148324021 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Фантастическое пространство в повести А.П. Чехова «Степь»
В повести А.П. Чехова «Степь» реальное пространство настолько широко, что захватывает и звёздный небосклон, и могилы, посюсторонний и потусторонний мир, включая в себя фантастические образы, порождённые воображением мальчика Егорушки, историями про разбойников возчика Пантелея, метафорами самого рассказчика. Сам А.П. Чехов в оценке своего произведения прибегал к фантастике и признавался в письме Д. Григоровичу: «Я знаю, Гоголь на том свете на меня рассердится. В нашей литературе он степной царь. Я залез в его владения с добрыми намерениями, но наерундил немало» [6, с. 630]. О преломлении гоголевских мотивов и образов в «Степи» писали Г.П. Бердников, М.П. Громов, И.Н. Сухих, А.М. Турков. Затрагивались сопоставления с «Тарасом Бульбой», «Мёртвыми душами». Однако сам автор в процессе создания повести чувствовал себя так: «мысль, что я пишу для толстого журнала и что на мой пустяк взглянут серьёзнее, чем следует, толкает меня под локоть, как чёрт монаха» [Там же, с. 258–259]. Приводя эти слова Чехова, высказанные им в письме И.Л. Леонтьеву (Щеглову), А.П. Чудаков отмечает, что «Степь» явилась опытом новой манеры, пробой совершенно иного, по сравнению с прежнею чеховской прозой, типа повествования и организации предметного материала, основанной на необычайной для Чехова того времени активной авторской позиции» [7, с. 259]. А это наталкивает уже на сопоставление автора с художником Чартковым гоголевского «Портрета», в молодости подававшим большие надежды, задумавшим спорить с действительным мастером и потерпевшим поражение, поскольку сам ограничил себя сеткой правил быстрого успеха. К слову сказать в хрестоматийно известном отзыве Н.К. Михайловского о Чехове говорится: «При всей своей талантливости г. Чехов не писатель, самостоятельно разбирающийся в своём материале и сортирующий его с точки зрения какой-нибудь общей идеи, а какой-то почти механический аппарат» [2, с. 606]. Таким образом, задача обнаружения дополнительных измерений реальности, сочетания обыденности с течением исторического времени ставилась перед автором и критикой, и он сам желал бы сделать попытку её разрешения. По определению И.Н. Сухих, А.П. Чехов пишет не человека на фоне природы (такова была традиция, к которой апеллировал Григорович), а степь с включёнными в нее челове- ческими судьбами, пишет не “жанр”, а “пейзаж”» [5, с. 126]. В помощники себе автор избирает острый детский взгляд мальчика Егорушки на всё происходящее с ним и со степью в его путешествии к месту будущего обучения. В некотором смысле он проходит подготовительные курсы к жизни, а автор, через его восприятие, приобретает дополнительные измерения художественного мира.
В самом начале произведения, когда знакомые с детства герою места остаются позади (он ведь едет учиться, а значит, нескоро вернётся в родные края), мальчик вспоминает, как выглядит кладбище во время цветения и созревания вишни. Сразу перед глазами встают кресты и памятники, которые «мешаются с вишневыми цветами в белое море; а когда она спеет, белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, как кровь, точками» [Там же, с. 14]. Да, образы приходят из реальности, тут действует скорее память, а не фантазия. Однако действительность реальных впечатлений сливается с мёртвым сном бабушки и отца мальчика. Над кладбищем поднимается дым от кирпичных заводов. Осыпает «красной пылью» людей и лошадей. В личном восприятии Егорушки цветы вишни превращаются в целое море (здесь мы видим проявление такого приёма воображения, как превращение части в целое), а ягоды похожи на капли крови, сращиваясь с красной пылью заводов, цветные грёзы мальчика рисуют жуткую картину самоистребления людей, вторжения кладбища в окружающее пространство. Мальчик помнит и о глазах любимой бабушки, которые и после смерти не хотели закрываться, и их закрыли «двумя пятаками». Как бы отделяясь от смертного тела, глаза остаются соглядатаями посюстороннего мира. Красный цвет знаковым признаком плывёт в пространстве степи. Егорушка одет в кумачовую рубаху, бричку обступает свора огромных овчарок «с красными от злобы глазами», готовых «изорвать в клочья и лошадей, и бричку, и людей» [6, с. 19]. Любопытно, что мальчик переживает при этом не страх, а полноту ненависти по отношению к собакам. Конечно, красноватый отблеск будущей русской истории первым читателям «Степи» было трудно разглядеть. В гоголевском «Портрете глаза страшного ростовщика претендуют на весь мир: “Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз”» [1, с. 101].
У Чехова безграничным расширением обладает степь. Пространство, которое напоминает о каких-то значимых событиях в жизни человека, уже не может являться объективной и беспристрастной реальностью. На протяжении всего произведения действительность тесно взаимодействует с иллюзией (которая, в свою очередь, порождена субъективными впечатлениями), одно переходит в другое, а границы порой совсем размыты, почти невидимы. Слово «казаться» в его разных формах употребляется очень часто, и это неслучайно.
Пространство степи кажется довольно однообразным и унылым: повсюду лишь небо, равнина, холмы. Даже деревья и птицы представляются несчастными, достойными сочувствия: автор становится на место коршуна, который будто задумывается о скуке жизни, задаёт вопрос, счастлив ли тополь, красивый и обреченный на одиночество. Коршун и тополь обретают человеческие чувства, окружающее пространство неизменно влияет на них. Из простых обитателей степи, бессловесных и бездушных, они становятся почти людьми, словно сказочные персонажи, наделённые голосами и мыслями. Степь одновременно и принадлежит действительности, и порождает иллюзии. Над ней царит невидимая гнетущая сила, которой пытается противостоять так же невидимый дух степи. Ещё до грозы показано её предчувствие. Поднимается ветер, и в воздушном поединке сцепляются два перекати-поля.
Вот стоит мельница – и уже превращается в маленького человечка, машущего руками, который словно бежит от брички, и до него невозможно доехать. Однообразие пространства влияет на растяжимость времени, которое идёт медленнее, чем обычно. Сама степь становится бесконечной, она будто сливается с горизонтом. Егорушка, не проехав и десяти верст, устаёт и утомляется. Уже позже мельница приближается, потом вырастает до невероятных размеров, что можно в деталях рассмотреть оба её крыла, а затем и вовсе уходит влево и не исчезает с поля зрения, не отстаёт. Эти преображения характеризуются как колдовские, непонятные для простого обывателя, могущего принять оптическую иллюзию за настоящее волшебство.
Во время привала странности продолжаются: Егорушка внезапно слышит женское пение, но не может определить, откуда конкретно раздаётся голос. Песня слышится «то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел» [6, с. 24]. Голос невидимой женщины, хоть и звучит достаточно тихо, охватывает всё пространство сразу, включая наземную и подземную области. Мальчику уже начинает казаться, что трава поёт о своей несчастной судьбе (ранее уже встречались размышления о несчастье тополя, теперь же читатель должен прислушаться и к меньшим созданиям). Звук будто влияет на атмосферу в целом: даже воздух становится «душнее, жарче и неподвижнее» [Там же]. Однако недаром автор делает акцент на слово «казаться», ведь мы видим все происходящие изменения в пространстве сквозь призму девятилетнего мальчика, у которого очень богатое воображение, не испорченное взрослыми серьёзными делами (ранее приводится пример его дяди, который даже во сне видит свои постоянные заботы и хлопоты). Иллюзия проникает в действительность и влияет на неё, изменяя при этом не саму реальность, а то, какой её видит Егорушка. Песня травы, конечно, принадлежит реальной женщине из посёлка. Звучит она столь заунывно и томительно, что снова будто останавливает время. Один ещё не окончившийся день превращается в сто лет (здесь происходит превращение локального хронотопа в глобальный). Границы сознания мальчика расширяются до высших сил, управляющих миром, и всплывает вопрос: «Не хотел ли бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в этом воздухе и, как холмы, окаменели бы и остались навеки на одном месте?» [6, с. 26]. Всё это наводит на мысль об окаменевших богатырях былины «Камское побоище», где изображено поражение русских витязей, хотя и перебивших несчётное число врагов. Влияние звука на фантастическое пространство (пространство так называемого «замершего времени») очевидно. Неведомая гнетущая сила царствует над степью, сама природа покоряется ей, воздух застывает, и только жалостливые песни встревоженных чибисов слышатся в отдалении.
Постоялый двор, где останавливаются герои, кажется неуютным и тёмным местом, где пахнет чем-то затхлым и кислым. Кажется, эту тьму не способен развеять даже десяток ламп. Эта тьма и гнилой противный запах удручает мальчика, который хочет погрузиться в сон, но не может. Вспоминается героиня рассказа «Спать хочется», нянька Варька, наказанная лишением сна и видевшая перед собой двоящиеся и качающиеся предметы. В полусне Егорушка следует за хозяином двора в комнатку, где противные запахи кажутся гораздо острее. Примечателен момент, где из-под одеяла на кровати выглядывают дети Моисей Моисеича, и говорится, что «Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра» [Там же, с. 39]. Получается, что некоторые вещи мы видим не сквозь призму восприятия мальчика, а так, как рассказчик (человек с богатой фантазией) их описывает. Однако, заявление рассказчика бумерангом возвращается и к нему: он человек не серьёзный, а взрослый, могущий думать о стоглавой гидре с детскими головами, уместившейся под одним одеялом. Так что, сравнение голосов пары евреев с индюшачьими или же вопросы о счастье или несчастье тополя, принадлежат взаимодействию точек зрения повествователя и ребёнка. Рассказчик преобразует окружающее пространство по своей воле и пронизывает собственными ассоциациями, при этом трудно отделить его впечатления от иллюзий мальчика. Н.А. Николина справедливо полагает, что в основе организации повествования в «Степи» лежит «взаимодействие и переплетение разных субъектных планов, доминирующими среди которых являются план повествователя и план Егорушки» [4, с. 108].
Когда на постоялый дом пребывает графиня Драницкая, она кажется Егорушке чёрной птицей, которая у самого лица машет крыльями (ранее брат Моисей Моисеича, Соломон, представлялся ему нечистым духом из-за своей странной улыбки). Обратим внимание, что все перечисленные образы приходят к мальчику также в состоянии полусна. Из птицы графиня на миг превращается в тополь, во всяком случае, у мальчика возникают ассоциации с одиноким стройным деревом, увиденным им ранее в степи.
Рассказчик позже подмечает, что в темноте всё представляется не таким, какое оно есть на самом деле. Куст или камень может вмиг обратиться то монахом, то разбойником (подчёркивается, что от неизвестности никогда не знаешь, что можно ожидать – положительный образ превращается в отрицательный, А в не-А). Фигуры, созданные воображением, выглядят похожими на монахов и подозрительными, причём становятся гораздо более мрачными, когда исчезает мгла и всходит луна. Так, на фоне приходящей реальности они представляются наиболее ирреальными. Глаз уже привык к окружающей мгле и к тому, что эти фигуры – не просто кусты или камни. Когда луна подчеркивает их ирреальность, мы не желаем признавать её, и наше воображение делает подобные вещи более мрачными, чем они были в тумане, чем они есть на самом деле. Тёмные вещи отчётливее смотрятся на светлом фоне ночи и пугают больше, чем во мраке. Причудливые образы поражают воображение, на ум приходят старые легенды, а потом страх переходит в неожиданное торжество жизни, в радость и желание «лететь над степью вместе с ночной птицей». И вновь душу поражают противоречивые чувства: «в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира». Тоска в счастье, отголоски грусти в торжестве и радости, – всё это свойственно и в обычном ходе жизни, но отчётливее ощущается, когда человек остаётся в большом пространстве практически наедине с собственными мыслями. Егорушка и рассказчик не могут поделиться своими размышлениями ни с кем, кроме читателей. Когда остаёшься наедине с собой, воображение и фантазия берут верх над повседневными размышлениями. Реальность способна меняться даже от смены угла зрения: когда мальчик перемещается на обоз, небо кажется близким, а земля далекой.
«Сказочные мысли» снова посещают Егорушку, когда однажды утром он просыпается и видит, что местность поменялась. Даже солнце кажется ему находящимся «не на своём месте». Он движется вместе с возами и пробуждаются окаменевшие богатыри, будто бы «на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника и что еще не вымерли богатырские кони» [6, с. 48]. Воображение мальчика рисует колесницы с дикими лошадьми, управляемые необыкновенными людьми. В то же время, эта картина чётко отделена от реальности, подмечается, что степи бы подошли такие колесницы, если бы существовали на самом деле. Таким образом, не всегда границы между действительным и фантастическим пространством размыты.
В повести появляется ещё один герой, который, кроме окружающей реальности, видит ещё и другой мир, никому больше не доступный. Вася, один новых попутчиков Егорушки, человек с маленькими серыми глазками, обладает очень острым зрением и способен заметить играющую лисицу, расправляющих крылья стрепетов. Да, это его пространство может существовать в реальности, но оно всё равно находится за пределами видимости других людей, которые могут только вообразить, что же на самом деле наблюдает Вася. Реальное для одного становится фантастическим для всех окружающих, и вновь всё зависит от точки зрения конкретного человека. Чуть позже Вася и сам отождествляется с животным, в эпизоде, где он есть сырую рыбу (происходит сращивание признаков различных объектов).
Как уже было замечено, в основном фантастическое пространство порождается тогда, когда герой остаётся наедине с собой. Глядя в ночное небо, мальчик вновь вспоминает покойную бабушку, и его воображение снова начинает работать. Бабушка умирает во второй раз, живые превращаются в мёртвых. При этом самого себя Егорушка не может представить покойником, и ему кажется, что он никогда не умрёт. На изменение пространства влияет и само окружение: мрачные во тьме кресты и люди, рассказывающие страшные истории. Рассказчик подтверждает наши мысли о размытии границ между иллюзией и реальностью: «фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью». Истории, рассказанные людьми, также создают и дополняют степное пространство.
В особенно эмоциональные моменты окружающая реальность преображается. Так, когда Егорушка злится на одного из своих попутчиков, Дымова, всё вокруг представляется ему страшным, жутким, нелюдимым. Вновь внутреннее ощущение влияет на внешнюю действительность. И это чувствует не только Егорушка. Подводчики словно предвидят какое-то несчастье, судя по их поведению и разговорам. Возможно, они таким образом предчувствовали грядущую грозу или же нечто, что осталось за пределами повествования. Во время ненастья пространство тоже преображается: тучи, похожие на лохмотья, угрожающе надвигаются, всё погружается во тьму, мир пронизан ощущением страха. Снова мы видим приём олицетворения (или же сращивание признаков различных объектов), перекати-поле, бегущее прочь от молний, наделяется человеческими чувствами, тоже будто боится грозы. На тёмном фоне молнии кажутся белее и ослепительнее, чем есть на самом деле. Опять подмечается контраст между светом и тьмой, как в случае описания мрачных фигур, вот только там окружающее пространство было светлым, а предметы в нём тёмными, здесь же всё наоборот. В конце концов, небо будто раскалывается (как здесь не вспомнить суеверный страх грозы). Гром и молния вместе создают зловещую атмосферу, захватывающую, парализующую, заставляющую закрыть глаза и ждать, пока всё не кончится. Однако у молнии «колдовской свет» (ещё одно указание на волшебство, ирреальность происходящего), проникающий сквозь закрытые веки. И стоит нечаянно открыть глаза – увидишь людей «громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелою поступью». Егорушка неоднократно предупреждает своих спутников о неких «великанах», преследующих обоз с неведомыми целями, но те будто не замечают ничего необычного, продолжая свой путь. Возможно, это был всего лишь сон Егорушки, едва различимый с явью (позже обозчик Пантелей спрашивает мальчика, не уснул ли он). В этом фрагменте границы между реальностью и кажимостью, между действительным и фантастическим, практически стёрты, непонятно, что происходит на самом деле, а что – в бурном воображении. «Великаны», то появляющиеся, то пропадающие – яркий пример такого приёма, как возникновение объектов из ничего и исчезновение их в никуда. В другом эпизоде, когда перед глазами Егорушки мальчик Тит вырастает и превращается в мельницу, а отец Христофор в полном облачении ходит и кропит эту мельницу святой водой, герой прекрасно осознаёт, что это бред. Таким образом, как уже говорилось ранее, иногда реальность в повести чётко отделена от воображаемых образов. Тит и мельница снова возникают, стоит только Егорушке опять закрыть глаза, а потом появляется и ненавистный Дымов с красными глазами и вечным возгласом: «Скушно мне!» Яркие впечатления, оставшиеся в памяти, становятся навязчивыми в болезненном состоянии мальчика, простудившегося во время грозы. Во многих произведениях болезнь являлась своеобразным «помощником» в создании фантастического пространства вокруг героев. Навязчивые образы то и дело появляются перед глазами, а знакомые становятся неузнаваемыми. Так, Егорушка едва узнаёт кучера Дениску, с которым проехал половину своего пути. Во время болезни образы туманные, угнетающие, повторяющиеся (неприятеля Дымова мальчик видит, по меньшей мере, два раза). Отец Христофор в лихорадочном бреду превращается в Робинзона Крузо, помогающего главному герою поправиться. Надо сказать, что образы тех, кому мальчик симпатизирует, обычно положительные даже в болезненных видениях. Отец Христофор всегда представляется проводником божественной воли, светлым человеком, от которого может даже исходить сияние. Графиня Драницкая становится то птицей, то ласковой тенью, целующей Егорушку.
Отрицательные персонажи видений – неприятели в реальной жизни (те, кого Егорушка считает неприятелями на интуитивном уровне). Так было в случае еврея Соломона, брата хозяина постоялого двора Моисей Моисеича, он представлялся нечистым духом (в основном из-за своей непонятной улыбки, будто бы выражающей презрение ко всем окружающим). Примечательно, что именно усмешка является признаком потустороннего мира, это отсылает нас к представлениям о дьявольской природе смеха в древней Руси, показывает, что у простых людей эти верования были сильны даже в эпоху локомотивов. У Дымова на лице – вечная насмешка, его глаза красные, опять же, как у представителей нечистой силы. Однако следует признать и многоликость самого Егорушки. В котором ест жажда справедливости, но он частично заражён и торгашеским духом, а сын той самой женщины, которая пела песню, озвучивая всю степь, смотрит на Егорушку и бричку, «точно видя перед собой выходцев с того света» [6, с. 25]. Дядя Кузьмичов и отец Христофор, Варламов, поляк графини Драницкой – все они поставили во главу угла своей деятельности наживу и критика их лакейского поведения, данная Соломоном, более чем уместна. «Физической реальностью, – пишет А. Эйнштейн, – обладает не точка пространства и не момент времени, а только само событие» [8, с. 25]. И в художественном мире событие отбрасывает свой отблеск на смысл протекающего времени. Прошлое событие в жизни Соломона – сожжение своих шести тысяч рублей в печке. Почти в финале повести Чехов не забудет указать масштаб цен. Десять рублей – достаточная сумма для месячного содержания мальчика. Если у Соломона потребности вдвое выше, то ему хватило бы лет на двадцать. «Бог отнял у него ум» [6, с. 41], – говорит его брат Моисей, но, может быть, тем самым высшая сила хотела указать на другие, не денежные оси вращения мира. Как полагает Р.Л. Джексон, «В негативном мифе русского пространства и русских, блуждающих в пустоте, Чехов обнаружил более значительный миф о вселенском движении сквозь время, которое не есть поток, и сквозь пространство, которое не есть плоскость» [2, с. 16].
Время ближе к концу повести снова меняет свой темп. Егорушке во время болезни кажется, что он пролежал совсем немного, но стоит открыть глаза – и на дворе уже рассвет. Взаимовлияние пространства и времени уже отмечалось ранее. Утро после беспокойной ночи встречает мальчика приветливо: так долго блуждая в своих фантазиях, не узнавая знакомых и принимая их за других людей, видя зловещие и жуткие образы, Егорушка рад обнаружить себя в реальном мире. Ощущение радости тесно связано с хорошим физическим самочувствием, после выздоровления тревожные образы исчезают, отпускают. Остаются только положительные впечатления, усиливающиеся фантазией: так, отец Христофор, как и все старики, только что вернувшиеся из церкви, «испускает сияние». Больше на протяжении повествования не появится никаких фантастических образов, не будет неодушевленных предметов с человеческими чувствами. Исключением, разве что, являются старые ворота у дома Настасьи Петровны. Они будто выбирают, на какую сторону им свалиться, вперёд или назад. Однако даже эти ворота – скорее, часть мира реального, чем иллюзорного. Шаг за шагом бытие обращается к быту. Описания становятся будничными, обыкновенными, отличающихся от тех, что мы видели на протяжении всего повествования. Даже воспоминания не проявляют себя. В будущей неизведанной жизни словно не должно быть места прошлому.
В конце повести Егорушка окончательно чувствует окончание своей прежней жизни и приближение неизведанного, непонятного. С уходом его дяди и отца Христофора исчезает всё пережитое ранее, возможно, даже степь, та самая, наполненная сказками и легендами, которая так поражала, давая волю воображению и фантазии. Ощущение радости от выздоровления и избавления от ужасных образов превращается в чувство сильной грусти. Действительность неумолима, грядут перемены, и никто точно не знает, какой будет дальнейшая жизнь мальчика, которую он приветствует горькими слезами, появится ли в ней место сказочным образам, или же всё действительно исчезнет, погрязнув под рутиной быта, которым станет его бытие.
Список литературы Фантастическое пространство в повести А.П. Чехова «Степь»
- Гоголь Н.В. Портрет // Собр. соч.: в 8 т. Т. 3. М.: Правда, 1984.
- Джексон Р.-Л. Время и путешествие: метафора для всех времён. "Степь. История одной поездки" // Чеховиана: Чехов в культуре ХХ века: Статьи, публикации, эссе. М.: Наука, 1993. С. 8-17.
- Михайловский Н.К. Об отцах и детях и г. Чехове // Литературно-критические статьи. М.: ГИХЛ, 1957. С. 592-607.
- Николина Н.А. Филологический анализ текста. М.: Издат. центр "Академия", 2003.
- Сухих И.Н. Проблемы поэтики Чехова. СПб.: Филол ф-т СПбГУ, 2007.
- Чехов А.П. Степь // Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Т. 7. М.: Наука, 1985.
- Чудаков А.П. Мир Чехова. Возникновение и утверждение. М.: Сов. писатель, 1986.
- Эйнштейн А. Сущность теории относительности // Собр. соч.: в 4-х т. Т 2. М.: Наука, 1966.