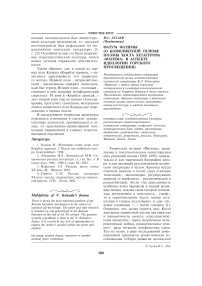Фатум Фатимы (о конфликтной основе поэмы Коста Хетагурова "Фатима " в аспекте идеологии горского просвещения )
Автор: Хугаев Ирлан Сергеевич
Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu
Рубрика: Актуальные проблемы изучения русской литературы и литературы народов России
Статья в выпуске: 2 (46), 2010 года.
Бесплатный доступ
Раскрывается конфликтное содержание драматической поэмы основоположника осетинской литературы К.Л. Хетагурова «Фатима» с точки зрения социально-исторической и культурно-психологической ситуации на Северном Кавказе в эпоху горского Просвещения; характеризуются внутренняя композиция, образная структура и типология основной группы героев поэмы; выявляются авторский дискурс и идейная тенденция произведения.
Младописьменная культура, русскоязычная (транслингвальная) осетинская литература, конфликт, коллизия, патриархальный быт, адаты, просвещение, дворянство, разночинство, социология, антропология, романтизм, реализм, хетагуров, фатима, демон, тазит
Короткий адрес: https://sciup.org/148164203
IDR: 148164203
Текст научной статьи Фатум Фатимы (о конфликтной основе поэмы Коста Хетагурова "Фатима " в аспекте идеологии горского просвещения )
литературы» Х. Ардасенова (Орджоникидзе, 1959), «Романтическая поэма Коста Хетагурова «Фатима» И. Балаева (Орджоникидзе, 1970) и др.), в некоторых других – реалистическая («Тема Кавказа в русской литературе и в творчестве Коста Хе-тагурова» Н. Джусойты (Сталинир, 1955), «Коста Хетагуров и осетинское народное творчество» З. Салагаевой (Орджоникидзе, 1959), «Осетинская литература. Краткий очерк» Ш. Джикаева (Орджоникидзе, 1980), «История осетинской драмы» А. Ха-дарцевой (Орджоникидзе, 1983) и др.).
Анализ конфликтного содержания данной поэмы – одна из приоритетных задач современного коставедения, поскольку трактовки его носят печать идеологических критериев и зачастую игнорируют поэтические . К тому же и отсутствие специальных исследований этого вопроса (с момента выхода в свет работы И. Балаева) сегодня обязывает очертить хотя бы главные его аспекты.
Конфликтная «база» драматической поэмы «Фатима» определяется качеством ее историзма: будучи написана в условиях мирного Кавказа, она воссоздает более раннюю эпоху, когда имели место « притеснения гяура », – т.е. до 60-х гг. XIX в., в условиях Большой Кавказской войны. Итак, Джамбулат отправляется на войну с гяуром : именно этот геополитический контекст закладывает программу конфликта . Характерно, что в экранизации «Фатимы» (в 1958 г. по мотивам поэмы киностудией «Грузия-фильм» был снят полнометражный художественный фильм) этот фон соблюден только по форме: Джамбулат отправляется воевать не против «гяура», а против турков (Русско-турецкая война 1887 – 1888 гг.). Решение, ввиду идеологической конъюнктуры, экономное и логичное. Но тем самым фильм представляет собой весьма упрощенную и уплощенную интерпретацию, в которой нет именно глубины фона и перспективы, а есть исключительно колоритная кавказская интрига; здесь соблюден только романтический аспект, а то, что придает «Фатиме» настоящую эпическую серьезность, опущено. По нашему мнению, идеология и эстетика поэмы вполне открываются только в отношении традиционной горской культуры к русскому и европейскому Просвещению.
Важнейшим концептом является здесь противоречие между патриархальным бы- том и просвещением, обозначаемое сначала фоном (борьба правоверной культуры против «гяура», газават), затем на уровне системы образов (Джамбулат – Ибрагим), а затем и в микрокосме отдельных характеров: Фатима, Наиб. Конфликт ориентирован «вертикально», так, что он организует все уровни поэмы. Здесь следует видеть не только столкновение в буквальном смысле, а именно «систему соотношения персонажей в ходе действия друг с другом и с автором (образом автора)» [2]. Однако философско-эстетическое понимание конфликта всегда приходит вслед за собственно историческим и социологическим (акцентируемым всеми нашими предшественниками), как бы оно ни было скомпрометировано вульгаризаторскими тенденциями.
Поскольку эпос всегда воспроизводит время и его каждая точка, где будущее переплавляется в прошлое, может рассматриваться как кульминация, постольку любому эпическому произведению присущи «век минувший» и «век нынешний». В XIX в. не было ничего важней самой истории: разум облекал «всякое знание в историческую форму» [3], и даже искусство «сделалось по преимуществу историческим» [4]; заслуга Коста состоит в том, что он первым из горских поэтов воспроизвел (изнутри) кавказский хронотоп в симптоматичных, архетипических для изображаемой эпохи формах. Течение времени отражено, повторяем, не только во внешнем действии, но и на уровне характеров, каждый из которых поставлен перед роковой дилеммой, так или иначе синонимичной борьбе старого с новым . Более того, даже борьба романтической и реалистической тенденций в самой поэме выражает тот же конфликт на уровне поэтики, или образа автора .
В социологическом срезе полюсы конфликтного напряжения действительно лежат в антагонистических типах морали: феодально-патриархальной (Джамбулат, Наиб, Фатима) и разночинско-демократической (Ибрагим, Фатима, Наиб). Строгое деление героев на два «лагеря», к которому мы привыкли и к которому тяготели все исследователи, бессмысленно, а последняя, внешне парадоксальная классификация героев дает увидеть, что фронт конфликта характеризуется подвижностью и проходит через каждый из характеров: радикально «старое» представле- но Джамбулатом, «новое» – Ибрагимом (единственно цельные, в строгом смысле, фигуры); феодал Наиб идет на компромисс и смиряется с решением Фатимы; Фатима (будучи воспитанной указанным сословием), до поры колеблясь, выбирает «новое». Здесь, таким образом, представлена сама диалектическая борьба тезиса с антитезой в разных ее фазах и значениях: Джамбулат – Наиб – Фатима – Ибрагим. При этом очевидно, что наибольший путь развития – в том числе психический, если иметь в виду ее конечное помешательство – проходит образ Фатимы, что и позволяет квалифицировать ее как главного героя (именно таков, мы полагаем, авторский алгоритм, окончательно определяющий имя поэмы). Относительно образа автора эта классификация означает простую дихотомию: Хета-гуров, растворенный в данных типах, выражает в них собственную социальную этику: автором поэмы являются оба: и Коста-дворянин, и Коста-разночинец.
Глубинные этико-психологические основания бытия «Фатимы», ее осуществления как поэмы обретаются не столько, как принято думать, в современной автору объективной реальности, сколько в личном опыте Хетагурова. Здесь получили интерпретацию те самые коллизии личного плана, которые непосредственно выражены в Посвящении – акростихе 1887 г. «АНЯ-ИДИЗАМНОЙ» (адресованном А.Я. Поповой, горячо и безответно любимой молодым поэтом). Данное посвящение – не что иное, как корень «Фатимы»; не зря оно довлеет символически: это определение и программа хетагуровского счастья : жизнь на лоне природы по законам совести (а не «мишурного света»), любовь, свобода и свободный труд (творчество).
Если Фатима должна квалифицироваться как главный герой поэмы в силу наибольшего драматизма и динамичности образа, то «разночинец» Ибрагим (сословие осетинских «кавдасардов» соотносимо с русскими разночинцами) может претендовать на аналогичную дефиницию как целое положительное и как наиболее полная сублимация его создателя и, что очень важно – в соответствии с просветительскими и прогрессистскими представлениями – кузнец личного счастья . Ибрагим- Тазит (ибо он представляет тип горца переходной формации) осуществляет заветную (нарисованную в Посвящении) мечту
Коста: он – не поэт, но труженик – уносит Фатиму из « мишурного света » – и не важно, что речь идет о горской , а не городской знати.
Князь Джамбулат – это тоже Коста, но другой – и он осуществляет рок. Он не только враг – он соперник Ибрагиму: двое повстречались на узкой дороге, и одному из них нет места под солнцем, целая земля тесна двоим, не то что сердце поэта.
Фатима – это не просто образ горянки ; как любая женщина, которую любят двое, она – самое живое олицетворение заветной, единственной дороги в будущее. Любовь у Коста – это пафос не только настоящего (чисто лирическое положение), но и будущего (эпическое). Никто не уступит дороги: каждый намерен идти в будущее именно этой – или не идти никак – основание для того, чтобы судить о степени «накала страстей».
Положение Фатимы символизирует дилемму современной Коста Осетии, которая также должна выбирать между «веком минувшим» (Джамбулат) и «веком нынешним» или грядущим (Ибрагим), патриархальным (классическим) и просветительским (революционно-романтическим, реалистическим) – или Адатом и Законом, Мечом и Оралом, Войной и Миром – вот неполный ряд возможных метафор для женихов Фатимы – Осетии . Речь идет об универсальных философско-художественных возможностях пресловутого любовного треугольника , как самой экономной диалектической микромодели мира и общества (там, где есть такие трое – там есть все человечество).
Если социология Коста – разночинская, «некрасовская», то антропология – дворянская, «лермонтовская», и она регулирует в «Фатиме» концепты Злодея, Женщины и Смерти (чисто романическую составляющую). Чаще всего в поэме усматривают влияние пушкинских «Братьев разбойников» и «Тазита» (Х. Ардасенов, В. Кулаев, С. Сабаев, Н. Джусойты); с нашей же точки зрения, в русской поэзии нет более близкого «Фатиме» произведения, чем «Демон». Здесь, помимо общности языковой гармонии (вплоть до рифм и образности в широком смысле) и антропоморфного принципа изображения природы, налицо типологические (по сюжету и системе образов) схождения. У Лермонтова наблюдается тот же диалектический треугольник жизни и борьбы: Фатима соотносится с Тамарой, Ибрагим – с Женихом, Джамбулат – с Демоном. Концептуальные же различия сводятся к тому, что, во-первых, Жених Тамары погибает от Демона, потому (или за то) что он «нарушил заповедь», а Ибрагим ничего не нарушал (разве только считать заповедью адаты как «ветхий кавказский завет», а преступлением – его «тазитство»); во-вторых, Тамара отдается-таки своему Демону (ибо Джамбулат для Фатимы тоже – демон), а Фатима – нет; в-третьих, лермонтовский злодей представляет из себя фигуру как-никак трансцендентальную, а хетагуровский – вполне земную, в чем видится и мера сравнительной реалистичности «Фатимы».
В финале поэмы конструктивность данных поправок подтверждается. Мы узнаем, что Фатима (с момента кульминации прошло еще несколько лет) едва не задушила своего ребенка: в какой интонации должно осмысливаться это обстоятельство? Является ли безумие исчерпывающим объяснением покушения на убийство невинного Ибрагимова сына? Теперь она « По ночам над рекою блуждает как тень // И безумную песнь свою водит : // Догорела заря , // Засыпает земля , // И ночные парят уже грезы... // Грудь изныла , любя // Жду , мой милый , тебя , – // Поспеши осушить мои слезы! ..». К кому обращен этот скорбный и безнадежный призыв? Если только к Ибрагиму – это только мелодраматично , а не драматично, – и опять-таки, почему должен погибнуть его ребенок? Мы не должны искать последовательности от безумицы , но мы должны и в таком безумии предполагать авторский ум . Вряд ли, однако, относится этот призыв и к Джамбулату – во всяком случае, не к тому , что убил Ибрагима. Нет однозначного ответа, как нет однозначности в чувствах Фатимы: Джамбулату (прежнему) отдана ее любовь , Ибрагиму – ее верность ; призыв обращен и к обоим, вернее, к тому невоплощенному, что мог бы их ( прошлое и настоящее ) в себе примирить . Тогда становятся понятны и трагедия Фатимы, и ее безумие ( неизбежность , фатальность безумия).
Заключение характерно третьим и последним обращением к читателю, в котором автор, однако, избежал четкой «идентификации» образа Повествователя; у нас нет оснований однозначно судить о нем как о просвещенном черкесе (не считая, разумеется, отличного знания кавказского материала) – это мог быть и русский путешественник, но уже не Пушкин, Лермонтов или Полежаев, а представитель разночинской интеллигенции, свидетельствующий о новой эпохе: «... Изменился аул , – // Вместо сакли – турлучная хата ... // И обои и печи ... Висят зеркала // Вместо сакли , ружья , пистолета // <... > Изменяется все – и язык и наряд... // Есть и школы... »
Иначе говоря, наступила на Кавказе эпоха самовара , о котором мечтал для горцев Пушкин в «Путешествии в Арзрум». Но в то же время явна и ностальгия Повествователя по «делам давно минувших дней», угадываемая в образе « неизменной над аулом скалы », гордо молчащей и глядящей пасмурно на мосты и дорогу, на странную и незнакомую жизнь. Если, как мы предположили, в некотором смысле образ Фатимы – это метафора Осетии, то не следует ли увидеть в ее горьком итоге аллегорическое указание возможных – по Коста – плодов Просвещения и Прогресса, всегда чреватого известными издержками и переживаемого младописьменной культурой как стресс? Во всяком случае, нельзя пройти мимо того страшного обстоятельства, что дети новой эпохи бросают в несчастную Фатиму камнями и грязью. Если же экстраполировать положение в плоскость личного , то безумие Фатимы и смерть Ибрагима фиксируют невозможность счастья, столь просто и изысканно нарисованного в Посвящении «АНЯИДИЗАМНОЙ». «Аня» (Анна Попова) так и не пошла за Коста, и это тоже соотносится с идеей «Фатимы».
Финал поэмы, однако, полон той «светлой печалью», которая свойственна всякому подлинно историческому и эпически спокойному взгляду. Здесь Повествователь (а вместе с ним и мы) узнает от Духанщика, что Учитель мальчика (сына Фатимы) спасает, а Инженер, строивший в горах дорогу, увозит его в город «для науки»: единственная оптимистическая деталь, озаряющая воздух перспективы за физическими границами текста. Тем самым Коста оставляет шанс не только безымянному сироте
Фатимы и Ибрагима, но и горскому Просвещению.