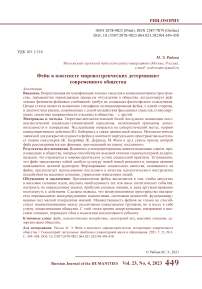Фейк в контексте мировоззренческих детерминант современного общества
Автор: Рябова М.Э.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (64), 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. Возрастающая интенсификация ложных смыслов в коммуникативном пространстве, перманентно порождающая процессы отчуждения в обществе, актуализирует рефлексию феномена фейковых сообщений, требуя их социально-философского осмысления. Целью статьи является выявление специфики позиционирования фейка, с одной стороны, и диагностики рисков, сопряженных с силой воздействия фальшивых смыслов, стимулирующих латентные напряженности и вызовы в обществе, - с другой.
Фейк, идеологическое воздействие, культурный код, массовое сознание, дезорганизация общества
Короткий адрес: https://sciup.org/147242360
IDR: 147242360 | УДК: 101.1:316 | DOI: 10.15507/2078-9823.064.023.202304.449-458
Текст научной статьи Фейк в контексте мировоззренческих детерминант современного общества
В сегодняшней непростой социальной реальности, когда в общественном сознании переплетается комплекс мировых противоречий, новое звучание в социокультурной практике приобретает проблема правдивости. Общей тенденцией и неотъемлемой характеристикой современного общества становится распространение недостоверной информации, именуемой фейком. Фейк представляет собой сложный нарративный конструкт, включающий несколько смысловых слоев, рассчитанных на оказание определенного эффекта. Многообразие структурирующих фейк-принципов направлено на формирование коллективных и индивидуальных представлений о тех или иных событиях, а впоследствии – и смену мировоззрения. Основа этого манипулятивного воздействия заложена в идеологии искажения, проводимой через восприятие коллективного субъекта той или иной ин- формации. Очевидно, что любая идеология носит ценностный характер, конструируя мировоззренческие ориентиры, задающие реакции социальных групп в пространстве и времени. Деструктивное системное воздействие недостоверных фактов, интерпретированных под определенным идеологическим углом, не только кардинально переворачивает картину мира субъекта, но и трансформирует представление о реальности. Исходя из того, что индивид подталкивается к выбору определенного действия, принятия решения, в поведении человека наблюдается ряд иррациональностей, т. е. отступлений от того, что принято понимать нормативной поведенческой реакцией.
Понятие фейка несет в себе опасность вывести субъекта за границы действительности в вымышленный мир симулякров, вовлекая его в историческую промежуточность сферы «между» правдой и мистификацией. Лавинообразная индустрия ложных смыслов, перманентно порождающая процессы отчуждения, актуализирует рефлексию феномена фейковых сообщений, требуя их социально-философского осмысления. Целью статьи является выявление специфики позиционирования фейка, с одной стороны, и диагностики рисков, сопряженных с силой воздействия фальшивых смыслов, порождающих латентные напряженности и вызовы в обществе, – с другой.
Обзор литературы
Рассматривая проблематику фейка в исторической перспективе, следует сделать предварительные пояснения по поводу самого понятия. Научный дискурс обнаруживает у рассматриваемого термина на текущий момент чрезвычайно широкий диапазон значений – от фальшивых фактов до искусственно созданных акцентуаций. Важно отметить, что теоретические дискуссии зарубежных авторов (Дж. Фаркас, Я. Шоу [17], А. Гелферт [18], Ф. Хэндрикс, М. Вестергард [19]) пронизывает в первую очередь спектр взглядов к определению фейка, сосредоточиваясь в большей степени на его типологии. Однако в рамках этой статьи под фейком будет пониматься лишь один аспект дефиниции, означающий заведомо поддельную информацию, выдаваемую за правду, и осознанно распространяемую с целью манипулирования общественным мнением.
Анализируя вариативность смыслов фейка, О. С. Иссерс указывает на феномен фейка, магистральные линии которого обусловлены мифом [6]. Действительно, мифологические установки подпитывали человечество еще со времен древних цивилизаций, появившись вместе со способностью субъекта абстрактно мыслить. Это образы несуществующего, иллюзии, идолы, химеры. В разные времена мифологические объекты имели разные ипостаси и разные цели.
Мифологическая сущность фейка дифференцировала авторские позиции к этому феномену. Стоит обратить внимание, что всеохватность мифа восходит к архетипам коллективного бессознательного (К. Г. Юнг), адаптирующим миф к реалиям своего времени. Миф, согласно К. Г. Юнгу, играет более значимую роль, априори присущую человечеству как способ обработки архетипов [16].
Меняющаяся социокультурная ситуация служит постоянным импульсом возникновения новых научных изысканий, к наиболее значимым из которых можно отнести трактовку мифа К. Леви-Стросса [8] с позиций структурализма, символический подход к пониманию мифа Э. Кассирера, онтологическую концепцию мифа А. Ф. Лосева и множество других. Важно подчеркнуть, что в неклассической линии философствования интерпретация мифа не только начинает все больше связываться с социальной реальностью, но и приводит к осознанию, что миф можно использовать в качестве средства управления в информационном дискурсе. Особенно ярко эта идея прозвучала в пост- модернистском подходе Р. Барта, расширившего представления о мифе через латентные смыслы, не осознаваемые человеком, но обладающие властью над ним. «Функция мифа – удалять реальность», – заявляет Р. Барт, анализируя мифологические компоненты в структуре повседневности [2, с. 96].
Итак, мифы, в той или иной форме модифицируясь, глубоко вплетены во всю историю человечества, включая сегодняшние дни. Следует подчеркнуть, что фейк предстает как принципиально метафоричная превращенная форма идеологического инструмента воздействия на многообразные социальные ситуации. Речь идет о теневой идеологии, стоящей за кадром фейка, реализующей стратегии манипуляции коллективным сознанием. Спецификой превращенной формы является такая переработка смысла, что он становится неузнаваемым. Согласно М. К. Мамардашвили, особенность превращенной формы состоит в том, что она «получает самостоятельное “сущностное” значение, обособляется, и содержание заменяется в явлении иным отношением, которое сливается со свойствами материального носителя (субстрата) самой формы (например, в случае символизма) и становится на место действительного отношения» [10, с. 247]. Эксплицируя сказанное на фейк, можно заметить закономерность в виде соотношения формы и содержания, т. е. диалектики внешнего и внутреннего. По мысли М. К. Мамардашвили, замена одного содержания другим приобретает деформацию смысла, основываясь на искаженной информации. Тем самым превращенная форма фейка будет означать не соответствующее реальности суждение, воспринимаемое субъектом как истинное.
Множество номинаций фейка вызвало обширный пласт работ, связанный проблематикой предмета с исследованиями социальных коммуникаций, журналистики, медиаконтента, сферы политики, манипулирования сознанием. Ключевым стал вопрос о мнимой сущности фейка, преднамеренно дезориентирующей своей ложной информацией, молниеносно распространяемой в сетевом пространстве современности. Г. Л. Тульчинский отмечает, что «фейки живут в серой зоне “полуправды”: они похожи на правду, но правдой не являются, их сложно опровергнуть, но и доказать сложно. Они нечто третье – не правда, не ложь, не столько “постправда”, сколько “лжеправда”» [13, c. 90].
В связи с этим концептуальная тематика фейков приобрела ярко выраженные негативные коннотации и переместилась преимущественно в широкий контекст от информационных войн (Г. Почепцов, И. Халдарова, М. Пантти [20]) до медийных манипуляций (У. Липпман [9], А. Марвик, Р. Левис [21]) и т. д.
Рассматривая фейк сквозь призму безграничных потоков цифровых коммуникаций, сети Интернет, следует признать неизбежность новой реальности, непрерывно производящей фейки, динамично вбрасываемые в коммуникативное поле виртуальности. Сетевая система обнаруживает черты фиктивности веб-пространства, говоря словами М. Кастельса, «где выдуманный мир есть выдумка в процессе своего создания» [7, с. 353]. Ведь именно в интернете создаются виртуальные персонажи, которые правдоподобно и преднамеренно тиражируют неистинные сообщения. Примером могут послужить социальные сети, в которых многие авторы выступают под чужим именем либо надевают маску. Напрашивается вывод, что выдуманная онлайн-сфера невольно провоцирует производство фейков, развивая чрезвычайно благоприятные условия для дезинформации. В связи с этим интересно отметить, что недостоверная информация уже не воспринимается как нечто неэтическое, а приобрела звучание обыденности и привычности.
В электронную эпоху разрастание вводящих в заблуждение фактов происходит стремительно и достигло просто неимоверных раз- меров, а ведь фейковый контент в интернете возник относительно недавно. Сначала появились фейковые отзывы о книгах, ресторанах и обо всем что угодно, а теперь функционирует целая индустрия фальсифицированных материалов, поставленных на поток, задействованных преимущественно в сфере политики.
Любопытно, что, несмотря на многомерность тематики фейка, совмещение различных черт социальных и информационных технологий, можно все же выделить общий аспект имеющихся исследований и подходов. Преобладающее большинство авторов отмечают серьезное воздействие фейка на ценностные, мировоззренческие установки личности. Сознание на индивидуальном уровне «задается преимущественно внешними атрибутами социальной жизни, которые в значительной степени формируют нравственные основания субъекта и общества» [12, c. 146].
Материалы и методы
Методологической основой исследования является постнеклассическая социально-гуманитарная парадигма, в рамках которой отражены основные характеристики современных коммуникативных процессов.
Эвристическое значение для реализации задач исследования имеют синергетические методы, согласно которым фейк рассматривается как продукт усложняющегося нелинейного развития общества, вызываемого к жизни возникновением новейших противоречий.
Принципы дополнительности и методологического плюрализма определяют сочетание различных позиций в интерпретации феномена фейка и его роли в формировании массового сознания.
Новые объяснительные возможности обнаруживает философия М. М. Бахтина, содержащая постановку проблемы подлинности факта, его критериев и искренности авторских интенций [3].
Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса [15], которая в новом контексте «обрастает дополнительными смыс- лами», позволяет представить цифровую реальность, наполненную заведомо искаженными смыслами, в качестве механизма аксиологической направленности социального поведения коллективного субъекта.
Методологически значимой для раскрытия сущности фейка в контексте виртуального пространства выступает теория симулякров (Ж. Бодрийяр [4], Ж. Деррида [5], М. Фуко [14]), сквозь призму которой фейк притязает на замену подлинного.
Результаты исследования
Динамичность современного общества продуцирует множество рисков. Вся сумма цивилизационных сдвигов, произошедших в обществе, создает впечатление высокой степени его дезорганизации, что отражается в мировоззренческих устоях социальной практики. В картине мира постмодерна, конструируемой в интернет-коммуникации, функционируют как реальные объекты, так и их подмена фейками и их разновидностями (боты, тролли, пранкеры и т. п.), которые трудно идентифицируемы и различимы, поскольку их верификация затруднительна. «Понятие фейкизация предполагает целенаправленное насыщение медиа-коммуникативного пространства лживой или правдоподобной информацией в рамках подрывного инфотока» [11, с. 635].
Человек, как правило, критически не сортирует циркулирующие в информационном многообразии сообщения, которые создают иллюзию плюрализма мнений. Атрибутивной характеристикой современности становится принятие на веру продуктов манипуляции, воплощая незаметно мировоззренческие принципы эпохи постмодерна. Фрагментарность и интертекстуальность трансформируют истину, выдавая ложное за подлинное. Отказываясь от познавательного усилия, человек не задумывается о том, что фейк представляет собой опаснейшую ловушку неподлинного бытия и неистинных отношений. В сознании человека, существующего в разнообразных потоках коммуника- ции, наполненных фейками, порождающих скрытые, неясные смыслы, закрепляется фальшивая информация как правдивая. Ложная информация стала драйвером нелинейных преобразований, ведущим к амбивалентным последствиям, сочетающим дезорганизацию и организацию.
Фейк обусловлен контекстом, т. е. временны́м моментом, и зависит от исторического контекста, наглядно фиксируя проявление противоречий в обществе, порождая латентные вызовы в виде новых сложных уязвимостей. У любого значимого события в современном мире обязательно появляется фейк. Другими словами, фейк существует в соотношении с основным источником как некий теневой феномен, который вряд ли возможен без базового смысла, исходной реальности. Историчность интенции заключается в том, что сегодняшний фейк может оказаться завтра не фейком, и наоборот. Любая ложная информация носит относительный характер и коррелирует только в связке с достоверной информацией.
Важно понимать, что фейк – это инструмент манипулирования общественным мнением, представляющий собой разрушительную силу, поскольку может использоваться в разных целях, например таких, как дискредитация инакомыслия, навязывание морали при ее двусмысленности и размытости, нетерпимость одних социальных групп к противоположным взглядам или ценностям других и организация гражданских инициатив и т. д. Кроме того, фейк обладает множественной вариативностью культурного кода. Сюда относятся отход от доминантной нравственно-ценностной основы, осуществляемый под предлогом поиска новых смыслов, безапелляционная исходная позиция уверенности в собственной непогрешимости и правоте с одновременной демонизацией противника, уход от реальности в мир иллюзий, утверждение желаемого за действительное. Перечисленное ведет к мозаичной картине мира, в которой смыслы перевернуты; следуя стилистике А. С. Ахиезера [1], происходит инверсия сущностей. Нарушается привычный порядок акцентов, смыслы смещаются и перестают соответствовать признанным нормам. Например, происходит планомерное замещение традиционных ценностей (взаимоподдержка, милосердие, трудолюбие, скромность), навязанным западной культурой себялюбивым утилитарным самоугождением: «Бери от жизни всё».
Специфика фейка заключается в его постоянном обновлении, в бесконечной импровизации, которая позволяет каждому домыслить его, вольно адаптировать к текущим событиям так, как ему вздумается. Этот многократно умноженный субъективизм пропитан эклектикой смещенного смысла и реальности.
Отсюда следует, что фейк следует рассматривать как один из немаловажных факторов конструирования событий, иной сферы бытия, составляющих серую ткань социокультурной реальности, которая лишь кажется, но не является реальностью. Нагруженность коммуникативного пространства фейками, их обилие и невозможность верификации показывают, что наиболее интенсивно они функционируют в политической сфере и обнаруживают результативность посредством пробуждения сильного настроя, провоцируя массовое сознание на осуществление программы действий, управляя тем самым поведением людей. Субъект получает сообщения о событиях, т. е. «не объективное знание о фактах, а уже подогнанный под определенный стереотип образец поведения» [9, c. 236].
Можно утверждать, что фейк представляет собой особую культуру некой новой реальности, которая активно навязывается целевой аудитории. Между тем ситуация представляется более глубокой, связанной с потенциальными последствиями фейков в цифровом формате. Следует обратить внимание, что циркулирование фейков в коммуникативном пространстве носит накопительный характер, что напоминает теорию энтропии, когда проблемы накапливаются, флуктуации достигают точки бифуркации и наступает так называемый взрыв, переход на новый уровень эволюции, создавая новые модели формирования мировоззренческих парадигм.
Обсуждение и заключение
Существование фейка апеллирует к актуальнейшей теме управления коллективным субъектом, опирающейся на технологии цифровой коммуникации. Исходной точкой рассуждений может служить очевидный факт, что фейки рождаются в коммуникации и реализуются в соответствии с преследуемыми целями для выработки трансляции принимаемых решений, направленных на сознание, установки, взгляд оппонентов. Исследовательская позиция здесь основывается на убеждении, что содержание фейка направлено на преобразование действительности в ключе намерений манипуляторов.
Как уже говорилось выше, фейк как составная часть существования общества не возник внезапно, ему предшествовала обширная историческая практика фальсификации всякого вида. Искаженная информация поразительно живуча, способна возрождаться под новыми именами в новых условиях. Однако если раньше стимулом для ее появления служил недостаток информации, то сегодня – наоборот, ее переизбыток.
Фейк интерсубъективен, вовлекает индивидуальный опыт в свою область значений, основан на внушении, имплицитно подаваемом в ненавязчивой форме. Однако коннотативные значения фейка конкретны и выглядят естественно, позволяя целевой аудитории воспринимать посылы как очевидные факты, превращая тем самым идеологические цели отдельных социальных групп во всеобщее. Смысл всеобщности при этом постоянно уточняется. Социальный язык, как подчеркивал М. М. Бахтин, всегда идеологически наполнен, поэтому образует упругую смысловую среду [3]. Эксплицируя мысль М. М. Бахтина на проблематику фейка, хотелось бы обратить внимание, что особенностью идеологической составляющей фейка является не столько его недостоверность, фальсификация как таковая, а сколько его прагматика, намерение изменения ценностных, мировоззренческих установок и модусов содержания. При таком рассмотрении идеологически маркированный фейк может трактоваться не с точки зрения правдивости или ложности, а уместности и эффективности действия. Предназначение фейка заключается в том, чтобы запустить в массовое сознание идею, внушить целевой аудитории необходимость тех или иных политических событий, настроить на определенные оценки, пробудив сильные эмоции, и даже аргументированно подвигнуть к действиям. Как бы искренне ни преподносилась информация, в ней присутствует определенная доля иллюзии, поскольку невозможно, чтобы каждый человек понимал смысл сообщений в той мере, в какой он понятен профессионалам, обладающим квалификацией для их оценки. Более того, никто и не пытается оценить степень достоверности информации. Другими словами, фейк представляет собой перформатив, в котором произведенный эффект и последствия оказываются гораздо важнее, чем смысл сказанного. Поэтому фейк используется как мощный инструмент информационных войн, которые опасны своей направленностью против государственного строя. Подобное влияние несет в себе высокую долю дезорганизации и может спровоцировать серьезные политические потрясения, обострение отчуждения в социальной сфере. Постоянно сталкиваясь с воздействием искаженной информации, человек постепенно начинает терять способность к критическому осмыслению действительности и поддается панике. Сказанное превращает фейк в совокупность коннотаций, содержащих идеологический посыл.
Однако, как бы ни интерпретировать фейк и его последствия, нельзя умалчивать о причинах легкого отклика, доверия целевой аудитории к содержанию транслируемой информации. Каждый субъект живет в системе собственных координат и, воспринимая ту или иную информацию, ориентируется в первую очередь на свой внутренний эталон. С точки зрения субъекта, такой эталон не может быть ложным, и он неосознанно ищет ему подтверждение, чтобы укрепиться в своей интенции. И тут становится понятно, как и насколько важны мировоззренческие позиции, ценностные ориентации, формируемые образованием, интеллектом. Из этого следует двойственная сущность фейка. С одной стороны, он соответствует мировоззренческим ожиданиям субъекта и активизирует его к действиям, а с другой – выдается на истину и разоблачает якобы факты реальности. Механизм распространения фейка довольно прост. Субъект, попавший под влияние фейка, испытывает острую потребность поделиться
«своими» догадками с близким окружением, привнося собственные интерпретации. Наличие единомышленников, разделяющих распространяемые фейковые смыслы, объединяет людей и способствует самоидентификации. В результате искаженная информация приобретает резонансный характер. В цифровую эпоху, способствующую молниеносному распространению информации, функциональное поле действия фейка существенно расширяется. Учитывая, что информационная составляющая фейка тесно связана с идеологической, коммуникативное пространство оказывается перенасыщено конкурирующими идеологиями, системами ценностей, функционирующими под маской плюрализма мнений. Однако на самом деле множественность фейков не только не способствует взаимопониманию между различными социальными группами, но и несет в себе угрозу дезорганизации общества. С этой точки зрения дезорганизация, внедряемая в массовое сознание, порождает сбои в мышлении коллективного субъекта.
Список литературы Фейк в контексте мировоззренческих детерминант современного общества
- Ахиезер А. С. Труды. М.: Новый хронограф, 2006. 480 с.
- Барт Р. Мифологии. Mythologies. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000. 320 с.
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975. 504 с.
- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. М.: ПОСТУМ, 2017. 320 с.
- Деррида Ж. Поля философии. М.: Академ. проект, 2012. 376 с.
- Иссерс О. С. Медиафейки: между правдой и мистификцией // Коммуникативные исследования. 2014. № 2. С. 113–115.
- Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество, культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.
- Леви-Стросс К. Узнавать других. Антропология и проблемы современности. М.: Текст, 2016. 160 с.
- Липпман У. Общественное мнение. М.: Ин-т фонда «Обществ. мнение». 2004. 384 с.
- Мамардашвили М. К. Формы и содержание мышления. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2011. 288 с.
- Небренчин С. М. Фейк(о)демизация национального медиапространства как инструмент подрыва общероссийской идентичности // Россия: Тенденции и перспективы развития: материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф. М., 2022. Вып. 17, ч. 2. С. 634–637.
- Рябова М. Э. Нравственность в ХХ веке: перспективы и тенденции // Синергетическая теория ценностей. СПб., 2012. С. 146–153.
- Тульчинский Г. Л., Золян С. Т., Пробст Н. А., Сладкевич Ж. Р. Фейки: коммуникация, смыслы, ответственность. СПб.: Алетейя, 2021. 288 с.
- Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, вступления и интервью. М.: Праксис, 2006. Ч. 3. 320 с.
- Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб.: Наука, 2001. 417 с.
- Юнг К. Архетипы и коллективное бессознательное. М.: АСТ, 2020. 224 с.
- Farkas J., Schou J. Fake News as a Floating Signifier: Hegemony, Antagonism and the Politics of Falsehood // Javnost – The Public. 2018. No. 25. Р. 298–314.
- Gelfert A. Fake News: A Definition // Informal Logic. 2018. No. 38. Р. 84–117.
- Hendricks V. F., Vestergaard M. Postfaktisch: Die neue Wirklichkeit in Zeiten von Bullshit, Fake News und Verschwörungstheorien. München: Karl Blessing Verlag, 2018. 208 S.
- Khaldarova I., Pantti M. Fake News // Journalism Practice. 2016. No. 10. Р. 891–901.
- Marwick A., Lewis R. Media manipulation and disinformation online // Data & Society. 2017. May, 15. URL: https://datasociety.net/library/media-manipulation-and-disinfo-online/ (дата обращения: 07.07.2023).