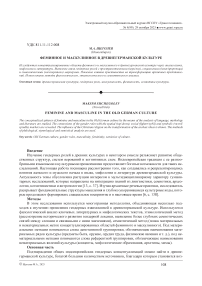Феминное и маскулинное в древнегерманской культуре
Автор: Щеголев М.А.
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4 (99), 2025 года.
Бесплатный доступ
Исследуются концептуализированные области феминного и маскулинного в древнегерманской культуре через анализ языка, мифологии и литературы. Выявлены связи гендерных ролей с пространственными (верх/низ), социальными (воин/пророчица) и символическими (меч/веретено) маркерами. Показано влияние христианства на трансформацию архаичных представлений. Использованы методы филологического, этимологического и семиотического анализа.
Древнегерманская культура, гендерные роли, маскулинность, феминность, семиотика культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/148332039
IDR: 148332039 | УДК: 811.11-112:008
Текст научной статьи Феминное и маскулинное в древнегерманской культуре
№ 4(99). 29 октября 2025 ■
Изучение гендерных ролей в древних культурах в некотором смысле разъясняет развитие общественных структур, систем верований и когнитивных схем. Индоевропейская традиция с ее разнообразными языковыми и культурными проявлениями предоставляет богатые возможности для таких исследований. Настоящая работа посвящена рассмотрению того, как создавались и репрезентировались понятия женского и мужского начала в языке, мифологии и литературе древнегерманской культуры. Актуальность темы обусловлена растущим интересом к мультидисциплинарному характеру гуманитарных исследований, которые направлены на интеграцию знаний из лингвистики, семиотики, археологии, когнитивистики и антропологии [13, с. 37]. Изучая архаичные речевые практики, исследователь раскрывает фундаментальные структуры мышления и глубоко укоренившиеся культурные коды, которые продолжают формировать спациальное восприятие и в настоящее время [6, с. 138].
Методы
В этом исследовании используется многогранная методология, объединяющая несколько подходов к изучению проявления гендерных взаимосвязей в древнегерманской культуре. Используются филологический анализ ключевых литературных и мифологических текстов, этимологический метод (рассмотрение исторического развития гендерной лексики, выявление более глубоких семиотических связей между словами и связанными с ними значениями), семиотический метод (поиск материальных и нематериальных меток концептуализированных областей феминного и маскулинного). Под материальными метками понимаются слова денотативной группировки, обозначающие наименования материальных рядов культуры (предметы быта, оружие, орудия труда, физические явления и т. д.), под нематериальными метками понимаются слова референтной группировки, обозначающие наименования нематериальных явлений культуры (концепты, мифологические образования, архетипы, мемы).
Основная часть
Подтверждение общих индоевропейских гендерных концептуализаций можно найти в древнегерманской культуре, богатой большим количеством источников, благодаря которым становится воз- можной реконструкция культуры индоевропейского ареала с использованием культурной семиотики. Судить о создавшихся аспектах восприятия можно по мифологическим (в частности, гендерным характеристикам божеств) и религиозным особенностям индоевропейских культур. Проследим в этом отношении концептуализацию феминного и маскулинного в древнегерманском ареале.
Традиционно германские племена избегали писать на религиозные темы, древнейшие из доступных текстов относятся к периоду христианизации (с IV в.) [16]. Исландские эпические тексты появились позже, примерно в XI в. Внедрение письменности было преднамеренным, обусловленным контактом с грамотными культурами, вероятно, из-за сильной устной традиции, которая со временем постепенно угасла [4, с. 26]. Христианизация способствовала развитию интеллектуальных и духовных исканий, что привело к открытию монастырей и переводу Библии. Это позволило христианским верованиям смешаться с языческой культурой, что привело к периоду двоеверия.
Христианизация существенно трансформировала восприятие гендера, заменив языческую амбивалентность жесткой бинарностью. Если в скандинавском язычестве богини вроде Фрейи сочетали эротизм и воинственность, то христианская традиция разделила женские образы на два полюса: Дева Мария (чистота) и Ева (греховность). В «Англосаксонских хрониках» и агиографических текстах подчеркивается идеал женского смирения, тогда как языческие героини (например, Брюнхильд) осуждаются как «неистовые». Однако пережитки архаичных представлений сохранялись: даже в христианизированном «Беовульфе» мать Гренделя остается символом неукротимой природы, не вписывающейся в новые рамки.
Принятие христианства вызвало глубокий духовный сдвиг, переоценку ценностей и изменение способов взаимодействия людей. Этот период отражает трансформацию общественного сознания, что особенно заметно в лингвистических изменениях [7, с. 57–58]. Переход от устной традиции к письменности стал ключевой культурной трансформацией. Устные практики сохранялись, создавая параллельную систему, аналогичную двоеверию при христианизации [8, с. 39]. Для германских народов этот процесс был связан с идеологическими сдвигами, т. к. письменность часто появлялась вместе с христианством. В текстах этого периода можно проследить архетипы индоевропейской культуры.
Так, например, в древних понятиях кельтов, территория Ирландии на юге под названием Мун-стер – это «первомир, место, где находится начало всех начал» [9, с. 107–108], область, традиционно населенная женскими мифическими персонажами. Здесь можно предположить, что юг (а шире – низ) – это исторически женское, феминное направление, место. Модель германского (и индоевропейского в целом) мифического построения мира отсылает к этому: Мидгард (средний мир) можно перенести на понятие среднего рода, Асгард (высший мир) – мужской род и Хельхейм (низший) – женский. Не только патриархальный характер культуры указывает на это, но и сами персонажи мифов: Асгардом правят боги-братья Один, Вили и Ве, а в Хельхейме властвует великанша Хель (ср. индоевроп. *ụel-/ ụel – «вода», хет. uellu «загробный мир», хет. ulan «внутренности, недра» [3, с. 77]).
В представлении древних германцев утгард (внешний мир) соотносился с адом, вход куда был заперт на засов, отделяющий мир демонов от мидгарда. Нордическая мифология имеет отголоски в христианстве: связанный дьявол и потусторонний мир помещается на север, куда ведут длинные коридоры [11, с. 161]. В языческом мировосприятии дочь Локи - Хель - принимала и удерживала души умерших по естественным причинам. С принятием христианства образ Хельхейма был перенесен на ад в христианском воззрении, превратив языческое обиталище душ в дьявольское место терзаний.
В древнеанглийской традиции заклинания, принадлежащие к народной поэтической традиции, дают ценное представление о дохристианских верованиях. Их сохранение в поэтической форме до широкого распространения письменной фиксации позволяет изучать языческие элементы, в значительной степени не затронутые христианским влиянием. Об архаичной природе этих заклинаний свидетельствуют их общие метрические и стилистические особенности (в частности, использование наряду с аллитерацией и рифмы), в то время как христианские дополнения (например, молитвенные вступления) сравнительно легко распознать как более поздние подмены языческих формул [2].
Анализ многих древнеанглийских стихотворных текстов указывает на распространенную нематериальную маскулинную метку «война», «битва» (индоевропейская метка «воин» или «убийца»). Так, в стихотворении «Вульф и Эадвакер» ([2], перевод В.Г. Тихомирова):
Wulfes ic mines wīdlāstum, wēnum hogode,
þonne hit wæs rēnig weder ond ic rēotugu sæt,
þonne mec se beaducāfa bōgumbilegde, wæs mē wyn tō þon, wæs mē hwæþre ēac lāð.
Вульфа я призывала, истосковалась в надежде, когда лила я слезы дождливыми днями, когда обнимал меня муж-воитель, – то было мне счастьем и печалью было.
Это естественное представление мужа как воина (в данном случае “beaducāfa”) встречается повсеместно в индоевропейской традиции. Жена, в таком случае, видится как хранитель очага.
В древнеанглийской поэзии встречаются подтверждения и других концептуализированных областей. Так, в «Гимне Кэдмона» видим*:
Nu we sculon herigean heofonrices weard, meotodes meahte.
Ныне же восславим защитника небес, господа всемогущего.
Здесь, как и в любой другой патриархальной культуре (что в целом свойственно индоевропейскому ареалу), бог маскулинен, он «защищает небеса». В «Заклинании бесплодной земли» происходит обращение: «Эрке, Эрке, Эрке, матерь земная». Я. Гримм полагал, что это имя германской богини плодородия, восходящее к древнему культу «матери-земли» (Herke или Erke в немецком фольклоре). Эта точка зрения получила распространение среди фольклористов, но некоторые из них (Я. де Фрис, Ф. Грендон) скорее склонны видеть здесь лишенные смысла сочетания звуков – остаток магической формулы. Тем не менее, данное заклинание подтверждает материльную метку концептуализированной области феминного: «земля» в противовес маскулинному «небу». К предыдущим «матка» и «самка» (как дающие потомство) добавляется метка плодородия: «земля» (как дающая пищу).
Патриархальность и особое отношение к небу вызваны средой обитания индоевропейцев. Лингвистические формулы и культурные концепции являются не только продуктом ментальной абстракции, но и активно формируются под влиянием физического и социального окружения. Так, к примеру, среди африканских бантуязычных племен распространение скотоводства привело к отказу от матрилинейной социальной организации и утверждению патрилинейной системы родства [15]. Скотоводство в индоевропейском ареале также породило новые типы политической власти и авторитета: наличие домашних животных обеспечило возможность для сложной системы публичных жертвоприношений и даров. Связка между животными, братьями и властью была тем фундаментом, на котором установились «новые формы мужецентричного ритуала и политических институтов индоевропейских обществ. Вот почему корова (и братья) занимала центральное место в индоевропейских мифах, описывающих начало мира» [13, с. 194].
Внедрение христианской культуры в древнеанглийском ареале развивает концептуализированные области в соответствии с библейским учением: «главным мужчиной» мира становится Иисус Христос, а «главной женщиной» – Дева Мария. Так, в произведении «Видение Креста»:
Hwæt, me þa geweorðode wuldrese aldor ofe rholtwudu, heofonrices weard!
Swylce swa he his modor eac, Marian sylfe,
ælmihtig god for eallemenn geweorðode ofer eall wifa cynn.
Вот, царь славы, хранитель царствия небесного возвысил меня над всеми деревьями леса, как и богоматерь, саму Марию,
Господом из других избранную, возвеличил среди других женщин.
Здесь крест предстает и как символ торжества, и как орудие истязания, как крест поруганный и почитаемый, «древо», соединяющее землю с небесами. Христос здесь и жертва, и царь, а смерть его оказывается вместе с тем моментом его наивысшей победы [2]. Однако теология «Видения Креста» входит в образную ткань германской поэзии и во многом осмысляется через традицию. Здесь мировое древо трансформируется в крест Иисуса – это значительная особенность древнеанглийской культуры в период двоеверия. Совмещается языческое спациальное понимание мира как имеющего дерево, проходящее из нижнего через средний мир в верхний.
«Правление на высоте» как характеристика божества, а впоследствии и царя, отмечаемое в индоевропейской мифологии, равно относится и к древнегерманскому ареалу. Так, в «Видении Гюльви», первой части «Младшей Эдды»:
Hanns á þrjú hásæti ok hvert upp frá öðru, ok sátu þrír menn sinn í hverju. Þá spurði hann, hvert nafn höfðingja þeiraværi.
Sá svarar, er hann leidd i inn, at sá, er í inu neðsta hásætis at, var konungr – ok heitir Hárr, en þar næst sá, er heitir Jafnhárr, en sá ofast, e rÞriði heitir.
Он увидел три престола, один другого выше. И сидят на них три мужа. Тогда он спросил, как зовут этих знатных мужей.
И приведший его отвечает, что на самом низком из престолов сидит конунг, а имя ему – Высокий. На среднем троне сидит Равновысокий, а на самом высоком – Третий.
Концептуализация высоты как маскулинного направления согласуется с таковой в индоевропейской культуре в целом. Жесты вытягивания, протягивания, увеличения в размере, эрекции константно ассоциируются с маскулинным. Об этом же пишет и Ю.С. Степанов [10, с. 116]: слова рус. перст – «палец», др.-рус. прьсть, персть – «прах, земля» возводятся к и.-e. *perku-, к которому восходит лат.quercus – «дуб» и к которому, с другой стороны, несомненно, восходят сл. Пержнъ, Перун – «бог грома и молнии», литов. Perkunas – «бог грома и молнии» и «гроза», др.-исл. fiorr – «дерево» и «человек». В таком случае основной, первоначальный смысл здесь таков: «нечто выступающее, возвышающееся» (скорее всего, в начале – дерево), что является центром мира (далее также «центром тела», откуда литов. pirsys мн. ч. «грудь лошади», ст.-сл., др.-рус. пьрси – «перси, грудь» и пьрси – «часть городских укреплений».
Так, в Ригведе (10.101.12):
kapṛn naraḥ kapṛthamud dadhātanac odayatak hudatavājasātaye
Поднимайте детородный орган, о мужи, поднимайте фаллос, приводите его в движение, вводите внутрь для захвата награды.
Похожий отрывок можно обнаружить у Афинея Навкратийского [14]:
άνάγετ’, εύρυχωρίαν
τώι θεώι ποιείτε
θέλει γάρ ό θεός όρθος έσφυδωμένος
δια μέσου βαδίζειν
Освободите место,
Для бога освободите!
Ибо бог, стоящий прямо (erect), готовый выплеснуть желание, желает шествовать среди людей.
«В древнем мышлении не вызывало сомнения, что образ мира, его суть, первородное божественное вещество в различных его обличьях являются в Слове. В связи с указанным английским словом следует сопоставить исл. stupa «мировое древо, божественный половой член, божественный столб», которому поклонялись язычники: вертикальное положение, в отличие от горизонтального, согласно древним поверьям, олицетворяло все божественное. С другой стороны, следует принять во внимание др.-инд. stupa «бездна, яма, нижний мир, вульва» [3, с. 161]. По мнению М.М. Маковского, в понятиях древнего человека создание первопричины вселенной (звука, слова) связано именно с божественным соитием. Космогоническая вульва у язычников служила также в качестве вселенского алтаря для приема жертвоприношения в виде огня, мужского начала.
Видим у Гесиода в «Трудах и днях» (перевод В.В. Вересаева [12]): ῥέα μὲν γὰρ βριάει, ῥέα δὲ βριάοντα χαλέπτει, ῥεῖα δ᾽ ἀρίζηλον μινύθει καὶ ἄδηλον ἀέξει, ῥεῖα δέ τ᾽ ἰθύνει σκολιὸν καὶ ἀγήνορα κάρφει Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, ὃς ὑπέρτατα δώματα ναίει.
Силу бессильному дать и в ничтожество сильного ввергнуть, Счастье отнять у счастливца, безвестного вдруг возвеличить, Выпрямить сгорбленный стан или спину надменному сгорбить – Очень легко Зевсу громовержцу, живущему в вышних.
Отображение маскулинности как метафорического противопоставления «прямого» и «кривого» и антитетической метафоры в «выпрямлении кривого», по мнению К. Уоткинса [17, с. 100], относится к области человеческих универсалий. Гесиод показывает, что Зевс обитает на высоте, утверждая господство и власть благодаря своему высокому положению.
«Небо» и «высоту» видим и в древнегерманской «Юдифи» (строки 88–90):
Forġif mē, sweġles Ealdor, sigor ond sōðne ġelēafan, þæt iċ mid þȳss weorde mōte ġehēawan þysnem orðres bryttan.
Подари мне, Отец небесный, победу и твердую веру, что бы я могла этим мечом сразить разящего.
В том числе здесь проявляется возможность бога дарить, подчеркивается связь между божественной милостью и мужскими достижениями. Молитва и ее цель иллюстрируют слияние веры, божественной помощи и маскулинной силы, когда успех достигается не только за счет индивидуальных усилий, но и является даром свыше в награду за твердую веру от маскулинного существа.
Обратимся к наиболее значимым памятникам древнегерманской литературы. Рассмотрим поэму «Беовульф» в качестве примера древнегерманского понимания спациальности в связи с гендерной концептуализацией. Поэма отражает древнегерманское понимание маскулинности через физическую силу, мужество и боевое мастерство. Беовульф воплощает этот идеал, побеждая чудовищ (Гренделя, его мать, дракона), что подчеркивает мужское начало как активный, упорядочивающий принцип [1, с. 34]. Королевская власть (Хродгар, Беовульф) также связана с мужской ответственностью за защиту народа и поддержание порядка [Там же, с. 42–43].
Женщины в «Беовульфе» выполняют вспомогательные роли: королева Вальхтеов символизирует гостеприимство и гармонию, а матери Гренделя присущи разрушительные черты, искажающие феминный идеал [Там же, с. 646]. В отличие от «Эдды», где женщины (Брюнхильд, Гудрун) активны и мстительны, в «Беовульфе» они пассивны.
В «Эдде» маскулинность также связана с воинской доблестью (Тор, Сигурд), но дополняется мудростью и магией (Один). Герои борются с судьбой, что соответствует активному мужскому началу [Там же, с. 289]. «Прорицание вельвы» подчеркивает предопределенность, но мужские фигуры стремятся влиять на ход событий [Там же, с. 183].
Как и в «Беовульфе», героями «Эдды» движет стремление к вечной славе. Их деяния воспеваются в песнях и историях, гарантируется, что наследие распространится и за пределы их земной жизни. Идея храбро погибнуть в бою и быть избранным валькириями в Валгаллу является ключевым выражением этого стремления к бессмертному наследию.
В «Эдде» женщины часто обладают даром предвидения. Прорицательницы (völur) играют ключевую роль в предсказании событий, включая Рагнарек, но их сила обычно пассивна – они больше сосуды знания, чем активные деятели
Богини, такие как Фрейя, связаны с плодородием, любовью и магией, но их роль сложнее: Фрейя сочетает воинственность с заботой о домашнем очаге. Валькирии – смесь свободы и подчинения: они выбирают павших воинов по воле Одина, но также влияют на исход битв («Речи Гримнира»). Подобно матери Гренделя в «Беовульфе», они демонстрируют активную, даже воинственную роль, не сводясь к традиционным рамкам. Хотя материнские роли в «Эдде» менее выражены, женщины важны как хранительницы очага. Феминные символы (ткацкий станок, веретено) связывают их с магией и судьбой, подчеркивая влияние через косвенные средства.
Как и в «Беовульфе», спациальные метафоры «Эдды» способствуют концептуализации гендерных аспектов. Так, присутствует связь маскулинного с высоким, внешним пространством (поля сражений, чертоги богов и бескрайний космос). Феминное связано с внутренним, нижним пространством. Хотя женские фигуры в «Эдде» и не ограничиваются исключительно домашней сферой, как в «Бео-вульфе», они чаще ассоциируются с пространствами пророчества и магии, сферами, связанными с глубокими знаниями и пониманием. Однако у них нет маскулинной возможности действовать во внешнем мире. Женские фигуры часто ассоциируются с восприимчивой или пассивной ролью в получении знаний или в указаниях на судьбы героев посредством пророчеств. Эта роль не обязательно слабая, но это сила иного рода, чем активная маскулинная.
Роль пророчиц (völur) в «Эдде» представляет собой парадокс: обладая знанием о судьбах богов и людей, они остаются фигурами, лишенными возможности изменить предсказанное. Например, в «Прорицании вельвы» провидица подробно описывает Рагнарек, но не вмешивается в события. Это создает двойственность: с одной стороны, женщины наделены сакральной властью, с другой – их функция ограничена пассивным провидением. Подобная амбивалентность отражает конфликт между архаичным представлением о женщинах как носительницах тайного знания и патриархальной структурой, где активное действие остается прерогативой мужчин.
Исследования скандинавского права (например, законы Гулатинга и Фростатинга) показывают, что женщины в древнегерманском обществе обладали значительными правами: могли наследовать имущество, инициировать развод и даже участвовать в родовых междоусобицах как полноправные мстительницы. Например, в «Саге о Ньяле» героиня Халльгерд активно влияет на ход конфликта, демонстрируя автономию, редкую для средневековых текстов. Это противоречит упрощенному взгляду на феминное начало как исключительно «внутреннее» и подчиненное, указывая на существование альтернативных моделей феминного в дописьменную эпоху.
Говоря о направлениях верх – низ, стоит отметить и горизонтальную оппозицию левый – правый. В древнеанглийском языке данная ассоциация иллюстрируется не только семантической мотивировкой swidra («правая рука» как существительное и «правый» как прилагательное), но и контекстами памятников, где правая рука часто описывается как агрессивная, держащая меч. Наименования мужского пола в древнеанглийском, такие, как waepnedhand (букв. «вооруженная рука») или spere-healf (букв. «копье-сторона»), также отсылают к этой дихотомии. В начале среднеанглийского периода происходит семантический переход «слабый» (ср. др.-англ. lyft) – «левый». Вероятна также и связь англ. left «левый» с женским началом (др.-англ. hlaefdige «женщина»).
М.М. Маковский предлагает оригинальную этимологическую связь древнеангл. riht «правый» с др.-англ. rinc, др.-сакс. rink, др.-исл. rekkr «человек; мужчина» [3, с. 208]. В основе данной попытки объяснения происхождения riht лежит универсальный мифологический признак связи мужского начала с правой рукой (стороной). Известны запреты использовать левую руку для обычных действий, связанные с воспитанием праворукости во всех обществах (в частности, обязательное предписание держать оружие в правой руке), что имело своим следствием выделение левой руки как священной [5, с. 41].
Таким образом, список меток маскулинной концептуализированной области: самец, верх, высота, прямота, небо, север, война, битва (поле битвы), море, медовый зал, дар, меч, щит, доспехи, мед, корабль, король, правая сторона; феминной концептуализированной области: самка, низ, низина, юг, земля, очаг, плодородие, королева, левая сторона (см. табл.).
Таблица
Метки маскулинного и феминногов древнегерманской культуре
|
Категория |
Маскулинность |
Феминность |
|
Пространство |
Верх (Асгард), небо, поле битвы, море |
Низ (Хельхейм), земля, дом, подземный мир |
|
Артефакты |
Меч, щит, доспехи, корабль |
Веретено, ткацкий станок, очаг |
|
Социальные роли |
Воин, король, жрец |
Пророчица, королева, мать |
|
Символы |
Прямота, сила, дарение (мед, оружие) |
Плодородие, цикличность, судьба (нить) |
|
Мифологические фигуры |
Один, Тор, Беовульф |
Фрейя, Хель, валькирии |
Заключение
Проведенное исследование позволило выявить ключевые закономерности в концептуализации маскулинного и феминного начал в древнегерманской культуре, были прослежены их истоки в индоевропейской традиции и трансформация под влиянием христианизации. Анализ языковых, мифологических и литературных источников подтвердил, что гендерные роли в древнегерманском обществе формировались под воздействием как архаичных космогонических представлений, так и социальноэкономических факторов, включая скотоводство и воинскую культуру.
Основные выводы исследования:
-
1. Пространственная символика гендера демонстрирует устойчивую связь маскулинного с верхом (Асгард, небо, высота), прямотой и активным действием, тогда как феминное ассоциируется с низом (Хельхейм, земля), цикличностью и восприимчивостью. Эта дихотомия отражает патриархальную структуру индоевропейского мировоззрения, где мужское начало доминирует в сакральной и воинской сферах, а женское – в природно-хтонической.
-
2. Мифологические и литературные образы (Один, Тор, Беовульф, Фрейя, Хель) подтверждают бинарность гендерных ролей, но также выявляют ее амбивалентность: женщины в эддической поэзии и сагах обладают значительной агентностью (пророчицы, валькирии, мстительницы), что контрастирует с их подчиненным положением в христианизированных текстах («Беовульф», агиография).
-
3. Влияние христианства привело к ужесточению гендерной бинарности: языческая амбивалентность (воинственная Фрейя, мудрый Один) сменилась дихотомией Девы Марии и Евы, а героические идеалы мужественности дополнились моральными категориями смирения и греха. Однако архаичные представления сохранились в фольклоре и переходных текстах («Видение Креста», заклинания), где языческие символы (Мировое Древо – Крест) переосмысляются в христианском ключе.
-
4. Лингвистические данные (этимология, семантика пространственных маркеров) подтверждают универсальность связей:
-
– Маскулинное: правосторонность (riht – «правый» и rinc – «мужчина»), вертикальность (столб, меч), дарение (мед, оружие).
-
– Феминное: левосторонность (lyft – «левый»), горизонтальность (земля, ткачество), плодородие (земля, матка).
Перспективы дальнейших исследований включают сравнительный анализ с другими индоевропейскими традициями (кельтской, славянской, индоиранской) для выявления универсальных и уникаль- ных черт гендерной концептуализации; внедрение археологического аспекта – изучение погребальных практик и предметов материальной культуры (оружие, украшения) для реконструкции реальных социальных ролей женщин и мужчин; синтез когнитивной лингвистики – исследование метафорических моделей (например, «жизнь – путь», «власть – высота») в контексте гендерных стереотипов; изучение рецепции архаичных образов в современной культуре (неоязычество, фэнтези-литература), где древнегерманские персонажи часто интерпретируются через призму современных гендерных дискурсов.
Древнегерманская культура, несмотря на внешнюю жесткость гендерных границ, демонстрирует сложное взаимодействие архаичных амбивалентных образов и позднейших бинарных конструкций. Ее изучение позволяет не только реконструировать прошлое, но и понять механизмы формирования культурных стереотипов, продолжающих влиять на современное восприятие маскулинности и феминности. Дальнейшие междисциплинарные исследования в этом направлении могут раскрыть новые аспекты взаимосвязи языка, мифа и социальных структур.