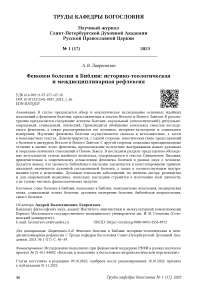Феномен болезни в Библии: историко-теологическая и междисциплинарная рефлексия
Автор: Лаврентьев Андрей Валентинович
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 1 (17), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается обзор и аналитическое исследование основных идейных положений о феномене болезни, представленных в текстах Ветхого и Нового Заветов. К рассмотрению предлагаются следующие аспекты болезни: каузальный (этиологический), ритуально-сакральный, социальный, этический. Производится обобщение комплекса смыслов исследуемого феномена, а также рассматривается его духовное, историко-культурное и социальное измерения. Изучение феномена болезни осуществляется сначала в ветхозаветных, а затем в новозаветных текстах. Демонстрируется, с одной стороны, генетическая связь представлений о болезни в дискурсах Ветхого и Нового Заветов. С другой стороны, показаны принципиальные отличия в оценке этого феномена, произошедшие вследствие выстраивания новых духовных и морально-этических отношений в Новом Завете. В последнем разделе представлено обсуждение актуальности суммы идейного комплекса, содержащегося в текстах Священного Писания, применительно к современному осмыслению феномена болезни в рамках наук о человеке. Делается вывод, что ценность библейского наследия заключается в констатировании принципиальной значимости духовной составляющей болезни, а также в соответствующем выстраивании пути к исцелению. Духовная этиология заболеваний, по мнению автора, релевантна и для современной медицины, поскольку последняя стремится к излечению всей личности, а не только частных физиологических недугов.
Болезнь в библии, исцеление в библии, новозаветные исцеления, медицинская этика, социальный аспект болезни, духовное измерение болезни, библейская антропология, смысл болезни
Короткий адрес: https://sciup.org/140297590
IDR: 140297590 | УДК: 616-092.11:27-277+27-18 | DOI: 10.47132/2541-9587_2023_1_46
Текст научной статьи Феномен болезни в Библии: историко-теологическая и междисциплинарная рефлексия
About the author: Andrey Valentinovich Lavrentiev
Associate Professor at the Sechenov First Moscow State Medical University (Se-chenov University).
Funding: The reported study was funded by RFBR, project number 21-011-44082 “Disease and healing in the theological and anthropological perspective”.
The article was submitted 09.10.2022; approved after reviewing 18.10.2022; accepted for publication 01.11.2022.
Тема болезни и исцелений является одной из значимых для книг Св. Писания. Вследствие этого она регулярно становилась предметом рефлексии в экзегетической традиции, богословской науке, а также в иных современных гуманитарных дисциплинах. Особое внимание данной тематике уделялось в критических библейских (прежде всего, западноевропейских) исследованиях в рамках изучения новозаветных чудес1.
Развёрнутые либо краткие описания случаев исцелений разного рода болезней достаточно многочисленны в текстах Библии. При этом данным повествованиям совершенно не свой ственен характер медицинского протоколирования, тщательного описания деталей тех или иных заболеваний. Они направлены, прежде всего, на изложение той ситуации, в которой оказался больной человек, и на описание пути его исцеления. Таким образом, данные повествования обладают, прежде всего, духовной ценностью, являясь парадигмальными для духовного возрастания человека. В то же время они являются значимыми и в качестве основания для разработок в области богословской антропологии. Кроме того, данные нарративы представляют интерес для различных научных дисциплин. Так, например, библейские патологические кейсы являются предметом обсуждения в медицинских и психологических исследованиях. Здесь, в частности, предпринимались попытки поставить диагноз заболеваниям, упоминаемым в библейских текстах, а также вскрыть возможные психические причины этих болезней или их исцеления2.
В то же время чисто медицинские или психологические интерпретации случаев заболеваний, упоминаемых в Библии, разумеется, не будут выражать основного смыслового содержания этих текстов и являются в этом отношении второстепенными (хотя и не лишенными значимости). Это связано, во-первых, с тем, что в Библии отсутствует разделение человека на душу и тело (в платоническом смысле), а во-вторых, с тем, что мотивация данных нарративов главным образом богословская, выходящая за пределы научной медицины (например, идея божественного воздействия). Тем не менее общее как для библейских исследований, так и для медицины — это человек. В связи с этим опыт переживания болезни и выздоровления, содержащийся в Св. Писании, вполне оправданно должен рассматриваться в качестве релевантной составляющей антропологических оснований в теории и практике современной медицины3.
Отечественные исследования по предлагаемой теме в настоящее время немногочисленны4. В области богословского знания данная тематика представлена, как правило, в разделах пособий по догматике и богословской антропологии5. В области прочих гуманитарных дисциплин рассматриваются частные вопросы в узко дисциплинарном ракурсе6.
В предлагаемой статье мы намерены обратиться, с одной стороны, к обзору основных, на наш взгляд, идейных положений, заключённых в текстах Ветхого и Нового Заветов и, с другой стороны, попытаться осмыслить их в свете развития нынешней богословской науки в её междисциплинарном взаимодействии.
Ветхозаветные представления о болезни
Традиционно понимание болезни и здоровья опирается на антропологические представления, которые в рамках Ветхого Завета некоторые исследователи называют также констеллятивной антропологией7. Человек Древнего Израиля мыслился одновременно в трех измерениях: индивидуальном, социальном и символическом. При этом превалирование того или иного измерения зависело от литературного профиля и исторической датировки текста. Характерным для ветхозаветной антропологии следует прежде всего назвать связь тела с жизненной силой души. Кроме того, поскольку тело — это реализация человека в этом мире, то конститутивным для ветхозаветного понятия личности наряду с телесной была и социальная сфера.
Религиозный, социальный, а также биографический аспекты предстают намного более значимыми в текстах книг Ветхого Завета, нежели медицинские частные вопросы. В ветхозаветном контексте болезнь представляется «нарушением богосотворенной целостности человеческой жизни и нарушением богосотворенного благого порядка»8. Это ограничение жизненной энергии, состояние бессилия и ослабленности, доходящее до ощущения близкой смерти, которое также уподоблялось состоянию удаленности от Бога. Одновременно с этим болезнь обусловливала и общественную изоляцию, разрушая, таким образом, возможность полноценной социальной коммуникации.
Болезнь регулярно рассматривалась как средство наказания человека за его ошибочные действия, часто расцениваемые как грех (ср., напр.: 2 Макк 7:32; Иов 4:8–9; 3 Цар 17:17–18; Ис 53:4–5). Ветхозаветные тексты дают нам представление о явной причинно-следственной связи между грехом и наказанием за него. Дурной поступок неизменно влечёт за собой дурное последствие для совершившего, что может выражаться и в виде болезни. Эта связь поступка и последствия развивается и осмысляется в двух библейских традициях — в т.н. традиции премудрости и традиции пророчества. Если в традиции премудрости речь идет о частной, индивидуальной судьбе, то пророчества затрагивают тему коллективной ответственности за поступки. Индивид тесным образом вплетен в жизнь общества, вследствие чего несет и общую ответственность9.
Впрочем, не всегда эта связь греха (вины) и болезни / страдания была очевидна. Особенно проблематичным это было в случае болезни и страдания праведников. Однако даже в отсутствие видимых эмпирических и рациональных аргументов для объяснения, существовало твёрдое убеждение в том, что Бог по каким-то неведомым человеку причинам допустил случившееся. Ветхозаветный праведник в данном случае принимает болезнь и страдание как должное, не воздвигая ропота на Бога (пожалуй, наиболее ярким и известным примером здесь может послужить праведный Иов: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими» (Иов 2:10)).
При таком понимании болезни как наказания, либо как следствия за дурные поступки только плач и исповедание своих грехов представлялись адекватными действиями. Осознание и исповедание грехов даёт возможность изменить ситуацию: «Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего» (Пс 31:5).
Поскольку основной причиной болезней считалось нарушение отношений с Богом, больной был заинтересован прежде всего в том, чтобы молитвой, плачем и жертвами восстановить эти отношения и тем самым избавиться от болезни. В предельном смысле единственным врачом и исцелителем в Ветхом Завете предстает Сам Господь: «Я Господь [Бог твой], целитель твой» (Исх 15:26); «Ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их; Он поражает, и Его же руки врачуют» (Иов 5: 18).
В определенных случаях возложение упования исключительно на врачей, а не на Бога порицается (ср. 2 Пар 16:12: «Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей»).
В то же время идея корреляции вины и наказания твёрдо сохранялась в ветхозаветном сознании. Это обстоятельство, впрочем, приводило и к построению обратной логической последовательности, когда наличие болезни считалось признаком греховности больного человека. Именно этой логикой руководствовались друзья праведного Иова (см. особенно третью речь Ели-фаза в Иов 22:2–11). Один из корифеев западной библейской науки прошлого столетия Г. Гункель говорил об этом следующее: «Вместо веры в бесчисленные демонические силы… здесь мы имеем дело с рациональной теорией, подводящей определенное и явное обоснование для болезни страждущего. Это широко распространенное в Израиле учение о воздаянии»10. К сожалению, такой подход давал основание для презрения больных людей. Это — уже социальный аспект болезни, доставляющей не только телесные, но и душевные страдания, связанные с общественной отчужденностью.
Таким образом, болезнь обладала и социальным измерением, поскольку коммуникация сообщества с больным индивидом была принципиально иной, нежели здорового: одновременно с болезнью зачастую наступала и социальная изоляция. Нередко в данных случаях можно говорить и о «социальной смерти» больного, который еще при жизни словно умер для своего окружения (ср., напр., Иов 2). Страдания больного человека вследствие изменившегося к нему отношения со стороны окружения нередко становятся на передний план ветхозаветных нарративов. Физические страдания от болезни в этих повествованиях зачастую очень тесно переплетаются с душевными, переживаемыми вследствие разрыва с социальной средой.
В рамках священнического мышления болезнь зачастую рассматривалась с точки зрения нечистоты, а потому ассоциировалась с неспособностью к участию в ритуальной жизни. В книге Левит (Лев 13 и дал.) перечисляются многочисленные кожные заболевания, влекущие за собой ритуальные запреты. Принципиально нечистыми считались прокаженные, которые жили за пределами поселений и были обязаны громко предупреждать о своей проказе (нечистоте) (Лев 13:45 и дал.). Ритуальная и нравственная нечистота рассматривались при этом как явление одного порядка11. Естественно, что ответственными за распознавание соответствующих симптомов были священники. О существовании в те времена профессионального врачебного сообщества едва ли можно говорить. Сведущими во врачебном искусстве могли быть пророки (Ис 38:1; 4 Цар 1; 4 Цар 4 и дал.; 4 Цар 20:1–11; и др.), мудрые мужчины и женщины, а также повивальные бабки (акушерки).
Причину возникновения болезни могли видеть в действии персонализированной губительной силы (например, злого духа в 1 Цар 16:14–15, сатаны в Иов 2:5–7). Впрочем, эта сила могла лишь приблизиться к человеку, тогда как её губительное воздействие — болезнь — начиналось только после оставления человека спасительным присутствием Божьим, когда Бог Сам попускал страдание для одного или множества лиц. В таком контексте болезнь рассматривается как педагогическое воздействие Божье, наказывающее и таким образом научающее как отдельного человека, так и целый народ: «За то, вот Господь поразит поражением великим народ твой™ тебя же самого — болезнью сильною, болезнью внутренностей твоих до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день» (2 Пар 21:14–15); «И облако отошло от скинии, и вот, Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот, она в проказе» (Числ 12:10); «И сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать Меня народ сей? и доколе будет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди его? поражу его язвою и истреблю его…» (Числ 14:11–12).
Одним из ярких пассажей, демонстрирующих педагогический смысл страданий, является речь Елиуя: «Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих» (Иов 33:14–19).
Таким образом, различными способами, в том числе и страданиями болезни, Бог отводит человека от более серьёзных преступлений, которые могли бы его совершенно погубить.
Как и болезнь, наказанием Божиим считалось бесплодие (ср. Быт 16:2; 20:18; Исх 23:26). Бесплодие рассматривалось в основном как женская проблема (Быт 11:30; 25:21; и др.), именно женщина считалась лишённой такого рода благословения свыше, вследствие чего она должна была молиться о даровании ей возможности родить (ср. 1 Цар 1:5 и дал.). Впрочем, известны и случаи молитвы мужчин о разрешении бесплодия своих жен (ср. молитву Исаака о Реввеке (Быт 25:21))12. Бесплодие накладывало негативный отпечаток не только в пределах рода, но также отягчало отношения между супругами, вследствие чего мужчина мог взять другую жену для рождения детей (ветхозаветные повествования свидетельствуют о терпимом отношении к полигамии, особенно когда речь шла о продолжении рода).
Иногда в рамках личного богооткровения (например, Аврааму) или пророческого видения (например, Ос 1; Ис 7 и дал.) ясно возвещалось благословение потомством, даже когда внешние признаки и физическое состояние (например, преклонный возраст) явно противоречили этому13. В пророческих провозвестиях также даются указания на предстоящее исцеление или, напротив, заболевание (ср., напр., повествование о Неемане Сириянине и Гиезие в 4 Цар 5). Всё это подтверждает, что, согласно ветхозаветным представлениям, здоровье и болезнь, благословение детьми и бесплодие находятся в воле Господней.
Стоит упомянуть и еще об одном смысловом аспекте страданий в Ветхом Завете — заместительном страдании, когда индивид или группа берёт только на себя бремя ответственности (наказания), которое должны понести и другие. В качестве примера можно привести т.н. «бедных» (anawim), которые многократно упоминаются в Псалтири как хранящие правду Израиля среди грешников. Ради сохранения Закона они претерпевают многие страдания, лишения и притеснения (ср. Пс 9:11; 12). Также в числе пострадавших за будущее избранного народа можно назвать пророка Моисея, который принял на себя гнев Божий вместо всего народа, вследствие чего не вошёл в обетованную землю (Исх 32:32; Втор 1:37; Пс 106:21, 23). О заместительном характере страданий отчетливо говорится в пророчестве Исайи об Отроке Господнем (Ис 53:4 и дал.). Даже если рассматривать данный отрывок исключительно в ветхозаветном контексте (опуская его основной смысл как провозвестия о будущих страданиях Богочеловека), то мы встретимся с нарушением привычной логики «болезнь / страдание — следствие воздаяния за грехи».
Таким образом, в контексте Ветхого Завета можно выделить следующие виды интерпретаций болезни и страданий:
-
1) Болезнь и страдания не имеют смысла, а потому должны быть остановлены действием Божьим. Единственное, что данном случае может человек — это плач и воздыхание о непонятных для него тяготах.
-
2) Болезнь и страдания суть наказание за конкретные грехи, закономерное следствие нечистоты (как нравственной, так и ритуальной). В этом случае необходимы раскаяние, исповедание, исправление и соответствующие обряды очищения и жертвы.
-
3) Болезнь и страдания — знак промыслительного действия Божьего, посредством которых Он научает правым путям и воспитывает духовную зрелость у индивида или общества. В данном случае следует принимать страдания, размышлять об их смысле и смиренно полагаться на промысл Божий.
-
4) Болезнь и страдания имеют смысл заместительного искупления.
Хотя эти толкования совершенно различны, не следует их противопоставлять друг другу. Дело в том, что в Библии предлагается разнообразная интерпретация болезни и страданий, в зависимости от конкретного случая. В то же время следует признать, что превалирующим является мнение о каузальной связи болезни и вины (греха, нечистоты). Однако оно не упраздняет возможности наличия других видов толкования. Так, например, в позднем ветхозаветном периоде отчетливо формируются представления о заместительном и искупительном характере страданий, которые стали практически центральными в Новом Завете.
Болезнь и исцеление в новозаветной перспективе
Повествования об исцелениях в Новом Завете можно условно разделить на два вида: экзорцизмы и собственно исцеления. В отличие от экзорцизмов, исцеления практически не содержат каких-либо демонологических мотивов14. Болезнь обозначается как состояние слабости, как «отсутствие живительной силы»15. Однако недуг отступает, как только человек получает от Бога эту целительную силу. Такое представление достаточно близко к ветхозаветному пониманию болезни. Существование больного человека сродни безнадёжной ситуации, обусловленной резким сокращением срока жизни.
Социальный статус больного во время земной жизни Иисуса Христа также рассматривался в рамках ветхозаветных предписаний. Примером может служить кровоточивая женщина, прикоснувшаяся ко Христу и получившая исцеление (Лк 8:43–49). Вследствие своей болезни она считалась нечистой и была вынуждена вести достаточно маргинальный образ жизни16. Таким же примером являются прокажённые, исцелённые Христом (Лк 5:12–14). В то же время существенная разница между ветхозаветными и новозаветными повествованиями о болезнях заключается в индивидуализированном характере болезни в Новом Завете, в котором не содержится описаний общественных недугов или страданий целого народа.
Евангелист Лука для обозначения силы Христовой употребляет образ «перста Божьего», которым Иисус изгоняет бесов (Лк 11:20). Тем самым исцеления расцениваются как дела Божии, а утверждение Ветхого Завета о том, что только Бог является истинным врачом и исцелителем, никак не упраздняется. Интересен тот факт, что в новозаветном тексте Иисус не называется врачом, а врачебная профессиональная деятельность оценивается не столь высоко (ср., например, Лк 8:43). Это обстоятельство может быть указанием на сложившееся представление о врачевании как о слабом и, возможно, самонадеянном человеческом усилии справиться с болезнью, что могло расцениваться как своего рода посягательство на монополию исцеляющей силы Божией. Однако Иисус и Сам исцелял больных и наделил учеников силой исцелять Своим именем, что свидетельствует о Его божественной власти.
В отличие от превалирующего в Ветхом Завете понимания болезни как следствия греха, в Новом Завете отрицается однозначность такого истолкования (ср. слова Христа о галилеянах и о погибших от Силоамской башни (Лк 13:1–5)). В осуждении страдающих как грешников Иисус распознавал самомнение самих осуждающих, их ошибочную предубежденность в собственной праведности и свободы от греха, отчего призывал их самих покаяться перед грядущим судом Божьим. Особенно ярко отвержение идеи воздаяния (болезнь — наказание за совершённые грехи) проявилось в исцелении слепорождённого (Ин 9:1–10). В то же время связь болезни и греха принципиально не отвергается в новозаветных текстах, однако приобретает более глубокий смысл: болезнь — это страдание всего человека, указывающее на нарушенные отношения (связь) с Богом. Болезнь, таким образом, является выражением потребности в спасении всего существа человека.
Анализ новозаветных текстов свидетельствует и о чрезвычайной значимости мотива веры. Во многих случаях вера является необходимым условием для исцеления (ср., напр., Лк 8:48). Не видя возможности исцелиться человеческими силами, больному остаётся единственная надежда на сверхчеловеческое, божественное избавление. Именно побуждение веры сподвигло кровоточивую женщину прибегнуть к целительной силе Христовой. И эта вера не оказалась напрасной, подтвердившись самим фактом исцеления и словами Иисуса: «Дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя» (Лк 8:48).
Болезнь рассматривается как повреждение или вторжение в целостность человеческой личности. Человек становится словно вместилищем болезни, местом её паразитирования и тем самым словно привязан к ней, её пленник. В процессе же исцеления он получает освобождение именно как полноценная личность. Моментом начала исцеления является зачастую общение, диалог между Иисусом и больным. При этом исцеление означает не просто восстановление функций организма и способность к свободе действий тела. Происходит не просто возвращение в прежнее «здоровое» состояние, а переход исцелённого в принципиально новый онтологический статус.
В новозаветном контексте исцеление расценивается как спасение, или как начало спасения, т. е. восстановления нарушенной связи с Богом. В связи с этим исцеления в Новом Завете — признак приближающегося Царствия Божьего, а потому они приобретают эсхатологическое измерение. Человек приобретает и восстановление своих жизненных способностей, данных ему Творцом, и реализует их в познании троичного божественного господства. Таким образом, получая исцеление, человек видит и себя участником Царствия Божьего, становится частью нового творения. Всё это в концепции Евангелия является наглядным примером предвосхищения эсхатологического спасения мира.
В разных исследованиях понятия «здоровье» и «исцеление» могут употребляться и как синонимы, и как слова, имеющие разные смысловые коннотации. В новозаветных текстах понятие здоровья определяется как витальность, жизненная сила и телесная неповреждённость. Здоровье обусловливает целостность человеческой личности и свободу развития заложенного Богом жизненного потенциала. Согласно библейской типологии исцелений, здоровье человека включает в себя следующие составляющие: восстановление жизненной силы, способность воспринимать действительность, способность к получению и обмену знанием в акте коммуникации, возвращение социальной полноценности. Для получения здоровья требуется изменение греховного образа жизни, собственная инициатива и устремлённость человека или содействие со стороны его окружения (ср. историю о действиях друзей расслабленного в Мк 2:3–5; Лк 5:18–20). В то же время исцеление можно рассмотреть как понятие более высокого уровня, поскольку оно предполагает не только телесную цельность, но и восстановление духовной связи с Богом, ведущей к вечному (эсхатологическому) спасению.
Библейские представления в контексте современного богословского понимания болезни и исцеления
Библейские тексты о болезни получили масштабную рецепцию в христианском богословии, вероучении и церковной практике, а также инициировали самые разнообразные виды социальной активности17. Общим для этих текстов является многомерность понятия болезни, имеющей телесный, социальный и религиозный уровни. Такая перспектива помогает преодолеть всё ещё достаточно влиятельный дуализм души и тела, а также различные редукционистские толкования. Библейское комплексное понимание болезни задаёт критический масштаб как для исторических, так и для современных богословских и этических интерпретаций болезни и здоровья, выступая, таким образом, платформой для богословской антропологии (например, в рассмотрении категории телесности).
Болезнь в библейском контексте практически всегда представлена как жизненный кризис человеческой личности, разрушение Богом данного порядка и смертельная угроза. Такое представление не всегда полностью коррелирует с современным, поскольку не всякое заболевание несёт в себе радикально критическое состояние или предполагает социальную дискриминацию. Но несмотря на это библейские тексты всё же отражают многочисленные стороны экзистенциального опыта человека в состоянии болезненности. В силу этого Св. Писание — важнейший источник для практической теологии в деле душе-попечения и каритативной практики, осуществляемой в больницах. Писание наглядно демонстрирует, что болезнь — это не просто сбой функционирования какого-либо органа или системы организма, а событие экзистенциального характера, оказывающее воздействие на саму личность. Библейский концепт болезни противопоставлен в этом отношении современному натуралистскому, который сводит болезнь к разряду исключительно телесных явлений. Ввиду этого Библия обладает особым потенциалом, дополняющим современное понятие болезни как в медицинской в частности, так и в социальной сфере в целом18.
Состояние болезни, её присутствие в жизни человека предстаёт в библейском миропонимании как постоянная характеристика человеческого существования. Такое понимание очевидно противоречит современному утопическому стремлению избежать любого вида страдания. В то же время в священном тексте мы постоянно находим устремления к исцелению, указания на путь исцеления.
Нарративы Св. Писания свидетельствуют, что болезненное состояние определяло также социальную роль человека. Во-первых, больной человек лишался самостоятельности, уже не мог рассматриваться как полноценно действующий субъект общества. Как правило, ему доставалось достаточно маргинальное положение, обычно в роли нищего. Социальные последствия болезни отчасти принимали и крайние формы, выбрасывая несчастного на обочину общества. Тем самым подчеркивалось, что болезнь — это социальный, а не только биологический (медицинский) феномен.
В таких условиях больной предстаёт скорее как объект, а не субъект общества, поскольку положение вещей напоминает о его несамостоятельности и ущербности, что, несомненно, влияет и на самовосприятие и самооценку. Подобную ситуацию можно экстраполировать и на жизнь современного общества, когда больные (пациенты) могут чувствовать себя ущербными и несамостоятельными, а потому и несостоятельными как личности. В связи с этим особенно важно помнить и осмыслять характер новозаветных исцелений, когда больному человеку возвращалось не только телесное здоровье, но и духовно- личностная полноценность. Таким образом, вопрос напрямую затрагивает область современной этики медицины, поскольку «объектное» отношение к пациенту многие десятилетия вырабатывалось в лоне нововременной естественнонаучной медицины19.
Ветхозаветные тексты особенно часто демонстрируют телесные ограничения как своего рода помеху общественному порядку и единству. В этом отношении можно провести определённые параллели с современными представлениями об идеальном теле. Впрочем, эти перфекционистские представления теряют свою оправданность в евангельском контексте: Христос обращается к тем членам своего общества, которые были неидеальны как в телесном (больные), так и в нравственном отношении (мытари, грешники). Тем самым Он разрушает прежние (зачастую актуальные и сегодня) стереотипы и установки, делая «последних первыми»: несовершенные во многих отношениях люди становились впоследствии образцовыми. Больные также становились свидетелями освобождающей животворящей силы провозвещенного Христом Царства Божьего. Евангельские исцеления, таким образом, обладают мощным нравственным потенциалом и в этом отношении могли бы служить (и отчасти служат) ориентиром для современной медицинской этики.
Следует назвать ещё одну значимую черту библейской понимания исцеления — это непременное со-участие больного в своём исцелении. Хотя исцеление однозначно признаётся божественным действием в Священном Писании, данное обстоятельство никак не исключает, а даже напротив — предполагает участие в этом процессе самого больного, что выражено на повествовательном уровне. Тем самым за больным признаётся его личность, и, соответственно, исключается «объектное» отношение к человеку. Достоинство личности страдающего индивида подчеркивается в диалоге, который всегда происходит между больным и исцеляющим (Христом или апостолами). Исцеление начинается всегда с момента озвучивания своей нужды. Кроме того, выражается также идея взаимопомощи и ответственности за больного со стороны ближайшего окружения (например, случай с расслабленным, которого принесли на постели — Мк 2:3-5; Лк 5:18-20). Таким образом демонстрируется многомерность пути к исцелению, в котором присутствует как личное, так и общественное (социальное) усилие.
Подводя итоги, можно заключить, что библейское наследие обладает богатым герменевтическим потенциалом, распространяющимся и на идею болезни, которая приобретает определенные концептуальные контуры в книгах Св. Писания. Специфика библейского понимания этого феномена заключается в антропологической концепции целостного человека, в основе которой лежит принцип единства человека с Богом, обусловливающего единство и гармонию его собственных жизненных сил. Такая концепция, безусловно, расположена в иной смысловой плоскости, нежели естественнонаучный взгляд на болезнь. Однако из этого не следует, что она радикально противоречит научно- медицинскому понятию болезни. Напротив, тот аксиологический и духовный потенциал, которым обладает библейская концепция, вполне органично вписывается в антропологическую модель современной медицины, устремлённой к лечению не столько биологического объекта, сколько к комплексной терапии личности.
Список литературы Феномен болезни в Библии: историко-теологическая и междисциплинарная рефлексия
- Грекова Т.И. Библия и медицина о здоровье и болезнях. СПб.: Нева, 2005.
- Грилихес Л., прот. Библейский взгляд на причины и сущность болезни // Слово. URL: https://portal-slovo.ru/impressionism/36202.php (дата обращения: 22.09.2022).
- Дамте Д. С. Психосоматическая медицина в контексте богословской рефлексии // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2022. Т. 40. С. 125-131.
- Кобелева Г.Ю. Концепты «Здоровье» и «Болезнь» в отражении русских пословиц и религиозных текстов // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2009. № 6. С. 169-176.
- Лаврентьев А.В. Философско-медицинский и теологический ракурсы осмысления феномена болезни // Христианское чтение. 2022. №4. С. 167-179.
- Рождественский В., прот. Библейский взгляд на происхождение и причины болезней // Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2016. № 2. С. 850-851.
- Собко Р.В. (иеромонах Лаврентий). Sancta Quarantena: чистота и нечистота в текстах Ветхого и Нового Заветов и их последующая интерпретация // Труды Нижегородской духовной семинарии. 2020. № 18. С. 173-191.
- Терлецкий О., Григорьев Г. Псориаз и кожные болезни в Библии // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Т. 15. №4. С. 220-228.
- Ткаченко А. А. Врачевание в античной средиземноморской культуре и раннехристианской традиции // Вестник ПСТГУ. Сер. 1: Богословие. Философия. 2005. № 14. С. 100-121.
- Шульга Е.Н. Медицина в эпоху Ветхого Завета: из истории гигиены и библейской практики врачевания // История медицины. 2014. №2 (2). С. 5-13.
- Edmonts S. Menschwerdung in Beziehung. Stuttgart/Bad Cannstatt, 1993.
- Grohmann M. Fruchtbarkeit und Geburt in den Psalmen. Tübingen, 2007.
- Gunkel H., Begrich J. Einleitung in die Psalmen. Die Gattungen der religiösen Lyrik Israels. Göttingen, 19854.
- Hagen T. Krankheit — Weg in Isolation oder Weg zur Identität. Theologischethische Untersuchung über das Kranksein. Regensburg, 1999.
- Handbuch theologischer Grundbegriffe zum Alten und Neuen Testament / Hrsg. A. Berlejung, C. Frevel. Darmstadt, 2006.
- Janowski B. „Heile mich, denn ich habe an dir gesündigt!" (Ps 41, 5). Zum Konzept von Krankheit und Heilung im Alten Testament / Hrsg. G. Thomas, K. Isolde. Krankheitsdeutung in der postsäkularen Gesellschaft. Stuttgart: Kohlhammer, 2009. S. 47-66.
- Kostka U. Krankheit und Heilung. Zum theologischen Verständnis von Gesundheit und Krankheit und zur therapeutischen Kompetenz der Theologie // Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften. 2006. №47. S. 51-76.
- Kostka, U. Der Mensch in Krankheit, Heilung und Gesundheit im Spiegel der modernen Medizin. Münster: Lit, 2000.
- Kunst A. Die Vorstellung von Zeugung und Schwangerschaft im antiken Israel // Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft. 1999. Vol. 111 (4). S. 561-582.
- Oeming M. Verstehen und Glauben. Exegetische Bausteine zu einer Theologie des Alten Testaments. Berling: Philo, 2003.
- Stricker H.-H. Krankheit und Heilung. Anthropologie als medizinisch-theologische Synopse. Neuhausen/Stuttgart: Hänssler, 1994.
- Theißen G. Urchristliche Wundergeschichten. Ein Beitrag zur formgeschichtlichen Erforschung der synoptischen Evangelien. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Mohn, 1974.