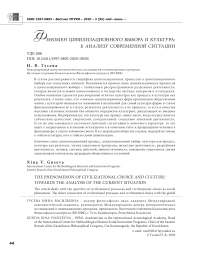Феномен цивилизационного выбора и культура: к анализу современной ситуации
Автор: Гусева Нина Васильевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: О будущем цивилизации и культуры
Статья в выпуске: 3 (95), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается специфика цивилизационных процессов и цивилизационного выбора как социумных явлений. Показывается прямая связь цивилизационных процессов и цивилизационного выбора с глобальным распространением разделения деятельности, которая является основой возникновения и господства частных интересов и отчуждения. Особое внимание уделяется рассмотрению отличия культуры как процесса и культуры как результата, а также тому, что «смычка» цивилизационных форм организации общественной жизни с культурой оказывается возможной в негативной для самой культуры форме в случае функционирования её в статусе результата деятельности, а не процесса, то есть в качестве массивов статичных явлений или объектов («предметов культуры»), допускающих их внешнее использование. Подчёркивается, что культура как процесс имеет место, когда осуществляется субъектами целостной, творческой, созидательной, социально значимой деятельности. Если же она замещается системами действий ситуативного, конечного характера, то это ведёт к закреплению и усилению отчуждения и в конечном счёте к превращению человека в функционера, к утрате человеком своего Я и к деградации общества в целом, ведущей не только к гибели культуры, но и к гибели самой цивилизации.
Цивилизационный процесс, цивилизационный выбор, культура как процесс, культура как результат, логика социальных процессов, целостная деятельность, разделённая деятельность, человек, системы действий, манипулятивность, замещение социальных связей социальными контактами, деградация общественных состояний
Короткий адрес: https://sciup.org/144160879
IDR: 144160879 | УДК: 008 | DOI: 10.24412/1997-0803-2020-10304
Текст научной статьи Феномен цивилизационного выбора и культура: к анализу современной ситуации
Отделение теоретической работы от практического исследования, как оказалось, рождает либо пустую, бездоказательную спекуляцию, либо бессвязное нагромождение данных.
Дэвид Бидни [8]
Подвижность, скорость современных мировых социальных процессов делают недопустимым любое пребывание в состоянии успокоенности по поводу уже свершившихся исследований, достигнутого понимания как существующего, так и ожидаемого будущего. Это означает, что жизненно важным не только для развития науки, но и для развития самого общества, в котором наука только и может существовать и развиваться, является «движение по логике» происходящих процессов, с тем чтобы отличить её от той логики, которая могла бы привести к результатам более положительным, чем существующая. Здесь надо различать, во-первых, логику движения социальных процессов в их цивилизационной определённости, то есть как процессов социумных, и, во-вторых, логику движения социальных процес- сов как процессов собственно культурных. Различение этих вариантов логики процессов, происходящих в обществе, основывается на различении сути, с одной стороны, цивилизации и, с другой стороны, культуры.
К различению цивилизационных и собственно культурных процессов
Цивилизация как способ организации общественной жизни (и, соответственно, цивилизационные процессы) имеет в качестве ведущих процессы использования того, что создано культурой и в культуре.
К цивилизационным процессам относятся процессы потребления, тиражирования, распределения, обмена, сохранения, передачи и т.п. Цивилизационные процессы имеют не созидательный, а манипулятивный статус. Ведь всякое потребление, распределение, обмен, распространение, сохранение и т.д. не предусматривает, по существу, создания чего-либо нового, если не считать новым некое прикладное знание, в котором использование оказывается изменённым по сравнению с первоначальным или исходным вариантом.
Культура как процесс всегда есть реальная, совершаемая деятельность, созидательная, творческая, социально значимая. Социальные процессы, построенные по логике культуры, по логике целостной деятельности, всегда имеют внутри себя отношения людей, построенные по типу связей , а не внешних контактов, или взаимодействий.
Отметим, что взаимодействия – это такой тип отношений между двумя или более сторонами, при котором каждая из сторон остаётся без качественного изменения в процессе и после взаимодействия. Связь же, напротив, это такое отношение, при котором стороны, вступающие в неё, приобретают новые качества, то есть происходит взаимный переход черт сторон, входящих в связь. Связи, в отличие от взаимодействий, имеющих внешний характер, характеризуют глубинные процессы, ведущие к единению людей и сообществ. Здесь уместно вспомнить отличие контактов и общения. Контакты выражают модель взаимодействий, а общение – характеризует логику связей. В социальных процессах, в которых преобладает логика связей, логика общения, то есть личностно заинтересованного участия в совместной целостной деятельности, есть вполне реальные условия сохранения человеческого потенциала каждого индивида, что не допускает замены человеческого на вещное, при котором сам человек получает статус объекта, подвергаемого использованию.
Для цивилизации жизненно важным является, чтобы культура продолжала развиваться и доставлять цивилизационным процессам всё новые и новые предметы для потребления, распространения или тиражирования, сохранения, распределения, передачи и т.д.
«Смычка» между цивилизационным и собственно культурным может возникать тогда, когда, с одной стороны, имеет место цивилизационный процесс, а с другой – выступает культура как результат . Подчеркнём необходимость отличать культуру как процесс от культуры как результата.
Культура как результат всегда выражена в предметах культуры, Предметом культуры может оказаться и уже сформированное знание, текст, картина художника, музыкальное произведение, построенное здание, завод, космический корабль, разработанные метод или методика и т.д.
Предметы культуры могут ожидать два варианта «судьбы»: либо распредмечивание , в котором будет восстанавливаться и воспроизводиться процессуальность их создания, с их смыслами и логикой, либо они не будут распредмечиваться, а будут просто использоваться в качестве неких «готовых» образцов, предметов, матриц и т.п., как самостоятельные объекты, в которых вся про-цессуальность их становления уже угасла. Здесь под использованием опять подразумеваются отмеченные выше варианты своего рода манипуляций: потребления, тиражирования, распространения, обмена и проч. Именно этот второй вариант позволяет осуществляться смычке цивилизационного процесса с культурой в представленности её как результата уже осуществлённой деятельности.
Культура как процесс не может существовать вне целостной деятельности, то есть вне такого её варианта, когда субъект деятельности является не формальным, а реальным, другими словами, когда он, как субъект, осуществляет деятельность, начиная от постановки цели, выбора средств до исполнения и получения результата. В случае же если деятельность осуществляется как разделённая, то есть когда один ставит цель, второй определяет средства, третий занимается её исполнительской частью, а четвёртый, или в его лице первый, получает результат и является его хозяином, – в этом случае социальные отношения будут, соответственно, «разделёнными», так как каждый из участников определённого структурно-функционального блока (либо постановки цели, либо выбора средств, либо исполнения, либо получения результата) деятельности будет носителем иного интереса, чем те, которые оказываются закреплёнными на других структурно-функциональных блоках деятельности. В этом случае «построить» в социальном процессе модель связи, а не внешнего контакта, внешнего взаимодействия, объективно не удастся. Маркс такую ситуацию называл господством частных интересов, господством вещных зависимостей [4; 5].
Господство вещных зависимостей на основе разделённой деятельности и атомизация индивидов трансформируют социальный процесс в процесс социумный, для которого характерна глобальная деформация смыслов человеческого бытия, человеческой нравственности, человеческого деятельностно-творческого мироотношения. Смысл человеческого бытия переходит в смысл бытия потребителя, пользователя, функционера. Смысл человеческой нравственности превращается в смысл моральной всеядности, где стираются грани дозволенного и недозволенного. Смысл дея- тельностно-творческого мироотношения трансформируется в понимание первостепенности «приватизации», захвата власти, денег, богатств, в любых их видах, и превращении человеческих отношений в формальные манипуляции с позиции силы на фоне всего захваченного.
Отделённость, самостоятельность, замкнутость на себя, атомизированность (по К. Марксу) индивидов, как носителей тех или иных мотивов или интересов, находящихся в статусе участников разделённой деятельности, приводит к отношениям противостояния, конкуренции и даже антагонизма между ними и в обществе в целом [4; 5]. Такой социальный контекст служит углублению ориентации людей на внешние, формальные параметры важных для них направлений, что существенно сужает сферу реального интереса к определению линии своей личной или социальной жизни, то есть здесь речь идёт о процессе цивилизационном. В цивилизационном процессе главным определителем линии человеческой или общественной «судьбы», принимаемых решений оказывается выбор – выбор из того, что уже есть, из того, что реально, объективно доступно в социуме1.
Цивилизационные процессы как проявления разделённой деятельности
Каждый из цивилизационных процессов, осуществляемых людьми, сообществами или институтами, всегда представляет собой некие системы действий , котор ые присутствую т в той или иной точке
«здесь» и «сейчас». Системы действий как таковые нельзя отождествлять с деятельностью, в которой осуществляется культура как процесс, то есть их нельзя отождествлять с целостной деятельностью. Что касается разделённой деятельности, то она как раз и представлена системами действий, которые лишь внешним образом объединяются как бы в некое единое. Такое якобы единство, то есть предполагаемое единство, но реально не существующее, которое построено на формальных объединениях самостоятельных систем действий, имеющих не совпадающие между собой цели, оценку правильности выбора средств, не совпадающие с целями собственно осуществления, исполнения и т.п., – такое «единство» разрывает деятельностный процесс изнутри и порождает многочисленные проявления этого разрыва. Деятельность превращается в функциональный феномен, ни в коей мере не являющийся основой созидания культурного пространства-времени. Человек в его контексте превращается в функционера, исполнителя тех или иных частичных функций, то есть лишается подлинной субъектности. В качестве функционера человек оказывается существом, зависимым от многих внешних по отношению к его Я обстоятельств. К их числу относятся массивы характеристик, включая ориентации, имеющиеся у социальных институтов, организаций, фирм, распорядков, принятых правил, норм и проч. Зависимость от такого множества внешних обстоятельств обусловливает для человеческого Я необходимость уходить из пространства актуального социального бытия в «серую» зону, то есть дезактуа-лизировать свои устремления, творческие потенции в той мере, в какой они не согласуются с системно-действенным характером организации общественной жизни.
Возможность осуществления таких систем действий предполагает, что сами объекты или предметы применения, тиражирования, передачи, обмена, распределения и т.п. уже имеют статус завершённых, статичных образований, которым сообщается и звне некое «движение» в виде инициирования самих этих (цивилизационных) процессов. То есть применение уже имеющихся объектов, тиражирование уже созданного, передача уже имеющегося, обмен, распределение и т.п. также уже имеющегося. При этом речь не идёт о создании этих применяемых или тиражируемых, сохраняемых или обмениваемых предметов, объектов. Функциональность и манипулятив-ность здесь являются первостепенными характеристиками.
Отмеченный функциональный статус цивилизационных процессов, их обусловленность извне (людьми, сообществами, институтами) точно так же определяет их вариативный характер. Он зависит от многих факторов, в числе которых политические, институциональные, собственно экономические и другие мотивы и интересы. Обусловленность и зависимость «судьбы» не только объектов или предметов, по отношению к которым будут совершаться цивилизационные системы действий, выбор и проч., но и характер определённых извне, ситуативно, способов применения, тиражирования, передачи, обмена, распределения и т.п., – делает всё это выражением наличия как бы произвольности и присутствия какой-то меры свободы. То есть создаёт видимость свободы совершаемого выбора, хотя и из того, что уже есть. Нахождение людей, сообществ, институтов в поле такого якобы произвольного выбора, то есть выбора из уже имеющихся тех или иных вариантов применения, тиражиро- вания, передачи, обмена, распределения в рамках того, что выступает необходимым для них, – создаёт всякий раз ситуацию нестабильности, упования на случайность, на силы, находящиеся за пределами их человеческих или общественных возможностей, которые способны регулировать любые процессы в пользу запрашивающих эту пользу или этот исход всего происходящего.
В контексте глобального преобладания цивилизационных процессов остро стоит вопрос о возможностях развития культуры. Ситуации выбора, даже если они касаются существенных сторон общественной жизни, не характеризуют оснований , в ориентации на которые мог бы быть преодолён манипулятивный характер процедур, заполонивших и деформирующих социальный процесс, превращающих его в некую противоположность, альтернативу разворачиванию содержательных смыслов и связей, творческих, созидающих общественное благо людей.
В цивилизационных процессах отработанные методы совершения выборов и принимаемых на их основе решений, не могут сами по себе обеспечить позитивного развития социальных процессов и тем самым не могут обеспечить поступательное развитие общества. Преобладание цивилизационных процессов над развитием культуры как процесса, а также процессы её «замирания» по тем или иным причинам означают, что в обществе имеют место негативные тенденции, ведущие не только к торможению, но и к серьёзному упадку в общественном состоянии и к отсутствию возможных перспектив.
Цивилизационный выбор характеризует вычленение и взятие на вооружение среди определённых, уже имеющихся типов процессов тех, которые признаются веду- щими для той или иной ситуации или задачи, соответствующими определённым группам интересов сообществ, институтов и т.д. Цивилизационный выбор в различных случаях оказывается сосредоточенным на тех или иных вариантах из названных выше (на процедурах использования или тиражирования, или сохранения, или обмена, или распространения и т.д.) или на их сочетаниях. Уточнение этих вариантов или их сочетаний связано с рассмотрением механизмов того или иного выбора в принятии решений, влиянием на них институциональных структур общества, политических, экономических и иных интересов реальных социальных групп, сил влияния и других.
Наличие или возможность самого цивилизационного выбора выражает и подтверждает присутствие в обществе хаоса переплетающихся, противодействующих, взаимоотрицающих и т.п. систем действий, не способных в итоге сделать общественную ситуацию и ситуацию жизни любого отдельного человека сколько-нибудь прогнозируемой, логичной, выражающей некую закономерность общественного процесса. Напротив, подтверждается и всякий раз усиливается зависимость людей, сообществ, институтов от хаотичности производимых ими же систем действий, имеющих внешний характер «разбивки» по мотивам и интересам. Внешний характер мотивов и интересов существующих цивилизационных систем действий обусловлен их принадлежностью либо к отдельным людям, либо к отдельным сообществам (например, корпорациям или другим), либо к отдельным институтам.
Учитывая глобальный и всё более преобладающий характер присутствия цивилизационных процессов, цивилизационный выбор всё более становится формой, пре- тендующей на универсальность и на повсеместное участие в качестве регулятива любых процессов в обществе, как материальных, так и духовных. Претензия на универсальность в отмеченном смысле со стороны цивилизационного выбора становится постоянно действующим «механизмом» выключения из социальных процессов того, что характеризует культуру.
Речь идёт о «выключении» из социального процесса актуального присутствия ориентации людей на осуществление созидательной, творческой, сознательной, социально значимой деятельности, которая только и характеризует подлинно реальную связь человека с природой и человека с человеком. Такая деятельная связь есть выражение сущности социального процесса, но в условиях диктата логики цивилизационного выбора она постепенно утрачивается, заменяясь «логикой» манипулятивной активности, низводящей человека до статуса функционера (потребителя, распорядителя, «обменивателя» и т.д.), а социальный процесс при этом низводится до статуса технологического, в котором присутствие человека как деятеля, как творца почти не обнаруживается.
***
Абсолютное преобладание функциональных ориентаций, фактическое забвение человеческих начал, отказ от подлинно творческого, человеческого мироотно-шения (не путать с пониманием творчества как изобретения новых форм применения, тиражирования, передачи, обмена и т.д.), отказ от адекватного понимания и реальной жизни в гармонии, нравственности, красо- те, чести, человеческом достоинстве, свободе, братстве и т.п. – всё это в глобальном плане приводит к существенной деградация человеческого, к замене его вещным, роботизированным, матричным, схематичным отношением человека к человеку, к замене человеческих ценностных ориентаций на ориентации потребительские, агрессивно-захватнические, манипулятивные [6].
Цивилизационный выбор есть один из вариантов манипуляции, построенной на непосредственно проявленных интересах усиления дальнейшей манипуляции и захватов, уходящих, по выражению Гегеля, в «дурную бесконечность». Обращение к смыслу феномена цивилизационного выбора заключается не в том, чтобы подчеркнуть, что обычно подразумевается под ним, то есть не в указании на необходимость выбора, который осуществляет каждый человек в своей повседневности. Рассмотрение феномена цивилизационного выбора имеет смысл в контексте анализа перспектив протекающих социальных процессов, что связано, как мы отмечали выше, с трансформацией их в процессы социумные, в которых происходит не только закрепление уже установившихся форм отчуждения, но и их усиление в новых и новых вариантах [7]. Абсолютизация логики цивилизационного движения и вместе с этим абсолютизация возможностей и перспектив цивилизационного выбора, логики использования всего и вся в человеческом сообществе, на которой они основываются, ведёт к обесчеловечиванию человека [2], к краху не только культуры как процесса, но и к краху самой цивилизации [1; 3].
Список литературы Феномен цивилизационного выбора и культура: к анализу современной ситуации
- Буровский А. Облик грядущего (системное расследование будущего): учебник для желающих выжить. Москва: АСТ; Красноярск: АБу, 2006. 234 с.
- Гусева Н. В. К вопросу о специфике мыслительных процессов в контексте культуры и цивилизационного выбора (подходы, тенденции, программы) // Современные проблемы развития цивилизации и культуры: сборник научных статей / под общей ред. доктора философских наук, академика Акмеологической академии Гусевой Н. В. Усть-Каменогорск, 2017. С. 38-57.
- Кассе Э. Грядущее: восхождение или бездна? Санкт-Петербург: Вектор, 2013. 180 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Москва: Политиздат, 1988. 574 с.
- Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Cочинения: тома 40-50. Издание второе. Москва: Издательство политической литературы, 1975-1981. Том 42.
- Осин Р. С. Цивилизационный дискурс как инструмент консервации отчуждения в современном обществе // Э. В. Ильенков и философия Маркса: сборник научных трудов / под общей ред. д.ф.н. Г. В. Лобастова, д.ф.н. Е. В. Мареевой, д.ф.н. Н. В. Гусевой. Усть-Каменогорск, 2018. С. 160-169.
- Трансформации в культуре как следствия цивилизационного выбора: философско-мировоззренческие аспекты анализа / под общей ред. доктора философских наук, академика Акмеологической академии Гусевой Н. В. Усть-Каменогорск, 2018. 279 с.
- Bidney D. (1953) Theoretical Anthropology. New York, Columbia University Press: 526.