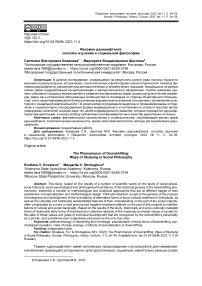Феномен дауншифтинга: способы изучения в социальной философии
Автор: Ковалева С.В., Щеглова М.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2023 года.
Бесплатный доступ
В данном исследовании, опирающемся на результаты целого ряда научных трудов по изучению социокультурных, исторических, психологических и философских основ исторического генезиса феномена дауншифтинга, рассмотрен ряд методологических и аналитических подходов, находящихся на разных этапах своей содержательной концептуализации и методологического оформления. Особое внимание уделено собственно процессу возникновения и развития альтернативных форм социокультурного бытия индивидов, равно как и исторически обоснованных особенностей их понимания со стороны общественного большинства, часто характеризовавшихся более или менее выраженным негативным отношением к проявлениям культурной и социальной маргинальности. По результатам исследования выделены и проанализированы исторически и социокультурно опосредованные формы индивидуального и коллективного отказа от массово пропагандируемых ценностей социума ради тех целей индивидуального развития, которые признаются дауншифтером приоритетными, а иногда вообще субъективно воспринимаются им в качестве единственно истинных.
Феноменология скитальчества и отшельничества, секуляризация ранних форм дауншифтинга, психологическая каузальность, кризис массовой аксиологии, методы ресоциализации дауншифтинга
Короткий адрес: https://sciup.org/149144730
IDR: 149144730 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2023.11.4
Текст научной статьи Феномен дауншифтинга: способы изучения в социальной философии
1Костромская государственная сельскохозяйственная академия, Кострома, Россия, sweta.lana1968@yandex.ru0,
sweta.lana1968@yandex.ru0,
обозначения. В христианской культуре оно ведет свою историю, видимо, от первых примеров религиозного скитальчества и отшельничества: такое представление об «уходе из мира» в добровольном порядке и для реализации совершенно различных сценариев личного «бытия в вере» за пределами канонически установленных форм довольно основательно закрепляется в религиозной культуре Старого Света. И только начиная с Нового времени, пришедшего на смену европейскому Средневековью с его религиозной культурой, дауншифтинг содержательно и феноменологически начинает постепенно секуляризироваться.
«Святая Русь» как мифологическое и историческое пространство всегда была полна странствующих маргиналов - «калик перехожих», юродивых и «беглых», пилигримов и «вечных» ходоков с места на место, всюду оказывающихся «пришлыми», но избравшими для себя «посох и суму» совершенно добровольно. Уже в крайней неоднородности вечно перемещающейся из одних «святых мест» в другие небольшой прослойки социума происходит расщепление исходной мотивации всего этого многоликого бродяжничества. В нем отчетливо выделяется обособленная религиозная составляющая, за границами которой, тем не менее, остаются сотни, тысячи и сотни тысяч совершенно разных причин избрания такой же траектории личной судьбы, не вписывающихся ни в религиозные каноны, ни в какие-то индивидуальные интенции самопозиционирования каждого такого странника в процессе его взаимодействия как части мира дольнего с миром горним, но тем не менее имеющие место быть.
Несмотря на то, что внешне все эти путешествующие кажутся выраженно простыми, покрытыми пылью многих пройденных ими дорог и весей, внутренняя сторона личности этих людей порою оказывается настолько сложна, что иногда читателю, например, какого-нибудь художественного произведения эпохи золотого века русской литературы становится совершенно непонятно, куда перемещается такой загадочный литературный персонаж, «бежит» ли он от каких-либо внешних превратностей судьбы или же от себя самого, поскольку ни сам он, ни автор этого произведения никаких пояснений не дают. И читатель остается пораженным осознанностью и добровольностью отказа «литературного бродяги» от спокойного и беззаботного существования в рамках устоявшихся социальных представлений о жизни «на одном месте», а это в свою очередь указывает на мощь и масштабы уже сформировавшейся культурной традиции, внутри которой история отечественного дауншифтинга подошла к исторически недавней черте, отмеченной возникновением поистине массового интереса к этому «неудобному» и потому плохо вписывающемуся в рамки всякой социальной нормы явлению. Считающееся многими невозможным, оно многократно добровольно и осознанно было реализовано в личной судьбе тех, кто думает об этом иначе и относится к этому по-другому, самим поведением своим и жизнью формируя совершенно обособленную от системы координат социального нормирования культурную альтернативу. Данное обстоятельство, по существу, и определило актуальность настоящего исследования.
Цель нашей работы состояла в изучении основных аспектов теории и практики дауншифтинга в рамках социальной философии.
Методологической базой исследования явился синтез культурологического, социологического, исторического и социально-философского подходов к пониманию обозначенного термина.
В современном мире феноменология дауншифтинга, равно как и ее последующая концептуализация, оказываются связанными прежде всего со стремлением быть собой и жить в этом же модусе, а также с демаркацией целей личностного развития от тех, что навязываются извне (Яцевич, 2015). Такие общепризнанные ценности, как материальный достаток, социальный статус, успешная карьера, высокая должность, в мгновение ока объявляются лично незначимыми, равно как и весь тот конформизм, который служит необходимым фоном для трансляции такого рода ценностей в массовое сознание. Принципиальные нонконформисты, отстаивая свой выбор, противопоставляют общепризнанно-отчужденному индивидуально-обретаемое - семью, хобби, новую интересную деятельность, здоровье, свободу, возможности для творчества и т.п. (Ефимов, Никольский, 2014: 19).
В современной социологии историческое наследие часто становится инициальным поводом для обсуждения теории и практики дауншифтинга, напряженность которого со временем только увеличивается, поскольку в поле дискуссии со всех сторон вбрасываются все новые аргументы и их опровержения. Условность и конвенциональность согласия, с трудом достигаемого в ходе развертывания такого рода полемик, оборачиваются тем, что более-менее выраженные черты дауншифтинга могут быть обнаружены на участках жизненной траектории любого человека, за исключением разве что особенно отчаянных карьеристов.
Последнее означает, что устойчивость и повторяемость данного явления в социальном пространстве современного общества постепенно подводит исследователей и теоретизаторов практической феноменологии дауншифтинга к необходимости его категоризации и последующего нормирования в рамках общей и единой культурной системы данного социума, поскольку споры о том, что сегодня следует считать дауншифтингом, а что – лишь его имитацией, по сути своей есть споры о культурной норме даже вопреки имманентно присущему этой феноменологии отказу от следования таковой. В частности, англоязычный эвфемизм «simple living» (англ. «простая жизнь») определенно указывает на демонстрируемое стремление к простоте и тяготение к ней, хотя, возможно, и без полного отказа от всех без исключения благ современной жизни (Никольский и др., 2016).
Западная цивилизация в этом отношении имеет также вполне определенный исторический опыт – движения хиппи, «зеленых» и т.п. Традиции отечественного дауншифтинга также есть что противопоставить этим движениям – обломовщину, толстовство, а также разнообразные современные их вариации (например, модель жизнеустройства бывшего миллиардера Г. Стерлигова) (Корниенко, 2014: 94).
В отличие от западной культуры, где феномен дауншифтинга является известным и обсуждаемым с 1970-х годов, в культурное пространство отечественного социума данный термин (но не явление) был импортирован только в начале текущего столетия (Ермакова, 2012: 104) первоначально в «западных» образцах или же в сравнении с таковыми. Например, Заратустра Ф. Ницше описывает свой личный опыт дауншифтинга следующим тезисом: «В городах трудно жить: там слишком много похотливых людей» (Ницше, 2022). Оцениваемый таким образом со стороны индивида социум утрачивает в его глазах свою аксиологическую привлекательность, и человек неизбежно начинает задаваться вопросом о фактическом примате самих этих ценностей и негласно-одобряемых вариантов отклонения от следования им, вследствие чего вся заявляемая социумом аксиология рано или поздно подвергается критической и часто беспощадной ревизии. Заратустра Ф. Ницше всего лишь оглядывает окружающую его природу – лес, берег реки, долины и дали – и воспринимает ее не только как новый, прежде сокрытый от него мир, но и как новую истину (Ницше, 2022), то есть ценность.
С точки зрения психологии отклоняющегося (девиантного) поведения нельзя отрицать то, что индивидуальные причины дауншифтинга все до единой невозможно индуктивно свести только к личной мотивации социального и культурного денормирования в рамках условного психического благополучия, поскольку порой за этим «переключением на нижний регистр» обнаруживается сугубо индивидуальная психопатология (тревоги, фобии, навязчивости, мании, первичные и вторичные аддикции и проч.) (Прихидько, 2008: 3).
Всемирная история дауншифтинга в рамках разных временных и культурных контекстов уже накопила вполне определенный опыт массового отвержения ценностей, доминирующих в социуме. Согласованность такого рода оценки, объединяющая разных людей, с неизбежностью становилась предметом не только психологической, но и социокультурной, а также философской рефлексии. Сами того не ведая, объединившиеся дауншифтеры задали вполне определенный критический тренд продолжающихся и до настоящего времени исследований о том, что по большому счету «не так» в современном обществе и культуре (Paukova, 2014: 128). Междисциплинарные попытки понять это в рамках ницшеанского «опыта переоценки всех ценностей» (Ницше, 2018) – если правомерно определять таковой в качестве метода исследования – опирались на стремление установить истоки случившегося и на глубокий аксиологический разлад, возникший между различными послевоенными поколениями, когда дети вполне себе обеспеченных и утвердившихся в этой жизни родителей просто покидали отчий дом и массово отправлялись бродяжничать и «хипповать» (Ilyina, 2022).
Эта молодежная субкультура, инициально и имманентно протестная в своей обращенной ко «взрослому» миру стороне, несмотря на смену целого ряда исторических эпох, и до настоящего времени никуда не исчезла, причем одной из причин этого было и остается содержательное убожество и примитивизм массово декларируемых идеалов общества потребления, не только подменяющего категорию «быть» на «иметь», но еще и постоянно пытающегося выстроить на этом какую-то ханжескую псевдофилософию собственного превосходства, которая в настоящее время, во все большей мере обнажая свою собственную спекулятивность и неискренность, начинает оборачиваться против декларируемого носителя этого «превосходства». В выстроенной системе псевдоценностей современного общества человек парадоксальным образом находит свое место лишь как необходимое звено процесса потребления, за пределами которого ни он сам, ни его жизнь, ни его личность и уникальность никакого значения не имеют и никакой ценности не представляют. Так стоит ли удивляться тому, что современная молодежь просто не желает поступаться тем, чем в свое время пришлось под нажимом социума и государства поступиться ее родителям – и в этом отношении почти все течения коллективного дауншифтерства, по существу, становятся практической формой выражения такого нежелания (Барков, Маркеева, 2019: 293), с которой «взрослое» общество толком не знает, что делать.
Однако в своей «аксиологии неприятия» дауншифтеры определенно пошли значительно дальше хиппи. В отличие от последних они не просто присоединяются к тому, что уже делают многие, каждый из них выбирает свой собственный путь. Никто не знает человека лучше него самого, и именно поэтому всякая монополия социума на любой «коллективный» рецепт личного счастья по определению ущербна, если не невозможна вообще. Однако система потребления оперирует в первую очередь понятиями финансово-экономическими, а не гуманитарными. Современный масскульт активно и со всех сторон пропагандирует и навязывает вполне определенные жизненные сценарии, за всякую попытку отклонения от которых в чем-либо несогласные лишаются поддержки «общественного большинства», которое в современных условиях навязывается его тайными создателями и модераторами, то есть именно это «мнение» фактически и формирует это «большинство», но не наоборот (Бодрийяр, 2021). Акт индивидуального дауншифтинга становится априори формой личного протеста индивида против того, чтобы кто-то или что-то решал его личную судьбу за него самого (Бодрийяр, 2021).
Современная социальная методология изучения этого явления опирается на принципиальное различие постоянного и временного («тайм-аута») (Ilyina, 2022) дауншифтинга, поскольку для последнего варианта чрезвычайно важной становится стратегия и тактика «возвращения к делам» после реализации вспомогательного сценария на определенном отрезке жизненной траектории, за которой следует возврат («апшифтинг» в той же терминологии). Социальная психология и психология межличностного взаимодействия, каждая со своей стороны, пытаются создать методологический аппарат исследования механизмов восстановления прежней профессиональной (или карьерной) мотивации, а также путей и способов самопозиционирования «бывшего» дауншифтера с целью обратного инкорпорирования в когда-то оставленный им жизненный контекст (друзья, знакомые, сослуживцы, соседи и т.п.) (Ilyina, 2022). Зачастую здесь речь идет не только о сохранении прежней профессиональной квалификации и каких-то специальных навыков, но и о личной репутации прежнего дауншифтера, которая может быть восстановлена или воспроизведена только системно-аналитическими решениями. Опыт профессиональной и общей ресоциализации позволяет определить спектр наиболее распространенных проблем, для решения которых необходимым становится системный и аксиологический анализ изменившихся представлений о целях и возможностях индивидуальной самореализации, в рамках которых даже бывшими дауншифтерами последовательно отстаивается примат не того, каким желает видеть такого человека социум, а того, каким он хочет быть сам.
На основе синтеза культурологического, социологического, исторического и социально-философского подходов, характеризующих феномен дауншифтинга в пространстве междисциплинарных исследований, рассмотренных в статье, можно сделать следующие выводы:
-
1. Термин «дауншифтинг» является наименованием социального феномена, имеющего весьма продолжительную историю, но привлекшего к себе внимание и интерес исследователей только недавно.
-
2. Первые исторические свидетельства опыта сознательного индивидуального отхода от навязываемых социумом порядков и пропагандируемых им ценностей указывают на его религиозные основы, которые только потом постепенно стали секуляризироваться, все более обретая контуры, присущие именно современному проявлению данного феномена.
-
3. Определенный процент актов дауншифтинга имеет под собой психологические причины и потому должен стать объектом исследования соответствующей отрасли науки, что не исключает необходимость разработки специальной методологии со стороны психологии для этой конкретной цели.
-
4. Философская методология исследования явления дауншифтинга главным образом концентрируется на разносторонних формах анализа каузальности, онтологии, аксиологии и мировоззренческих основах исторического культурогенеза этого феномена.
-
5. Социальная и социокультурная методология исследования дауншифтинга стремится выработать свои собственные подходы к изучению связанных с этим явлением образцов общественного позиционирования, особенностей существенного изменения социальных ролей и статусов, а также инициальных аспектов изменения мотивации индивида в принципиально различаемых ситуациях полного и временного дауншифтинга.
-
6. Принимая во внимание фактическую междисциплинарность характера этого феномена, тем же самым следует объяснить и системность его изучения в качестве необходимого в тех исследованиях, целью которых является получение результатов, действительно отражающих реальность современного дауншифтинга.
Список литературы Феномен дауншифтинга: способы изучения в социальной философии
- Барков С.А., Маркеева А.В. Дауншифтинг как постмодернизм в действии // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2019. Т. 25, № 4. С. 288-308. https://doi.org/10.24290/1029-3736-2019-25-4-288-308.
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2021. 512 с.
- Ермакова С.Н. Дауншифтинг: социально-психологический феномен // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012. № 6 (112). С. 97-106.
- Ефимов В.Ф., Никольский Е.В. Современная субкультура дауншифтинга: истоки и аксиология // Studia Humanitatis. 2014. № 4. С. 11-26.
- Корниенко О.Ю. Историко-социологический анализ феномена дауншифтинга как нового движения в карьере успешного человека // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 1-1 (57). С. 92-95.
- Никольский Е.В., Ефимов В.Ф., Романова (Матвиенко) Д.Я. Современный дауншифтинг: опыт социально-психологического и религиозно-философского анализа // Метеор-Сити. 2016. № 6. С. 3-21.
- Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М., 2018. 160 с.
- Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 2022. 416 с.
- Прихидько А.И. Дауншифтинг как социально-психологический феномен / А. И. Прихидько // Психологические исследования. 2008. № 1 (1). С. 1-6. https://doi.org/10.54359/ps.v1i1.1035.
- Яцевич О.Е. Дауншифтинг: от истории к современности // Теория и практика общественного развития. 2015. № 9. С. 184-186.
- Ilyina E.N. Downshifting as a Social Phenomenon of Post-Industrial Society // XXIII International Scientific Review of the Problems of Law, Sociology and Political Science. Boston, 2022. URL: https://scientific-conference.com/images/PDF/2022/23/downshift-ing-as-a.pdf (дата обращения: 27.10.2023).
- Paukova A. Downshifting: Foundations and Dynamics of Personal Choice // Revista da Abordagem Gestaltica. 2014. Vol. 20, iss. 1. P. 128-133. https://doi.org/10.18065/rag.2014v20n1.15.