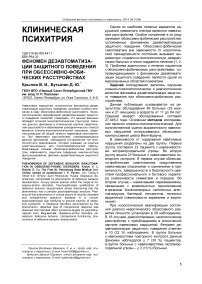Феномен дезавтоматизации защитного поведения при обсессивно-фобических расстройствах
Автор: Крылов Владимир Иванович, Бутылин Даниил Юрьевич
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Клиническая психиатрия
Статья в выпуске: 3 (84), 2014 года.
Бесплатный доступ
Навязчивые нарушения, осложненные феноменом дезавтоматизации защитного поведения, занимают особое положение в ряду обсессивно-фобических расстройств. Психопатологическая квалификация дезавтоматизации защитного поведения позволяет утверждать, что данный феномен обладает сложной психопатологической структурой. Наличие данного феномена в клинической картине невротических расстройств и заболеваний шизофренического спектра является клинико-психопатологическим признаком, свидетельствующим об общей тяжести навязчивой симптоматики. При навязчивых расстройствах, сопровождающихся данным феноменом, наблюдался отстраненный тип межличностного реагирования, который указывал на скрытые симптомы-мишени для психотерапевтической работы.
Обсессивно-фобические расстройства, навязчивости, защитное поведение, межличностное функционирование, феномен дезавтоматизации защитного поведения
Короткий адрес: https://sciup.org/14295752
IDR: 14295752 | УДК: 616.89-008.441.1
Текст научной статьи Феномен дезавтоматизации защитного поведения при обсессивно-фобических расстройствах
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И. П. Павлова»
197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8
Навязчивые нарушения, осложненные феноменом дезавтоматизации защитного поведения, занимают особое положение в ряду обсессивно-фобических расстройств. Психопатологическая квалификация дезавтоматизации защитного поведения позволяет утверждать, что данный феномен обладает сложной психопатологической структурой. Наличие данного феномена в клинической картине невротических расстройств и заболеваний шизофренического спектра является клинико-психопатологическим признаком, свидетельствующим об общей тяжести навязчивой симптоматики. При навязчивых расстройствах, сопровождающихся данным феноменом, наблюдался отстраненный тип межличностного реагирования, который указывал на скрытые симптомы-мишени для психотерапевтической работы. Ключевые слова: обсессивно-фобические расстройства, навязчивости, защитное поведение, межличностное функционирование, феномен дезавтоматизации защитного поведения.
PHENOMENON OF DEFENSIVE BEHAVIOR DISAUTOMA-TION IN OBSESSIVE-PHOBIC DISORDERS. Krylov V. I., Butylin D. Yu. The First St. Petersburg State Medical University named of academician I. P. Pavlov. Lev Tolstoy’s Street 6-8, 197022, Saint Petersburg, Russia . Obsessive disturbances, complicated by phenomenon of defensive behavior disautomation, occupy special position within the range of obsessive-phobic disorders. Psychopathologic qualification of defensive behavior disautomation allows maintaining that this phenomenon has a complex psychopathologic structure. Presence of this phenomenon in clinical picture of neurotic disorders and schizophrenia spectrum diseases is a clinical-psychopathologic sign testifying to general severity of obsessive symptoms. In obsessive disorders accompanied by this phenomenon, detached type of interpersonal response was observed that indicated latent symptoms-targets for psychotherapeutic work. Keywords: obsessive-phobic disorders, obsessions, defensive behavior, interpersonal functioning, phenomenon of defensive behavior disautomation.
Одним из наиболее тяжелых вариантов нарушений тревожного спектра являются навязчивые расстройства. Особое положение в их ряду занимают обсессивно-фобические расстройства, осложненные феноменом дезавтоматизации защитного поведения. Обсессивно-фобическая симптоматика вне зависимости от нозологической принадлежности состояния вызывает выраженную социально-психологическую дезадаптацию больных и плохо поддается лечению [1, 2, 3]. Проблема диагностики и лечения пациентов с обсессивно-фобическими расстройствами, сопровождающимися с феноменом дезавтоматизации защитного поведения, является одной из малоизученных областей психиатрии.
Задачей исследования являлось изучение клинико-психопатологических и диагностических аспектов феномена дезавтоматизации защитного поведения при обсессивно-фобических расстройствах.
Данная публикация основывается на результатах обследования 46 больных (25 мужчин и 21 женщина) в возрасте от 17 до 64 лет. Средний возраст обследованных составил 27,4±8,2 года. Основным методом исследования являлся клинико-психопатологический. Для количественной оценки выраженности навязчивых нарушений использовалась обсессивнокомпульсивная шкала Йеля-Брауна.
В зависимости от содержания навязчивые нарушения разделены на две группы. Первую группу составили 23 пациента с навязчивостями экстракорпоральной угрозы. Во вторую группу вошли 23 больных с навязчивостями повторного контроля. В первом случае обсессивно-фобическая симптоматика представлена навязчивыми опасениями и сомнениями в правильности, завершенности и безопасности действий профессионального и бытового характера (навязчивости симметрии и порядка). Во втором случае – навязчивыми переживаниями, связанными с возможностью проникновения в организм болезнетворных патогенных агентов-вирусов, бактерий, гельминтов, телесных выделений (навязчивости заражения и загрязнения).
При нозологической квалификации состояния диагноз невротического обсессивного развития личности установлен в 28 наблюдениях. В 18 случаях диагностировано шизотипическое расстройство с преобладанием в клинической картине навязчивых нарушений. Феномен дезавтоматизации защитного поведения отмечен в 10 (22 %) наблюдениях. В группе больных с навязчивостями повторного контроля данный феномен наблюдался у 7 (30 %) пациентов, в группе больных с навязчивостями экстракорпоральной угрозы – у 3 (13 %) больных.
Составными частями психологии деятельности человека являются действия и операции. Действие подчиняется какой-либо сознательной цели и определяется мотивационным компонентом, иными словами, действия всегда находятся под контролем сознания. Операция является вариантом автоматизированной деятельности человека, при котором осознается только ее конечный результат, а вся операциональная часть уходит из сферы сознания. Т. е. действия осознаются, а автоматизированная деятельность (операции) – нет [4]. В качестве примера рассмотрим формирование такого повседневного навыка, как мытье рук. Когда родители обучают ему ребенка, он овладевает каждым действием в отдельности при непосредственном сознательном контроле. Родители подробно развертывают перед ним всю последовательность выполнения навыка. Включение света в ванной комнате, открывание двери, настрой температуры воды в кране и пр. являются отдельными видами целенаправленной деятельности, требующими сознательного контроля со стороны ребенка. По мере формирования навыка описанные действия сливаются в единое целое, в конечном счете осознается лишь конечный результат, а все остальное автоматизируется. Т. о. формируются операции, не требующие прежнего сознательного контроля.
Изменение внешних либо внутренних условий дезавтоматизирует навык, и операции претерпевают обратное развитие в действия. Операциональная деятельность вновь требует сознательного контроля. К примеру, выполнение «выученного» навыка мытья рук в условиях незнакомой ванной комнаты с непривычным расположением туалетных принадлежностей, иным устройством кранового смесителя и даже при условии такого, казалось бы, маловажного внешнего фактора, как измененная интенсивность освещения, может потребовать сознательного контроля, целенаправленная деятельность до некоторой степени подвергается дезавтоматизации из операции в действие.
При обсессивно-фобических расстройствах, осложненных описываемым феноменом, внутренним условием, дезавтоматизирующим повседневные операции, является тревога. Пациент разлагает операции на все более мелкие части – действия, требующие тщательного сознательного контроля с его стороны. У такого человека элементарный навык мытья рук вызовет ряд сомнений: какой рукой включить свет, какой рукой взяться за дверную ручку, на какую ширину открыть дверь, какой температуры воду настроить в кране, как долго нужно мыть руки. Дезавтоматизация защитного поведения становится единственно возможным способом для достижения цели, «безопасной сосредоточенностью», «спасительным контролем».
В дальнейшем происходит постепенная утрата вторичного по отношению к обсессивному компоненту характера защитного поведения (к примеру, «мою руки 12 раз в день по 12 минут, делаю это медленно, потому что боюсь микробов»). Наблюдается трансформация защитного поведения в самостоятельный обсессивно-компульсивный феномен («боюсь сделать что-либо недостаточно медленно», «недостаточно тщательно», «недостаточно последовательно»). Способ в таком случае вытесняет цель (мизофобические переживания) и занимает их положение. В итоге сформированные навыки утрачивают свои свойства, для пациента решающее значение приобретают не качественно-количественные характеристики защитного действия («где, как, сколько раз, в каком направлении я должен мыть руки»), а способ, сам по себе феномен дезавтоматизации, который проявляется в «замедлении», «особой скрупулезности», «тщательности» – «делай все медленно и тщательно, и все будет хорошо». В таком случае дезавтоматизация есть не возможность более «точного», «правильного» выполнения навязчивого акта, а его суть.
Рассмотрим пример пациента с навязчивостями повторного контроля, который осуществляет проверки безопасности замков и электроприборов в доме. Сами по себе защитные действия не носят символического характера, сформированы по универсальному механизму контролирующего поведения. Больной совершает психологически понятные проверки и перепроверки навязчивого свойства. Однако описанная симптоматика сопровождается феноменом дезавтоматизации, что само по себе вносит в нее символический характер. Теряется психологически понятная суть простого, на первый взгляд, защитного акта. Стоит заметить, что больной осуществляет не многочисленные проверки и перепроверки, а в течение длительного времени совершает одно простое защитное действие.
Психопатологическая квалификация навязчивостей, осложненных феноменом дезавтоматизации защитных действий, в проводимом исследовании была возможна при наличии облигатных признаков навязчивостей (непроизвольность возникновения, непреодолимый характер, критическое отношение, чуждость сознанию) [5]. Данный феномен имел вторичный характер по отношению к обсессии или фобии и выполнял защитную функцию с целью предотвращения или преодоления опасности.
Защитное поведение больных с навязчивой симптоматикой формируется по механизмам прямой и символической защиты. Символическая защита пациентов с обсессивнокомпульсивной симптоматикой, в отличие от прямой защиты, не направлена на избавление их от возможного непосредственного контакта с провоцирующими факторами, которые способствуют актуализации навязчивой симптоматики.
Логическая связь между содержанием самой навязчивости и ритуалом отсутствует. Ритуалы всегда имеют неповторимый индивидуальный характер, присущий только данному больному. Однако в случае защитного поведения, осложненного феноменом дезавтоматизации, вопрос о квалификации данного варианта защитного поведения остается открытым. С одной стороны, данный феномен является проявлением символической защиты, поскольку дезавтоматизация защитного поведения, как таковая, не имеет прямой, логически обоснованной и психологически понятной связи с навязчивым стимулом. С другой же стороны, дезавтоматизация защитного поведения по характеру выполняемых действий не имеет однотипности, свойственной ритуальным действиям.
Рассмотрим следующий клинический пример, в котором описанной выше дезавтоматизации подвергся навык ходьбы. Пациент, 19 лет, с шизоанан-кастной акцентуацией характера, которая была заметна уже в младшем школьном возрасте и проявлялась боязнью опоздать на урок или получить плохую отметку, сделать помарку в тетради. Так, к примеру, не поддаваясь на уговоры учителя в том, что ничего страшного от одной помарки не случится, мог переписать целую тетрадь. Больной с самых ранних лет до мелочей регламентировал правильное расположение предметов в комнате, выверял симметричность расположения мебели, книг в шкафу. Постепенно описанные особенности поведения оформились в качестве защитного поведения «на удачу», «на здоровье», «на хорошую отметку» («если книги на полке будут стоять ровно, то я получу отличную отметку», «если кресло будет стоять симметрично кровати, то я выздоровею»). В 16 лет на первый план вышла навязчивая симптоматика в связи с опасениями проникновения в организм болезнетворных микробов и бактерий. Навязчивости заражения поначалу не получали дальнейшей идеатор-ной разработки и не сводились к опасениям возникновения какой-либо конкретной болезни. Пациент тщательно и длительно мыл руки, принимал ванну, в дальнейшем меры защиты приобрели характер ритуальных действий с определенным числом действий, их последовательностью, использованием определенной марки мыла.
Следующий этап развития заболевания – возникновение идеаторной проработки фобических переживаний возможного заражения и их трансформация в ипохондрические навязчивости. Пациент представлял, что заболеет гепатитом, СПИДом, как будет мучиться и умирать на больничной койке, весьма тяготился своими переживаниями, но, понимая их нелепость и безосновательность, продолжал выполнять сложные ритуализированные защитные акты.
В 17-летнем возрасте на осмотре у невролога во время прохождения призывной комиссии пациенту был поставлен диагноз «остеохондроз шейного отдела позвоночника». Больной в тот же день посвятил несколько часов изучению литературы по данному вопросу. Пользуясь данными интернет-источников, пациент сфокусировал свое внимание на том, что в запущенных стадиях остеохондроза «могут возникать проблемы с хождением». С этого момента от- мечена дезактуализация навязчивой симптоматики, связанная со страхом заболеть СПИДом и гепатитом. Больной начал изучать вопросы нарушений походки, узнал о том, что позвоночник подвергается нагрузке при ходьбе. Ежедневно делал упражнения, направленные на снижение нагрузки на позвоночник, выработал собственные специальные методики, основываясь на полученных данных. В дальнейшем совершал эти «упражнения» на учебе, во время поездки в метро, в магазине. Они заключались в различных движениях в голеностопных суставах (вверх-вниз, в бок, вытягивание стопы). Описанные движения пациент совершал «незаметно для других», «было неудобно, если кто-нибудь замечал». Далее больной начинает «внимательно следить за своей походкой», осознавая нелепость и абсурдность своих мыслей и тревожных переживаний, его начинает одолевать мысль, согласно которой «быстрая и неаккуратная походка», «неловко поставленная стопа», «неправильный изгиб голеностопного сустава» могут вызвать «повреждения в позвоночнике». Пациент начал «разлагать» сложившийся с ранних лет навык ходьбы на составные части (изгиб сустава, направление стопы). На этом этапе начинает проявляться феномен дезавтоматизации защитных действий, ходьба пациента принимает замедленный, «выверенный» характер. Более того, для того чтобы «внимательнее контролировать процесс ходьбы», больной старается «не торопиться в мыслях, чтобы не упустить деталей при ходьбе». Следует отметить, что у пациента в полной мере сохранена критика к своим переживаниям, он скрывает свою «осторожную походку» от окружающих, считая свое поведение в данной ситуации нелепым.
Изучение преморбидных особенностей личности показало, что феномен дезавтоматизации защитного поведения наблюдался у пациентов с акцентуациями характера ананкастного и шизоананкастного типов. Проявление патологического перфекционизма, чрезмерного внимания к деталям, подчеркнутой добросовестности, скрупулезности, упрямства и негибкости являлось отражением их личностных особенностей. Пациенты с таким вариантом личностной акцентуации характеризовались выраженной озабоченностью порядком, контролем над собой и окружающими, которых они достигали, жертвуя социальной гибкостью, эмоциональностью и эффективностью своего поведения.
В случае невротического развития личности симптоматика многообразна, потому что является конечным результатом всех существующих невротических проблем. Конечное реактивное образование имеет сложное многоступенчатое строение, носящее компенсаторный характер. Причиной тому являются многообразные нарушения в межличностном взаимодействии. Невротический конфликт, который состоит в нарушении взаимодействия с окружающими людьми, со временем охватывает всю личность больного, проявляясь на конечном этапе формирования в виде грубых внут-риличностных расстройств.
С первых дней жизни ребенок вырабатывает особый тип поведения, который позволяет ему справиться с очевидными или скрытыми неблагоприятными факторами. Сформированные в первые годы жизни патологические черты личностного реагирования в дальнейшем, не претерпевая существенных изменений, только подкрепляются всевозможными внешними факторами. В основе патологической тактики поведения лежит тревога. Очевидно, что пребывание в длительном состоянии тревоги невозможно. Следовательно, чувство тревоги может проявляться в виде трех базовых, образующих в дальнейшем основу для всей невротической симптоматики, эмоций, таких как беспомощность, враждебность либо одиночество. Как правило, тревога обеспечивает сосуществование всех вышеупомянутых чувств.
Однако одно из них становится доминирующим и определяет вектор дальнейшего межличностного социального функционирования человека. В тех случаях, когда чувство тревоги реализуется в виде невротических потребностей в одобрении, симпатии, умиротворении, стремлении быть приятным, любимым, желаемым, обнаруживается патологическое стремление к установлению особого типа межличностного взаимодействия – стремление «навстречу к людям», уступчивый тип. Когда тревога скрыта эмоциями враждебности, ярости, желанием борьбы, очевидно противоположное стремление «против людей», агрессивный тип. И, наконец, невротическая отстраненность, напряжение при взаимодействии с людьми, позиция наблюдателя соответствуют особой тактике невротического поведения: отстраненный тип. В итоге формируется один из трех вариантов патологического поведения – уступать, сражаться или держаться в стороне [6, 7].
Пациенты с описываемым феноменом соответствовали последнему типу нарушений межличностного реагирования. Как уже было указано, основным доминирующим чувством, определяющим вектор развития личности, являлось чувство одиночества. Таких пациентов отличало наличие определенного набора родительских установок, которые подавляли пациента, формировали в нем патологические черты личности. Вот некоторые из них: «сдерживай себя больше», «унимай себя», «не ешь слишком быстро», «управляй своими эмоциями», «не двигайся», «не двигай ногами», «не шевели губами», «не торопись», «не двигай руками», «говори медленно», «не слушай это», «не смотри на это», «не бери это в рот», «не умничай». Таким образом, были сформированы защитные реакции в детстве, перенесенные на модели отношений во взрослом возрасте.
Подобный тип межличностного реагирования формировал отстраненное поведение. Одиночество, общее отчуждение от людей оставалось единственным способом избежать того напряжения, которое возникало в тех ситуациях, когда внешний мир вторгался в их жизнь. Компенсаторным механизмом являлась навязчивая потребность систематизации, симметрии, упорядочивания и патологической вовлеченности в правила и порядки окружающего социума. Избегая эмоциональной, социальной вовлеченности, такие пациенты стараются создать иллюзию контроля в попытке упорядочить и привести в соответствие с некими социальными нормами всю свою жизнь. Следующим этапом невротической отстраненности являлось самоотчуждение, появление навязчивых образований, как очередного компенсаторного комплекса. В случае навязчивой медлительности невротическое отчуждение от себя оставляет логические доводы бессильными перед накопленным с детства чувственным опытом: «я знаю, как бороться с тревогой – только замедлив все вокруг». Оставаясь одиноким, обособленным и отстраненным, пациент стремится создать компенсаторные правила и порядки, носящие навязчивый характер. В итоге человек оказывается не приспособленным к среде и выполнению своих обязанностей.
Психопатологический анализ дезавтоматизации защитного поведения позволяет утверждать, что данный феномен обладает сложной психопатологической структурой. Наличие данного феномена в клинической картине психогенных заболеваний и расстройств шизофренического спектра является клиникопсихопатологическим признаком, свидетельствующим об общей тяжести обсессивнофобических расстройств. При обсессивнофобических расстройствах, сопровождающихся данным феноменом, наблюдался особый вариант нарушения межличностного реагирования (отстраненный тип), который определял спектр скрытых, нереализуемых в процессе межличностного взаимодействия чувств и эмоций, и, как следствие, указывал на скрытые симптомы-мишени для психотерапевтической работы.
При анализе полученных данных общий показатель тяжести обссесивно-компульсивной симптоматики по шкале Йеля-Брауна (Yale-Brown obsessive-compulsive scale – Y-BOCS) в группе больных с навязчивой медлительностью превышал аналогичный показатель в группе больных без данного феномена (37,3 и 29,4 балла; р≤0,05).