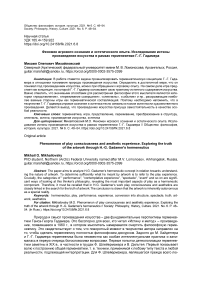Феномен игрового сознания и эстетического опыта. Исследование истины произведения искусства в рамках герменевтики Г.-Г. Гадамера
Автор: Михаил Олегович Михайловский
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2021 года.
Бесплатный доступ
В работе ставится задача проанализировать герменевтическую концепцию Г.-Г. Гада-мера в отношении понимания природы произведения искусства. Определить в достаточной мере, что он понимал под произведением искусства, можно при обращении к игровому опыту. На самом деле игра пред-стает как концепция, на которой Г.-Г. Гадамер основывает свою трактовку истинного содержания искусства. Важно отметить, что значимыми способами для рассмотрения философии этого мыслителя являются категории «представление», «переживание созерцания», «спектакль», «событие» и пр., раскрывающие наиболее важные стороны игры как герменевтической составляющей. Поэтому необходимо напомнить, что в творчестве Г.-Г. Гадамера игровое сознание и эстетика тесно связаны в поиске истинности художественного произведения. Делается вывод, что произведению искусства присуща самостоятельность в качестве особой реальности.
Герменевтика, игра, представление, переживание, преобразование в структуру, спектакль, истина, произведение искусства, эстетика
Короткий адрес: https://sciup.org/149134192
IDR: 149134192 | УДК: 165.4+159.922 | DOI: 10.24158/fik.2021.6.8
Текст научной статьи Феномен игрового сознания и эстетического опыта. Исследование истины произведения искусства в рамках герменевтики Г.-Г. Гадамера
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия, ,
PhD student, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia, ,
Природа и смысл произведения искусства – две фундаментальные перспективы герменевтики Ганса-Георга Гадамера. Это бесспорно для всех, кто читал «Истину и метод» – произведение, появившееся в 1960 г., в котором мыслитель намеревался очертить философскую герменевтику. Это свидетельствует о том, что поворотный момент в творчестве автора направлен на то, чтобы сделать герменевтику полностью философским дискурсом. Задолго до М. Хайдеггера и Г.-Г. Гадамера герменевтика была неизвестна как особая интеллектуальная практика и занималась в первую очередь богословскими вопросами. Первые попытки детеологизации герменевтики заметны в XIX в., в частности в трудах Ф. Шлейермахера и В. Дильтея. Первый показывает волю к построению общей герменевтики, т. е. техники, применимой к любому типу текста и любой реальности, подлежащей интерпретации. Для Ф. Шлейермахера, являвшегося прежде всего лю- теранским богословом, приоритетом остается понимание глубокого и фундаментального значения Священного Писания [1]. В. Дильтей, в свою очередь, освободился от пут теологии [2], чтобы сделать герменевтику подходящим методом для открытия истины в гуманитарных науках (науках о духе), Geisteswissenschaften [3, с. 246]. Он делает герменевтику методикой решения конфликта между естественными и духовными науками.
Действительно, первые попытки уже достигают общих результатов, которые единогласно принимаются и преподносятся как прототип всей научности. Предпринимая критику метода, И. Кант знал о проблеме. Таким образом, речь идет о методе, который должен привести гуманитарные науки к общим истинам о функционировании обществ, жизни, истории и т. д. Метод должен основываться не на самом методе, а на методе, базирующемся на методе гуманитарных наук. Перед лицом этого вызова В. Дильтей считает, что герменевтика – это решение, так как она позволяет проводить различие между объяснением и интерпретацией. Пояснение является задачей естественных наук, Naturwissenschaften , в то время как интерпретация остается привилегией наук о духе, Geisteswissenschaften . В конечном счете, однако, именно объективность каждой науки и преследуется.
Главный вклад Г.-Г. Гадамера состоит в том, чтобы превратить герменевтику в бесспорный философский дискурс. Это стало возможным потому, что мыслитель полагался на феноменологию, применяя при этом свое дескриптивное требование к чтению произведения искусства. Вторая часть «Истины и метода» посвящена истине произведения искусства и его онтологическому статусу. Именно здесь мы видим требования по истолкованию, сформулированные в первой части работы, которая касается наук о духе. Г.-Г. Гадамер утверждает, что наиболее аутентичный герменевтический опыт требует участия субъекта. Это и подразумевается под тесной связью, которую он ткет между игрой и произведением искусства. Таким образом, эстетический опыт раскрывает практический и диалогический характер герменевтики. Общее понимание герменевтической истины начинается с изложения переживания истины, прожитой в процессе игры.
Критика субъективизма и самопроизвольность игрового движения . Когда Г.-Г. Гада-мер ставит перед собой задачу проанализировать произведение искусства и его герменевтическую значимость, опыт игровой игры служит ему компасом. Он считает, что разъяснение характера игры, того, что поставлено в ней на карту, и места игрока в ее развертывании, способно дать понимание того, что поставлено на карту не только в эстетическом опыте, но и в герменевтическом опыте в целом. Хотя концепция игры заняла важное место в эстетическом сознании, особенно у И. Канта и Ф. Шиллера, к ней в целом подошли с «субъективистской» точки зрения. Иными словами, игра задумана как инициатива субъекта, который вкладывает свою энергию в ее осуществление. Этот субъективизм возникает, когда мы говорим, что игра является развлекательной деятельностью и подчиняется правилам, которые зависят от нас. В такой концепции преобладает субъект, поскольку он решает играть для того, чтобы его развлекали: игра будет важна только потому, что игрок в нее вовлечен, у него нет своей цели [4].
Именно из этого субъективизма необходимо освободить и раскрепостить игровой опыт, чтобы понять, что он способен раскрыть в отношении эстетического сознания и правды произведения искусства. Речь идет не о том, чтобы вызвать в памяти процесс художественного творчества, обусловленный техникой, гением индивида или геометрическими техниками, преподаваемыми в художественных школах, а о том, чтобы рассказать о пережитом опыте, когда мы находимся перед уже выполненным произведением искусства – на игровой площадке в полной игровой активности. То, что мы делаем в этих случаях, не имеет ничего общего с эстетическим творчеством. Мы живем жизнью, которую необходимо описать. Понятие опыта имеет большое значение в герменевтике Г.-Г. Гадамера. На немецком языке опыт может означать Erfahrung или Erlebnis . Первый термин относится к опыту, практикуемому естественными науками, в экспериментальной среде, порождающей разнообразные виды практики: наблюдение, обработку данных, эксперименты, верификацию и т. д. Вторая форма опыта, которая интересует мыслителя, – это опыт жизни или погружения в предмет. Данный опыт реализуется путем чтения текста, прослушивания музыки, созерцания картины: в этот момент мы живем значимым для эстетики опытом – герменевтическим, который помогают описать достижения феноменологии.
Поскольку один играет с осознанием этих «несерьезных» целей, иллюзия овладевания игрой развивается субъектом, который может в любой момент решить прекратить игру, чтобы вернуть серьезность жизни. Согласно словарю А. Лаланда, азартные игры состоят «из расходов на физическую или умственную деятельность, которые не имеют сразу ни полезной цели, ни даже определенной цели, и единственная причина существования, для сознания того, кто участвует в ней, это то самое удовольствие, которое он находит в ней» [5, p. 546]. Однако Г.-Г. Гадамер считает, что эта дефиниция слишком субъективистская; она все еще находится в тисках философии субъекта, которому отводится существенное место. Другими словами, субъект всемогущ, по такому определению, и именно он решает временно «приостановить», оставить в подвешенном состоянии все серьезные цели жизни для того, чтобы сыграть, отвлечься, провести время. Он знает, что он играет, также он знает, что то, что он делает, несерьезно, и не связано с жизнью. Ему просто весело.
Однако, Г.-Г. Гадамер задается вопросом: что именно мы знаем об игровом опыте, когда говорим, что у игры нет серьезных целей, а несерьезные цели полностью зависят от нас? По мнению мыслителя, в этом заявлении не излагаются все последствия режима пребывания в игре, так как это вряд ли известно. К тому времени, когда мы фактически участвуем в игровой сессии, мы уже не можем заранее описать и определить исход игры. Мы играем, и это самое главное. Участвуя в игре, мы создаем опыт, который отнюдь не предсказуем в мельчайших деталях, потому что на самом деле он находится вне нашего контроля. Это дает нам понять, что мы никогда не были настоящими мастерами игры. Каждый может сделать это на своей консоли, компьютере или телефоне, например играя в игру, которая развивается поэтапно. Мы никогда не знаем заранее, на каком этапе мы потерпим неудачу или победим. Каждый раз, когда мы терпим неудачу, мы кричим в гневе, и когда мы выходим из стадии победы, мы чувствуем себя более мотивированными и энергичными, как будто мы только что пошли на риск. Что это значит с герменевтической точки зрения? Г.-Г. Гадамер отвечает: «Движение, которое и есть игра, лишено конечной цели; оно обновляется в бесконечных повторениях. Ясно, что понятие движения взад и вперед настолько центрально для сущностного определения игры, что безразлично, кто или что выполняет это движение. Игровое движение как бы лишено субстрата. Это игра, в которую играют или которая играется, и при этом не фиксируется играющий субъект. Игра – совершение движения как такового. Так, мы говорим, например, об игре красок, и в этом случае вовсе не предполагаем, что имеется некая краска, играющая с другой; мы подразумеваем единый процесс или вид, выказывающий меняющееся разнообразие красок» [6, с. 136].
Многозначность термина Darstellung (представление; изображение, изложение; исполнение, игра в театральном контексте), отмеченная заранее, показывает, что игра для сюжета состоит в том, чтобы слушать и делать себя доступным, и для произведения, которое является истинным мастером игры, – в том, чтобы поставить себя на сцену. Следовательно, ни игрок, ни зритель, который только смотрит и аплодирует сцене, не являются хозяевами этого зрелища, так как они не имеют контроля над ним, вопреки тому, что они могут утверждать. Это всего лишь заинтересованные стороны, теперь одержимые магией игры на сцене. С помощью подобного описания игры Г.-Г. Гадамер выделяет способ бытия произведения искусства. Данный опыт искусства явственнее всего показывает, что произведение искусства не может быть предметом, поставленным перед сознанием: «Скорее собственное бытие произведения искусства состоит в том, что оно становится опытом, способным преобразовать субъект» [7, с. 135]. Это можно увидеть, например, в игре в настольный теннис, где два игрока отвечают друг другу ударом мяча, брошенного их партнером по очереди. Игроки здесь являются «ответчиками» на игру, которые не могут заранее определить, что произойдет с мячом – выйдет из строя, где упадет или что с ним произойдет после того, как он отскочит. В футболе мяч, попадающий в световой люк, вызывает радость или волнение у игроков и зрителей. Так же в этом виде спорта именно непредсказуемые движения мяча повелевают главным героям бежать, прыгать, расщепляться или останавливаться в ритме, которому нужно следовать. Игроки не могут свободно решать – прыгать либо останавливаться. Игра контролирует отношение игрока, а не наоборот.
Это отражается в искусстве танца, где танцор просто следует ритму, навязываемому музыкой. Он не может наложить на музыку точный ритм, его ритм, он управляет своим телом так, чтобы его ритмические движения находились в гармонии с музыкой. Скорее танцор следует за движением и темпом, продиктованными музыкой. Негромкая композиция навязывает медленный и томительный ритм; сильно ритмизованная – ускоренный и живой. Однако мы также говорим о танце, что это игра, развлечение. При рассуждениях о «танцевальном темпе» мы еще раз демонстрируем, что следуем только за движением, которое от нас не зависит: танец – это темп, навязанный музыкой. В итоге согласно этому танец следует музыке и ее ритму, а не наоборот.
Аналогичный опыт существует и при работе в видеоиграх. Здесь мы думаем, что играем в одиночку, но в реальности наш оппонент, например компьютерное программное обеспечение или игровая приставка, еще более нагружен правилами. Таким образом, ощущения, переживаемые в игре, являются почти волшебным моментом, который Г.-Г. Гадамер называет «очарованием игры» [8, с. 138]. Это особый опыт истины, которую не может предсказать ни решимость, ни научная методология. Игра подчеркивает конечность предмета, потому что это риск, вовлекающий в игру существо игрока. Такой игровой опыт показывает, что «игра привлекает игрока, вовлекает его и держит» [9, с. 139], как пишет Г.-Г. Гадамер. Другими словами, поскольку игрок не является хозяином игры, а скорее игроком, который играет тем, что, по его мнению, было результатом его инициативы, то таким игроком выступает тот, кто думал, что он играл. Зацепившись за игру, игрок теряет силу своей субъективности и становится частью игры. Г.-Г. Гадамер утверждает, что «очарование игры, увлекательность игры заключается именно в том, что игра завладевает игроком» [10, с. 139].
Поэтому авторы пари, допинга и обмана в спорте – нарушители спокойствия, обманывающие себя тем, что они контролируют игру, отказываясь позволить ей пройти свободно. Они часто кажутся смешными, потому что не дают возможности игре «прийти на представление». Такой «отказ» показывает, что от игрока ничего не зависит и никто не знает исход игры заранее. Любая игра ставит задачу, которую нужно выполнить игроку, и таким образом она репрезентируется [11, с. 140].
Таким образом, игрок не контролирует ситуацию, поскольку игра ускользает от его контроля. Герменевтическая польза подобного анализа заключается в его применении к истине произведения искусства. Это описание природы игривости проливает новый свет на искусство, его герменевтический смысл.
Встреча истины в произведении искусства, преобразование в структуру и репрезентация . Анализ понятия Darstellung , проведенный Г.-Г. Гадамером в ходе игрового опыта, выявляет термины «спектакль» (Schauspiel) и «зритель». Они вводят в действие особый способ художественного представления, в частности театрального. Разве мы не говорим, что «играем» в театре? Для мыслителя, когда игра превращается в спектакль, она меняет не только направление, но и природу: зритель занимает место игрока и теперь играет ключевую роль в качестве части художественного представления. С этого момента спектакль в искусстве всегда адресован кому-то, «даже если при этом никто не слушает и не смотрит» [12, с. 143]. Данное преобразование игривости в эстетику возводит мышление Г.-Г. Гадамера в «философскую эстетику» [13]. Автор «Истины и метода» утверждает, что «это преображение, в ходе которого человеческая игра достигает своего завершения и становится искусством, я называю преобразованием в структуру » [14, с. 143]. Понятие «преобразование» имеет точное значение в онтологии произведения искусства: «Напротив, преобразование подразумевает, что нечто становится иным сразу и целиком и что это другое, существующее как преобразованное, представляет его подлинное бытие, по сравнению с которым его прежнее бытие незначимо. <…> Таким образом, преобразование в структуру подразумевает, что то, что было прежде, теперь не существует, но к тому же еще и то, что сущее теперь, представляющее в игре искусство, и есть непреходяще подлинное» [15, с. 143–144].
Действительно, Г.-Г. Гадамеру кажется, что произведение искусства – не только источник эстетического наслаждения в традиционном смысле этого слова, но в то же время «встреча истины» в герменевтическом смысле, наступление и событие истины, которое не может гарантировать ни один метод объективного анализа знания. Данная истина ускользает от любых попыток изучения методом естественных наук. Хотеть свести его к эстетическому сознанию, т. е. к методическому, – значит подчинить его требованиям сознания, которое думает, что у него монополия на истину. Поддержать это – значит уйти от способа быть верным истине произведения искусства. Скорее речь идет об изменении парадигмы, чтобы понять истину, присущую произведению искусства. Большой интерес для подхода Г.-Г. Гадамера представляет не эстетическое осознание, а герменевтический опыт созерцания произведения искусства. Для него мы должны оставаться внимательными к той истине, которую нам приносит само произведение. Он утверждает, что, например, театр представляет структуру игры как замкнутый мир зрителя, сцены и актеров. Не был ли сам спектакль еще и этим ансамблем, состоящим из сцены, игроков и зрителей?
Следует отметить, что в опыте исполнительского искусства уже не только актеры теряют субъективность, потому что в полной мере осознают воплощение персонажей и перестают быть самими собой. Тот, кто теряет себя, тоже является зрителем, поскольку именно для него спектакль открывается первым. В итоге снимается всякое различие между играющим и зрителем [16, с. 142]. Таким образом, опыт зрителя выступает важным герменевтическим опытом. Больше нет никакого различия между актером на сцене и зрителем в галерее. Это различие подчеркивает внешний характер положения зрителя и позволяет ему претендовать на объективную позицию, думать, что его роль ограничивается просмотром, аплодисментами или смехом и поэтому он может судить о театральном или художественном действии со стороны, предлагая его нейтральное прочтение. Данная поза раскрывает скрытый мотив зрителя, претендующего на тотальный контроль над тем, что перед ним разыгрывается, она также узаконивает позицию критика искусства, авторитетно и объективно говорящего о произведении искусства. После гадамеровской герменевтики подобное отношение сейчас является лишь большой иллюзией.
Истина произведения искусства выступает в целом как представление, спектакль и событие. Это касается не только исполнительских видов искусства, легко доступных для исполнения. В большей степени это относится ко всем другим формам искусства, таким как живопись, литература, архитектура, декорирование и т. д., в которых то же самое преобразование находится в работе; это относится и к материалу, с помощью которого выполнено произведение, поскольку материал ценится. Автор «Истины и метода» считает, что, используя материю через то, что эстетически реализуется, материал достигает «преобразования», знака «подлинного присутствия».
Изображение как копию визуального представления человека или вещи можно уподобить подражанию идее (эйдосу), как в случае с Платоном, который настаивает на ее неполноценности по отношению к оригиналу, ею олицетворяемому [17]. Данную идею не разделяет Г.-Г. Гадамер, для него образ приобретает положительное значение благодаря доказанному «познавательному смыслу» [18, с. 146] и гарантированной «бытийной валентности» [19, с. 172]. Эту позицию, кажется, трудно отстаивать, поскольку если способ бытия произведения искусства, по существу, является «изображением», то как возможно, что изображение допускает такой постулат, который в действительности кажется лишь подражанием, имитацией, чье истинное содержание было бы уменьшено? Чему еще фотография может научить нас о способе эстетического наслаждения и герменевтическом опыте?
Прежде всего, как утверждает Г.-Г. Гадамер, изображение – нечто большее, чем просто копия. Это самостоятельная реальность, в то время как характеристика копии заключается в том, что она исчезает, когда оригинал приходит в присутствие. Изображение, напротив, никогда не бывает очень далеким от того, что оно изображает; более того, оно всегда является присутствием того, изображением чего является. Будучи отнюдь не просто фальсификацией первообраза, образ «увеличивает» истину оригинала, который он делает вездесущим, таким образом умножая его. Изображение – «прирост бытия» [20, с. 171] и истина оригинальной работы, в то время как последняя присутствует в копии изображения. В изображении-копии на самом деле оригинал находится не в уменьшенном виде, а в полноте своего существа. В отношении способа представительства Г.-Г. Гадамер точно говорит, что «представленное» всегда присутствует в «представителе», т. е. в конечном счете «он <первообраз> достигает представленности только в представлении» [21, с. 171]. При этом «собственное содержание изображения онтологически определяется как эманация первообраза» [22, с. 171]. Г.-Г. Гадамер унаследовал эту идею после чтения Плотина.
Истоки и проявление идеи истины произведения искусства . Известно, что Г.-Г. Гада-мер много читал древних философов, особенно платонизм в его различных версиях [23]. Поэтому важно отметить их соучастие в развитии его мысли [24], как и в случае Плотина, основателя римского неоплатонизма. В своей теории, предлагаемой в «Эннеадах», он утверждает, что Единое – это принцип эманации множественного, источник и принцип бытия. Он символизирует единство всех вещей, ибо это до всего и после него. Более того, все вещи приходят от Единого и возвращаются к нему в конце своего движения. В философии Плотина такое движение называется шествием вперед. Однако можно задать вопрос: почему Единое не остается единственной реальностью, т. е. не умножается бесконечно, не порождает множества и разнообразия существ? По Плотину, это так потому, что Единственный является абсолютным совершенством и каждая совершенная вещь должна производить так же, как взрослое существо производит своего ближнего, взрослое банановое дерево позволяет отпрыскам расцвести. Совершенство – это созидание. Тот, кто является абсолютным совершенством, также предстает абсолютным творцом (создателем). Данное созидание связано с переизбытком оригинального источника, из которого вытекает переливной свет, подобно свету, который рассеивается, не уменьшаясь и не высыхая. Плотин считает, что это бытие как источник света, распространяющийся подобным способом, ничего не теряет и, наоборот, сохраняет свою реальность, светимость и силу. «Теория эманации» утверждает, что созданная таким образом реальность должна оставаться близкой к Единому для «созерцания своего высшего принципа» [25, p. 453], от которого она получает свою реальность. Если она немного отходит от него, то попадает в небытие. Тем не менее после уничтожения она возвращается к Единому. Это «категорическое преобразование» позволяет Плотину объяснить движение Вселенной: все приходит от Единого и возвращается к нему, при этом Единый не уменьшается ни в малейшей степени: «Частные души пребывают во всеобщей гармонии, значит, гармонизированы и их деяния, и последствия этих деяний. Под гармонией же в данном случае понимается единство противоречий. Все возникает из единства и все возвращается в единство, следовательно, все различия и противоречия – суть разные проявления одного и того же единства» [26, p. 454; 27, с. 87].
Именно этот тезис Г.-Г. Гадамер наглядно применяет при анализе взаимосвязи между первообразом произведения и его копией. Первообраз не иссякает в выходящей из нее копии, и копия также сохраняет собственную автономию, полноту истины, связывающую ее с первообразом, из которого она исходит. Одно можно сказать наверняка, это тот, кто присутствует в множественном, так как последнее происходит от него. В творчестве Г.-Г. Гадамера бытие полностью находится в образе, который его представляет, и в каком-то смысле умножает его: «В сущности эманации заложено то, что эманирует преизбыток, а источник эманации при этом не умаляется. Развитие этой идеи в философии неоплатонизма, взорвавшей область греческой субстанциальной онтологии, обосновывает позитивный ранг бытия изображения, так как если изначальное Одно по истечении из него Многого не делается меньше, то это должно означать, что увеличилось бытие» [28, с. 172].
Эта основополагающая мысль об онтологии образа в герменевтическом подходе Г.-Г. Га-дамера была проанализирована французским исследователем в области герменевтики Ж. Грон-деном, который наблюдает тесную связь между представлением игрового опыта и онтологией образа, преобразованного теперь в произведение искусства. Именно по этой причине он пишет: «Будучи произведением искусства, "игра" сгущается в фигуру, произведение, которое увлекает и раскрывает что-то существенное для меня о том, что существует (est), а также обо мне самом. О том, что существует, так как это дополнительная реальность, которая возникает, чтобы быть представленной в произведении, т. е. реальность, которая является более богатой (puissante) и более показательной (révélatrice), чем реальность, которую оно представляет, но которая позволяет мне лучше ее узнать» [29, p. 52].
Г.-Г. Гадамер настаивает на священном образе божественного в христианском богословии, который становится «репрезентацией-замещением» в литургии. Иными словами, в образе, символизирующем его, наблюдается активное и действенное присутствие божественного: верующий обожает не образ перед ним, а существо, к которому этот образ в конце концов относится. Это, несомненно, является причиной того, что Отцы Церкви не выступали против развития пластического искусства и представления божественности Иисуса Христа, в то время как в Ветхом Завете, в частности заповедях Моисея, а также в учениях ислама [30], было запрещено создавать образы Бога.
В определенные периоды христианской иконографии, особенно в VIII и IX вв., изображения приобретали порой тревожное значение. Эта важность оправдывала возвышение иконоборчества как запрета на использование святых образов, рассматриваемых в качестве формы идолопоклонничества и отклонения от предмета поклонения. Иконоборчество утверждает, что изображение занимает место существа, в которого верят. Г.-Г. Гадамер знает об этом конфликте из-за изображений, выступавших причиной многих споров между церковной властью и Византийской империей. Однако его интересует восстановление ценности бытия и ценности образа, который его олицетворяет. Его интерпретация образа возрождает доктрину христианской иконографии как «репрезентации-замещения». Замена означает, что то, что сейчас представлено, является бытием в своей подлинности. Для Г.-Г. Гадамера изображение не является копией, но через него бытие почти размножается и действительно приходит в присутствие. Изображение как первообраз выступает «сиянием» представляемой вещи, содержит неразрывное обращение к ее миру. Именно по этой причине представление теперь есть «бытийный процесс, влияющий на ранг бытия представленного» [31, с. 171]. Подобное описание напоминает хайдеггеровский анализ истины произведения искусства, которому Г.-Г. Гадамер не чужд [32], например: «Воздвижение и изображение – это всякий раз особое поэтическое слагание в пределах просветленности сущего, такой просветленности, какая незаметно ни для кого уже совершилась в языке» [33, с. 209].
М. Хайдеггер порой именует истину «просветом», «просекой» или «поляной» бытия (Lichtung), устанавливая связь с тем, что он говорит о поэтическом образе, т. е. изображении сущего [34, с. 31]. Это также заметно, когда автор «Бытия и времени» берется за интерпретацию картины голландского художника XIX в. Винсента Ван Гога, где изображены крестьянские башмаки: «Что же совершается здесь? Что творится в творении? Картина Ван Гога есть раскрытие, растворение того, что поистине есть это изделие, крестьянские башмаки. Сущее вступает в несокрытость своего бытия» [35, с. 123].
Действительно, в этом живописном изображении пары крестьянских туфель, как утверждает М. Хайдеггер, раскрывается скрытая вещь: крестьянство, вся вселенная жизни с ее проблемами и вопросами, страданиями, тайнами и надеждами. Весь крестьянский мир предлагает себя интерпретации картины Ван Гога: диалектика классовой борьбы, сельская жизнь и ее сельскохозяйственная и пастбищная работа, надежды крестьян на улучшение условий жизни, трудности, присущие сельской жизни. Это не просто иллюстрация неважных ботинок, а самое сложное и ясное представление о жизни. То, что делает Ван Гог, так это осуждает жалкое существование крестьянина и несправедливости, которые машинное производство приносит крестьянскому миру.
Г.-Г. Гадамер интерпретировал эту картину в тексте, посвященном истине произведения искусства, и выразил свое открытие таким образом: «То, что являет себя в творении художника и что оно настойчиво показывает, суть не пара случайных крестьянских башмаков, но подлинная сущность инструмента, которым они являются. В этих башмаках – весь мир крестьянской жизни. Получается, что здесь художественное творение производит на свет истину о сущем. Осмыслить такое явление истины – т. е. то, как оно свершается в творении, – можно только исходя из самого творения, а вовсе не из его вещественного фундамента» [36, с. 118].
По словам Г.-Г. Гадамера, «только благодаря изображению первообраз становится первообразом, т. е. только изображение делает представленное и собственно изображаемым, живописным» [37, с. 172].
Таким образом, исходя из философской традиции в лице герменевтики, неоплатонизма и хайдеггеровской онтологии, можно говорить о самостоятельности произведения искусства относительно существования реального мира и сопутствующих ему явлений. Эта заслуга по построению аргументации, по нашему мнению, принадлежит Г.-Г. Гадамеру как представителю школы герменевтической феноменологии.
Список литературы Феномен игрового сознания и эстетического опыта. Исследование истины произведения искусства в рамках герменевтики Г.-Г. Гадамера
- Mesure S. Individus et ensembles dans la méthodologie diltheyenne des sciences sociales // Revue internationale de phi-losophie. 2003. Vol. 226, no. 4. P. 393–405. https://doi.org/10.3917/rip.226.0393.
- Дильтей В. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 1. Введение в науки о духе / пер. с нем. под ред. В.С. Малахова. М., 2000. 762 с.
- Гадамер Г.-Г. Истина и метод : пер. с нем. М., 1988. 704 с.
- Di Cesare D.E. Le temps de l'art. Sur l'esthétique de Gadamer // Etudes Germaniques. 2007. Vol. 246, no. 2. P. 291–302. https://doi.org/10.3917/eger.246.0291.
- Lalande A., Poirier R. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris, 2010. 1376 p.
- Гадамер Г.-Г. Истина и метод. С. 136.
- Там же. С. 135.
- Там же. С. 138.
- Там же. С. 139.
- Там же.
- Там же. С. 140.
- Там же. С. 143.
- Fruchon P. Pour une lecture de Vérité et Méthode: circularité d’une herméneutique comprise comme «esthétique philosophique» // Laval théologique et philosophique. 1997. Vol. 53, iss. 1. P. 7–26. https://doi.org/10.7202/401036ar.
- Гадамер Г.-Г. Истина и метод. С. 143.
- Там же. С. 143–144.
- Там же. С. 142.
- Платон. Государство [Электронный ресурс]. Кн. X // Самопознание и саморазвитие. Психологическая библиотека Киевского Фонда содействия развитию психической культуры. 2020. URL: http://psylib.org.ua/books/plato01/26gos10.htm (дата обращения: 03.06.2021).
- Гадамер Г.-Г. Истина и метод. С. 146.
- Там же. С. 172.
- Там же. С. 171.
- Там же.
- Там же.
- Gadamer H.-G., Fruchon P. Au commencement de la philosophie: pour une lecture des présocratiques. Paris, 2001. 156 p.
- Fruchon P. Herméneutique, langage et ontologie. Un discernement du platonisme chez H.-G. Gadamer // Archives de phi-losophie. 1973. Vol. 36, no. 4. P. 529–568.
- Bréhier E. Plotin // Bréhier E. Histoire de la Philosophie I. Antiquité et Moyen Âge. Paris, 1987. P. 449–565.
- Ibid. P. 454.
- Плотин. О Провидении. II // Эннеады. II. Киев, 1996. С. 87–95.
- Гадамер Г.-Г. Истина и метод. С. 172.
- Grondin J. L’herméneutique. Paris, 2006. 128 p.
- Hoffner A.-B., Bleynie S. En Islam, la représentation de Dieu est interdite, non celle de son prophète [Электронный ресурс] // La Croix. 2015. 1 jan. URL: https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/En-islam-la-representation-de-Dieu-est-interdite-non-celle-de-son-prophete-2015-01-20-1270464 (дата обращения: 03.06.2021).
- Гадамер Г.-Г. Истина и метод. С. 171.
- Хайдеггер М. Исток художественного творения / пер. с нем. А.В. Михайлова. М., 2008. 528 с.
- Там же. С. 209.
- Там же. С. 31.
- Там же. С. 123.
- Гадамер Г.-Г. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества / пер. с нем. А.В. Лаврухина. Минск, 2007. 240 с.
- Гадамер Г.-Г. Истина и метод. С. 172.