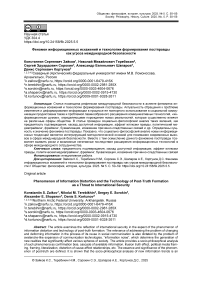Феномен информационных искажений и технологии формирования постправды как угроза международной безопасности
Автор: Зайков К.С., Теребихин Н.М., Сорокин С.Э., Шапаров А.Е., Кортунов Д.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рефлексии международной безопасности в аспекте феномена информационных искажений и технологии формирования постправды. Актуальность обращения к проблеме изменения и деформирования информации в процессе ее повторного использования в социальной коммуникации продиктована также и проблемой лавинообразного расширения коммуникативных технологий, «информационным шумом», определяющими порождение новых реальностей, которые существенно влияют на различные сферы общества. В статье проведен социально-философский анализ таких явлений, как предвзятость подтверждения, каскад доступной информации, эффект иллюзии правды, политический ме-диапрайминг, фрейминг, буквализация, искажение причинно-следственных связей и др. Определены сущность и значение феномена постправды. Показано, что социально-философский анализ новых информационных тенденций является интегрирующей методологической основой для понимания современных вызовов в сфере международной безопасности. Вместе с тем осмысление данного феномена постправды позволяет выявить риски и возможные негативные последствия расширения информационных технологий в сфере международного сотрудничества.
Предвзятость подтверждения, каскад доступной информации, эффект иллюзии правды, политический медиапрайминг, фрейминг, буквализация, искажение причинно-следственных связей
Короткий адрес: https://sciup.org/149147947
IDR: 149147947 | УДК: 304.4 | DOI: 10.24158/fik.2025.5.5
Текст научной статьи Феномен информационных искажений и технологии формирования постправды как угроза международной безопасности
Когда речь идет о международной безопасности, традиционно происходит обращение к таким пространственным категориям, как территория, вода, воздух и космос. Это физически осязаемые измерения, в которых акторы международных отношений способны аккумулировать и проецировать силу1. Еще основоположник теории жизненного пространства Ф. Ратцель утверждал, что государство стремится расширить свои территории для обеспечения своего существования и различного вида благополучия (Ratzel, 1986). В таких условиях зачастую зарождаются полномасштабные военные конфликты.
С наступлением XXI в. особо актуальным стало еще одно измерение для проецирования силы – информация и знания2. Именно в рамках данного измерения заинтересованные субъекты могут производить симулякры, которые являются составной частью постправды и могут влиять на развитие реальных событий. Так, независимый исследователь из Швеции Г. Саймонс утверждает, что перед увеличением военной активности американцы начинают с медиаактивности, чтобы сформировать информационную когнитивную базу для будущей новой физической «реальности»3.
Проблема безопасного мира напрямую связана с устойчивостью глобального сообщества в рамках информационной эпохи. В 2015 г. рамках резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» всеми государствами-членами ООН были подписаны 17 целей устойчивого развития (ЦУР)4. Принятие документа стало ответом мирового сообщества на нарастающие кризисные ситуации, с которыми столкнулись государства на всех континентах. Изначально цели в области устойчивого развития ООН носили триединый характер, что обеспечивало сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития – экономического, социального и экологического. Однако со временем трехкомпонентная модель была дополнена четвертой управленческой составляющей. Американский экономист Дж. Элкингтон предложил рассматривать устойчивое развитие не только на глобальном макроуровне, но и на уровне отдельных компаний (Elkington, 1994).
Таким образом, современная концепция устойчивого развития в 2025 г. включает уже четыре измерения – экономическое, социальное, экологическое и управленческое. Установлены цели ликвидации нищеты, голода, борьбы с изменением климата, сохранения морских экосистем и экосистем суши, обеспечения здорового образа жизни и содействия благополучию для всех в любом возрасте и многие другие. Все компоненты стратегии невозможно реализовать без учета информационной составляющей и в особенности без понимания такого феномена, как «постправда».
Имея достаточно длительную историю развития, только в последнее столетие международные отношения стали подлинно всемирными. Глобальность происходящих изменений также породила множество противоречий, одно из которых – искажение информации. Облик современного мира, в котором проживают более 8 млрд человек в 193 государствах, сформировался исходя из самых различных аспектов развития цивилизации. Научно-технический прогресс изменил темп международных перемен, а также обострил проблемы человеческого существования, такие как рост техногенного воздействия общества на окружающую среду, усугубление экономических, политических и социальных противоречий между государствами, регионами, континентами, классами, этносами, расами, конфессиями.
Концепцией, способной разрешить нарастающие мировые противоречия и вопросы, является теория международного сотрудничества. В последнее время объемы его заметно увеличились. Более того, существующая политическая реальность заставляет лидеров стран воспринимать сотрудничество как способ решения мировых противоречий, учитывая интересы большинства участвующих сторон. Идея международного сотрудничества и сам принцип такого взаимодействия являются основными положениями в системе норм, прописанных в Уставе ООН1. После принятия последнего эти принципы стали также фиксироваться во многих уставах различных международных организаций, в международных договорах, многочисленных резолюциях и декларациях. Однако несмотря на предпринимающиеся усилия, эффекты искажения информации носят глобальный характер, заставляя целые страны, континенты и цивилизации жить в управляемом информационном хаосе постправды.
Данный феномен является общим и более широким понятием по отношению к некоторым частным, таким как манипулирование эмоциями, фактами, мнением отдельно взятого человека, общества или государства. Тем не менее сущностным и общим признаком политики постправды является наличие манипуляции. В связи с этим необходимо выделить основные признаки последней:
-
– существуют две стороны: манипулирующая и подвергающаяся управлению;
-
– объектом манипулятора являются психические структуры человеческой личности;
-
– это скрытое воздействие, которое не должно быть замечено управляемой стороной;
-
– манипуляция требует значительного мастерства, знаний и ресурсов;
-
– это информационное воздействие в виде знаков, заставляющих объект поверить в якобы самостоятельно принятое решение действовать определенным способом (выгодном для манипулятора) (Дзялошинский, 2005: 31).
Манипуляция может осуществляться как со злонамеренной целью (введение в заблуждение, мошенничество и др.), так и с менее вредной, но в то же самое время эффективно используемой и достигаемой. Так, в цифровую эпоху нередко манипуляции подвергается наше внимание, например, с целью рекламы и извлечения прибыли.
Следует отметить, что феномен искажения информации был отмечен достаточно давно. Еще Ф. Бэкон в рамках концепции «идолов познания» выделял так называемые «идолы рынка/пло-щади» (Бэкон, 1978), то есть социально-информационные эффекты, возникающие вследствие неправильного употребления слов и неточности языка (Макулин, 2013).
С развитием информационных технологий в современном мире сформировалась достаточно благодатная почва для развития постправды как повсеместного феномена во всех сферах жизнедеятельности общества и государства. Сегодня существует множество платформ и инструментов для манипулирования вниманием и поведенческими привычками. Основными из них являются социальные сети, объединяющие миллионы людей как в рамках одного государства, так и в глобальном масштабе. Они активно используются политиками для формирования и продвижения своего имиджа или государства в целом на международной арене (Макулин, 2022).
Несмотря на очевидные преимущества использования социальных сетей в качестве инструмента ведения политики (широкий охват аудитории, отсутствие границ для использования и передачи информации), в этом отношении существуют весомые риски и угрозы. Среди них можно выделить следующие (Хецелиус, 2019: 76).
-
– продвижение деструктивной идеологии, идей экстремистского характера, результатом чего может являться организация этнических конфликтов и терактов;
-
– уязвимость системы защиты персональных данных;
-
– нарушение авторских прав;
-
– использование мгновенной передачи сообщений для дискредитации политической власти; – вмешательство во внутренние дела государства.
Таким образом, деструктивная деятельность на базе социальных медиа может стать существенным вызовом для политической стабильности в рамках определенного государства или региона. Платформы могут прямо влиять на политические процессы, мобилизовывать граждан на те или иные противоправные действия.
В рамках социальных медиа и в целом в интернет-пространстве существует еще один механизм, который косвенно влияет на сознание и поведение потребителей информации – алгоритмы. На площадках социальных сетей зачастую в коммерческих и иногда политических целях активно функционируют программы, которые подбирают контент, исходя из вкусов и убеждений пользователя. В такой ситуации потребитель информации попадает в информационный пузырь, представляющий собой некое альтернативное виртуальное пространство. А.Н. Гуров и Л.М. Хве-сюк справедливо утверждают, что общество стало намного доверчивее, так как его члены живут в эпистемических пузырях, в связи с чем легче поддаются обману (Гуров, Хвесюк, 2022: 129).
Именно благодаря информационным ограничениям, связанным с такими пузырями, уже к 2015 г. поисковые машины стали эффективным инструментом пропаганды (Ларина, 2021: 7). Данный этап развития технологий не является пределом, и в ходе эволюции средств производства виртуальной реальности возрастают манипулятивные возможности.
В 2016 г. среднее время пребывания пользователя на одном ресурсе составляло 1,4 минут, в 2025 г. – менее 25 секунд, и именно эта тенденция заставила задуматься политтехнологов о том, чтобы размещать «любую нелепицу» в социальных сетях и на сайтах даже без ссылок на первоисточники (Ларина, 2021: 9). Главным принципом в данном случае является соответствие «информации» взглядам и предпочтениям пользователей.
Существуют и некоторые методы формирования политики постправды, среди которых можно выделить несколько:
-
1. гиперболизация или преуменьшение;
-
2. замалчивание;
-
3. подмена понятий:
-
– «простые люди» («people talk»),
– «экспертное мнение» («testimonial»),
– «чрезмерный позитив»,
– «выбор без выбора»,
– «общая платформа» (Смаль, 2017: 224).
Подтипы приема подмены понятий требуют пояснений. При использовании приема «простые люди» информация зачастую преподносится с точки зрения малознакомых людей, «очевидцев». В данном случае действующее лицо (отправитель информации) привлекает наблюдающих, заставляет их сочувствовать. В противоположной ситуации действующим лицом выступает эксперт, что содействует повышению авторитетности материала. «Чрезмерный позитив» работает в зависимости от уровня демократии в том или ином государстве. При развитом народовластии постоянное упоминание политика в хорошем ключе будет играть негативную роль в формировании общественного мнения, когда как в странах, где демократия развита не в достаточной степени, эффект будет противоположным. Прием «общая платформа» является достаточно часто употребляемым, когда отправитель информации начинает ее подачу со слов «всем известно...», «все согласятся...», «никто не станет спорить...» и др.
Информационные искажения в медиапространстве наблюдаются по большей мере в рамках так называемых «фейк-ньюз», или недостоверных новостей. Природа фальшивых данных восходит к 1830-м гг., когда в широкой аудитории популярностью пользовалась бульварная пресса, представляющая собой «сенсационные» новости и слухи. Сегодня арсенал фальшивых новостей варьируется от выборочного освещения события до предоставления полностью не соответствующей реальности информации. Причиной распространения фейк-ньюз является потребление информации людьми, которые намеренно не осведомлены или просто не знакомы с источником контента, а также не относятся критически к тому, что они читают (Rochlin, 2017). Сочетание активной работы непрофессиональных журналистов, блогеров, политиков и повсеместная тенденция некритического восприятии информации служит активной движущей силой в распространении постправдивых «фактов».
В современном обществе распространена ситуация, когда при помощи приемов эристики и механизмов, провоцирующих когнитивные искажения, искажается непосредственно фактическая картина тех или иных происходящих событий (Тузовский, 2020: 42). В связи с этим помимо вышеперечисленных технологий выделяются и некоторые психолого-когнитивные приемы, позволяющие наиболее эффективно выстраивать политику постправды и влиять на сознание потребителей информации. Рассмотрим их подробнее.
-
1. Предвзятость подтверждения. Психологи в середине XX в. обнаружили, что люди имеют склонность к поиску в большей степени той информации, которая соответствует их убеждениям. Процесс интерпретации также подвергается эффекту предвзятости, поскольку потребитель информации склонен искать собственную правду в любом сообщении, несмотря на его содержимое и аутентичность. Данный эффект присущ практически каждому человеку, в связи с чем в эпоху постправды он может проявляться наиболее часто и заметно. В международных отношениях эффект предвзятости подтверждения также носит повсеместный характер. Например, при проведении военных учений одной стороной, которая носит ярлык агрессора со стороны других сторон, эти учения априори будут восприняты как покушение на безопасность. Во время Кубинского кризиса СССР и США стояли на грани полномасштабной войны, поскольку у каждой из сторон сформировалось устойчивое негативное отношение к друг другу. В связи с этим также имела место дилемма безопасности, возникшей из-за неправильной интерпретации действий сторон.
-
2. Каскад доступной информации. Д. Канеман определяет каскад доступной информации как «самоподдерживающую цепочку событий, которая может начаться с сообщений средств массовой информации СМИ о чем-то сравнительно мелком и привести к всеобщей панике и широкомасштабным действиям правительства» (Канеман, 2014: 90); при этом поддерживается большой поток новостей с целью целенаправленного внушения беспокойства. Таким образом, чем чаще то или иное событие артикулируется в СМИ, тем больше уверенность общества в его реальности. Данным эффектом активно пользуются террористы, поддерживая при этом страх среди населения. На международной арене также зачастую происходит использование этого когнитивного приема. Так, например, огромный поток информации о конфликте на Украине заставил в том или ином направлении изменить общественное мнение, несмотря на ложный или неподтвержденный характер передаваемых западными СМИ и политиками сообщений.
-
3. Эффект иллюзии правды. Данный феномен заключается в том, что если информация повторяется слишком часто, то в глазах людей она приобретает правдоподобность. Такие факты, как «употребление моркови улучшает зрение», «человек использует 10 % мозга», «витамин С лечит простуду» и другие, не являются в полной степени правдой, несмотря на их повсеместное распространение.
-
4. Политический медиапрайминг. Согласно Ш. Айенгар и Д.Р. Киндер, политический медиа-прайминг представляет собой процесс, при котором средства массовой информации фокусируют внимание общественности на одних проблемы и вопросы, но при этом умалчивают о других (Iyengar, Kinder, 2010).
-
5. Фрейминг. В 1981 г. А. Тверски и Д. Канеман провели исследование, в ходе которого респондентам предлагалось выбрать программу по борьбе с эпидемией (Tversky, Kahneman, 1996). Были представлены две формулировки одной и той же программы, в которых ее результаты описывались по-разному. Например, программу «С» (в результате 400 человек погибнут) выбрали 22 % участников, а программу «D» (вероятность того, что все выживут – 33 %, что погибнут – 66 %) – 78 % (Tversky, Kahneman, 1996: 453). Таким образом, при эффекте фрейминга форма преподнесения информации умышленно видоизменяется, чтобы повлиять на ее восприятие потребителем информации. Например, если в том или ином конфликте используется фрейм «борьба с терроризмом», тогда меняется восприятие участников конфликта, а также формируется определенное общественное мнение, которое в свою очередь влияет на политические решения акторов международных отношений.
В результате наблюдается «прайм-эффект», при котором во время принятия политических решений люди не учитывают всю имеющуюся информацию, а лишь ту, которая не требует глубокого поиска или анализа и находится на поверхности.
Также существует эффект прайминга (от англ. prime – давать установку), при котором одно событие закономерно подготавливает другое. В 1996 г. Дж. Барг провел эксперимент, когда группе испытуемых представляли триггерные слова, относящиеся, например, к старости: одиночество, мудрость, традиционные, консервативные, упрямые и др. (Bargh et al., 1996: 236). В ходе исследования выяснилось, что участники экспериментальной группы стали медленнее передвигаться, несмотря на относительно молодой возраст.
Таким образом, при обоих эффектах задается предварительное воздействие на объект для того, чтобы в текущей ситуации или в будущем он вел себя в нужном для тех или иных лиц направлении. В международных отношениях данный эффект является особо действенным и деструктивным, поскольку медиапрайминг формирует общественное мнение, влияет на принятие политических решений и действия акторов, несмотря на недостаток информации о том или ином конфликте или аспекте международной политики.
Существует и множество других когнитивных искажений, хотя все вышеперечисленные наиболее полно соответствуют наполнению феномена постправды. Использование данных эффектов, заключающихся в специфике восприятия информации человеческим мозгом, ведет к массовому распространению дезинформации, а также является эффективным инструментом для манипулирования общественным мнением в эпоху постправды и цифровизации.
В качестве особенности вышеупомянутых эпох можно также выделить повсеместное формирование клипового мышления у потребителей информации (Макулин, 2019). Такой тип мышления имеет несколько особенностей и последствий: неспособность быть сфокусированным долгое время на задаче, удерживать внимание во время чтения или просмотра объемного произведения, привычка просматривать материал не дольше одной минуты (в идеале – 15 секунд – ровно столько, сколько в среднем длятся видеоролики в социальной сети TikTok) и другие (Гуров, Хве-сюк, 2022: 128).
Клиповое мышление тесно взаимосвязано с эпохой постправды. Ранее было определено, что в условиях постправды аудитория более подвержена воздействию эмоционально окрашенных новостей, соответствующих их взглядам, интересам и личным убеждениям, нежели менее приятных и правдивых новостей.
Чтобы завоевать внимание читателя, используются так называемые «кликбейты» – некоторые сенсационные заголовки или материалы, прочтение которых или переход на страницу их чтения приносит прибыль авторам. Деньги – это природа «кликбейтов», и чем больше совершается «щелчков» на такие материалы, тем больше растет вероятность заработать деньги. При этом точность и правдивость ресурса, на который осуществляется переход, носит второстепенный характер.
Зачастую носителем «кликбейта» является заголовок материала в СМИ или на других платформах и социальных сетях, поскольку именно заголовок заставляет читателя либо продолжить чтение, либо отложить журнал или газету в сторону. Авторы «сенсационных» материалов используют несколько приемов, с целью манипуляции вниманием потребителей информации (Власова, 2020: 110–112). Представим некоторые из них.
-
1. Буквализация. Суть данного приема заключается в том, что авторы используют в материале то или иное устойчивое выражение, фразеологизм и другие средства выразительности в прямом смысле. Например, если читатель видит заголовок «Германия наводит мосты с соседями», у него может создаться впечатление, что страна укрепляет различного вида связи с соседними государствами, хотя на самом деле закладывался буквальный смысл – строительство мостов.
-
2. Неверный или неполный пересказ. Например, если политик утверждает, что Арктика представляется ему потенциальной для сотрудничества в сфере освоения ресурсов и обеспечения безопасности регион, то СМИ могут интерпретировать его слова в заголовке таким образом, как будто он хочет захватить все ресурсы Арктического региона. Еще один пример можно встретить в одном из изданий: «Трамп: “Америка и весь мир обязаны России за победу над фашистской Германией”»1. При «пролистывании» такого заголовка в новостной ленте у читателя сложится впечатление, что Д. Трамп действительно восхваляет Россию и, возможно, даже настроен на потепление в отношениях ней (Власова, 2020: 110). Тем не менее при прочтении полного текста статьи становится ясно, что содержащийся в новости смысл абсолютно противоположен, и Д. Трамп имел в виду совсем другое: «Во Второй мировой войне Россия потеряла 50 миллионов человек и помогла нам одержать победу над Гитлером» (Власова, 2020: 110).
-
3. Выделение частной детали как основной причины события. Данный прием используется для того, чтобы ввести читателя в заблуждение относительно истинных причин того или иного события. Мелкие и незначительные детали могут выдаваться за достаточно важные и судьбоносные. Например, когда журналисты пишут о том, что прорыв в переговорах между главами государств был достигнут благодаря чашке чая, многое при этом может упускаться из виду: многолетние дипломатические усилия, встречи, заключения договоров, соглашений и другое. Таким образом, у читателя складывается ложное впечатление о причинах и предпосылках того или иного события.
-
4. Использование общего (гиперонима) вместо частного (гипонима). Данный прием можно считать наиболее часто употребимым. Авторы при его использовании стараются преувеличить значимость события, тем самым вызвав негодование многих читателей. Так, например, когда в новостной ленте встречаются заголовки по типу «Россия прекратила поставки энергоносителей в Европу», у читателя может возникнуть предположение о том, что Россия использует энергию в качестве оружия, не вдаваясь в детали новостного материала. Истинные причины в виде санкций со стороны Европейского союза уже являются вторичными для потребителей информации.
-
5. Искажение причинно-следственных связей. В данном случае манипуляция уже носит более неприкрытый характер, поскольку в рамках одного и того же заголовка, предложения или текста попросту нарушается логическая связь путем упущения многих факторов. Например, если СМИ утверждают, что выход Великобритании из Европейского союза привел к экономическому росту государства, то они могут заблуждаться насчет этой причинно-следственной связи, поскольку в подобных масштабах необходимо учитывать достаточно большое количество составляющих.
Все вышеперечисленные приемы имеют одну общую деталь – они направлены на искажение восприятия реальной причины тех или иных освещаемых событий. Эти техники являются эффективными в том случае, если они присутствуют в заголовках, а читатель не обращает внимания на внутреннее содержание текста. Именно заголовок – это первое, что попадается на глаза потребителю информации, и 80 % читателей довольствуются прочтением только его (Власова, 2020: 108).
Следует сказать, что поскольку современная социальная и информационная среда способствует развитию клипового мышления, то использование данных приемов действительно может оказать деструктивное влияние на восприятие субъектом информации и, следовательно, на социально-политическую обстановку в государстве.
Ж. Бодрийяр отмечал: «Мы находимся в мире, в котором становится все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла» (Бодрийяр, 2015: 109). Такой мир несет в себе благоприятные условия для качественного и количественного развития постправдивой среды, в которой многие сферы испытывают на себе деструктивные последствия, будь то социальная, экономическая, политическая и другие. В основе любой системы лежит коммуникация между элементами, а постправда, как было выявлено выше, способствует размыванию передаваемой информации от одного элемента другому. В связи с этим особенно уязвимой является политическая среда, которая включает в себя и межгосударственные отношения, стабильность которых является гарантом международной безопасности.
По каким именно направлениям постправда может воздействовать на международные отношения? Можно выделить несколько основных: упрощение дипломатического этикета как результат перехода к более эмоционально окрашенному диалогу, не основанному на фактах; использование алгоритма разрешения конфликтов, во время которых объективные доказательства не имеют значения и др. (Ковшарь, 2018: 43). Эффективность коммуникации между государствами снижается, обостряется конфликтогенность, процесс формирования имиджа государства становится все более неуправляемым (Ковшарь, 2018: 43). В эпоху постправды лидеры государств активно прибегают к использованию мегафонной дипломатии, которая заключается в выдвижении безосновательных и недоказанных обвинений, а также в популизме и даже оскорблениях.
Дипломатия и война – два основных столпа международных отношений, и если постправда оказывает влияние на специфику ведения деятельности в обеих сферах, то и международная безопасность в целом оказывается под угрозой. Кроме того, поскольку общественное мнение – один из основных объектов проводимой постправдивой политики, возрастает угроза поляризации социума того или иного государства, что может ослабить его позиции на международной арене, а также стать причиной внутренних конфликтов.
Подводя итог рассуждениям, следует еще раз подчеркнуть, что в современном мире информационное пространство является важным полем для осуществления действий по реализации желаемой политики. Информация и знания являются одними из решающих факторов в современных международных отношениях. В связи с этим существует достаточно широкий инструментарий информационных искажений и технологий формирования политики постправды. В ход идут как технические средства, прямо или косвенно влияющие на восприятие субъектами информации и ее распространение (социальные сети, алгоритмы, громкие заголовки, «кликбейты» и др.), так и когнитивные приемы, опирающиеся на особенности работы человеческого мозга (фрейминг, прайминг, эффект иллюзии правды и др.). Отличительной чертой эпохи постправды является манипулирование общественным сознанием и восприятием информации потребителями в нужном русле для того или иного актора международных отношений. В результате распространения информации в духе постправды деструктивному воздействию подвергаются также и международная безопасность.
Итак, постправда может пониматься в качестве множества категорий – как стратегия, культура, политический дискурс. Тем не менее в рамках настоящего исследования актуальным видится следование пониманию постправды именно как политики, имеющей различные цели, в том числе завоевание доверия как можно большего числа людей вне зависимости от достоверности предоставляемой информации. Политика постправды – это целенаправленное манипулирование аудиторией и ее вниманием. Ж. Бодрийяр писал: «Искать свежие силы в своей собственной смерти, возобновлять цикл через зеркало кризиса, отрицание и антивласть – вот единственный выход-алиби любой власти, любого института, пытающихся разорвать порочный круг своей безответственности и своего фундаментального небытия» (Бодрийяр, 2015: 31).
Искусственный кризис могут создавать не только правительства отдельных стран, но и средства массовой информации посредством артикуляции выгодной государствам политики в виде недостоверных новостей. Фейковые новости являются основным ресурсом постправды, они представляют собой угрозу, поскольку подменяют социально-политические коммуникации и формируют политически удобную правду (Милецкий, Никифорова, 2020: 72).
Современные мировые тенденции в области устойчивого развития отражают стремление международного сообщества обеспечить баланс между экономическим ростом, социальной справедливостью и экологической стабильностью, а также природой информационной реальности. Одним из значимых трендов является усиление роли информационной прозрачности в реализации принципов устойчивого развития. Компании внедряют экологические, социальные и управленческие (ESG) стандарты, способствуя снижению углеродного следа и социальной ответственности, учитывая феномены искажения информации. Увеличивается объем инвестиций в проекты, соответствующие принципам минимизации информационных искажений, что стимулирует развитие таких направлений, как цифровая экономика и цифровой суверенитет. Устойчивое развитие из локальной инициативы трансформировалось в глобальную стратегию, объединяющую государства, компании и гражданское общество в стремлении к созданию более устойчивого будущего.
Информационная безопасность и социальная справедливость являются ключевыми аспектами концепции устойчивого развития. Устойчивое развитие требует от государств и международных организаций совместных усилий для достижения информационно безопасного и социально справедливого будущего. Эти усилия могут включать реформирование информационной системы систем и разработку новых технологий, которые помогут сократить эффекты искажения информации. Примеры таких усилий можно заметить в международных инициативах, направленных на создание соответствующих механизмов для контроля за открытыми данными (англ. open data), что подчеркивает необходимость межправительственного сотрудничества и использования инноваций для преодоления глобальных вызовов.
Для успешного воплощения принципов устойчивого развития необходим интегрированный подход, который будет учитывать как социально-политические, так и информационные потребности человечества. Это требует синергетического взаимодействия различных стран и регионов мира, чтобы совместно развивать решения, которые способствуют не только экономическому росту, но и поддержанию прозрачной информационной системы. Устойчивое развитие в этом отношении остается не только научной концепцией, но и практическим руководством для политических действий, направленных на долгосрочное благосостояние планеты и ее населения.
Таким образом, в контексте безопасности международных отношений в рамках феномена постправды концепция «устойчивого развития» представляет собой многогранное понятие, которое объединяет цифровые аспекты функционирования различных элементов глобального сообщества в рамках общемирового взаимодействия.
Современные тенденции показывают, что устойчивое безопасное информационное развитие стало неотъемлемой частью глобальной повестки, объединяя усилия государств, бизнеса и гражданского общества для достижения долгосрочной стабильности и благополучия. Таким образом, понятие «устойчивое развитие» в сфере информационных потоков остается важным инструментом для формирования справедливого, сбалансированного и устойчивого будущего для всех.