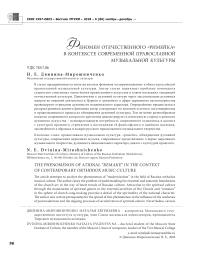Феномен отечественного "римейка" в контексте современной православной музыкальной культуры
Автор: Двинина-Мирошниченко Наталья Евгеньевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Художественная культура: история и современность
Статья в выпуске: 6 (86), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка анализа феномена «осовременивания» в области российской православной музыкальной культуры. Автор статьи поднимает проблему понимания сущностно-смысловых основ бытия православного искусства в ключе последних тенденций отечественной культуры. Привлечение к духовной культуре через массовизацию духовных жанров во внешней деятельности Церкви и «римейки» в сфере церковного песнотворчества провоцируют отрицание духовности национального характера. Определённые предпосылки к распространению данного феномена автор усматривает во влиянии эстетики постмодернизма и продолжающихся процессах обмирщения духовной культуры. Тем не менее разнообразные попытки современного авторского прочтения демонстрируют и позитивную сторону в развитии духовного искусства - всевозрастающую потребность современного художника в диалоге с культурой прошлого, стремление к постижению её философского и идейного наследия, заключённого в образцах и жанрах русского православного музыкального творчества.
Православная музыкальная культура, "римейк", обмирщение духовной культуры, современная церковная музыка, современное представление о норме церковного музыкального творчества, духовность национального характера, диалог с культурой прошлого
Короткий адрес: https://sciup.org/144161239
IDR: 144161239 | УДК: 783:7.06
Текст научной статьи Феномен отечественного "римейка" в контексте современной православной музыкальной культуры
В рамках исследования современных процессов массовизации и коммерциализации культуры и образования пристального наблюдения и осмысления требует тенденция так называемых римейков – «переделок» на новый лад широко известных произведений российской культуры, которая особенно популярна стала в XXI веке, в особенности в области режиссуры, кинематографа и композиторского творчества. Если в конце XX века критики достаточно осторожно рассуждают о смысле и причинах подобных «новаций» молодых театров, то начало нового века знаменует открытая и острая полемика.
Эпатаж современной российской периодической печати, сосредоточенный на «римейках» классики в большинстве старейших российских театров, вскрывает серьёзную социальную подоплёку этой тенденции в известном «Обращении Союза писателей России», определяющем её как культурную войну: «... по большому счёту, это война, которая теперь ведётся с самым откровенным цинизмом...» [9]. Одной из острых культурных проблем становится унификация элементов пространственно-временного континуума драмы, оперы или другого сценического действия в единое «современное прочтение», которое грозит серьёзными потерями семантического поля культуры, так как отсутствие смысловых и знаковых ори- ентиров закономерно превращает произведение в пародию.
«Осовременивание» классики позиционируется как естественная реакция культуры на процессы глобализации, которые обусловили соединение в едином пространстве семантически несоединимых традиций, а также как просветительское привлечение к классическому репертуару массового зрителя, которое по существу продиктовано коммерческой выгодой – создать «сенсацию» любой ценой. В интерпретации Грэма Вика оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов» Мариинский театр в угоду западным вкусам демонстрирует попрание ногами герба Советского Союза. Концепция оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (2006) режиссёра Д. Ф. Чернякова построена на льстящем западному взгляду представлении о русском обществе как о сборище мещан, пьяниц, посредственностей, где любое проявление индивидуальности обречено либо на посмешище (Ленский), либо на нервный срыв, граничащий с психическим расстройством (Татьяна). Простая, на первый взгляд, подмена «антуража» оборачивается подменой символов, смысловой составляющей произведения искусства. Принимая во внимание трактовку Х. Ортега-и-Гассета, характеризующего представителей массовой культуры не с точки зрения официального социального статуса, а с точки зрения внутреннего, глубинного омассовления сознания, можно констатировать процесс перерождения ведущих театров академического направления в объекты массовой культуры, где «на спектаклях и концертах публика мнит себя выше любого драматурга или композитора, самозаб- венно затаптывая в грязь и того, и другого» [цит по: 2, с. 83].
Об опыте «осовременивания» церковных музыкальных традиций Последние тенденции говорят не только о продолжающихся процессах секуляризации духовной культуры, но и о магистраль-но идущих влияниях постмодернизма, стремящегося распространить свою монополию и на сферу духовного искусства. Эстетике постмодернизма прежде всего чужд сам Смысл артефакта, тем самым она превращает явление в профанацию. О. А. Николаева в книге «Православие и свобода» указывает на скрытый, закодированный смысл, активно транслируемый постмодернизмом, а именно: в мире нет ничего священного, из чего бы нельзя было сделать пародию или переиграть в профанное: «... постмодернизму ненавистен Образец, который он деформирует и тем самым дезавуирует или, в крайнем случае, оттесняет его всякого рода римейками, этими псевдокопиями» [10, с. 312]. Распространение этого феномена Олеся Николаева усматривает в нынешнем состоянии православной культуры: «... православная культура пока слишком слаба. Её нельзя пересадить из прошлого, её можно возделывать лишь в настоящем» [10, с. 380].
Тем не менее определённые «корни» отечественного «римейка» необходимо рассмотреть и в русле процесса секуляризации православной духовной культуры, который к концу XIX века достиг своего апогея.
В частности, в области церковного художественного искусства результатом «обновлений» стало сокрытие древних икон под позолоченными ризами, в области храмового зодчества – отделка деревянных церквей «под камень». В музыкальном искусстве они были связаны с активным «переина- чиванием светских партитур для клиросных нужд» [4, с. 65]. Преподаватель кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории протоиерей Виталий Головатенко подчёркивает, что многие из них «всё ещё живы и исполняются за богослужением и в наши дни» [4, с. 65].
Процессы секуляризации духовной культуры, временно приостановившиеся в годы гонений на РПЦ, получили новое развитие в XXI веке в результате изменения политического курса страны на сотрудничество с РПЦ и пропаганду православного образа жизни. «Революция 1917 года и последовавшие за ней гонения на Церковь постепенно привели к более серьёзному отношению к службе. Храмы вновь заполнились богомольцами, а не слушателями...», – пишет исследователь современной церковной культуры Н. Ю. Олесова [11]. Тем не менее «обратная сторона медали», а именно: что пришли услышать ищущие воцерковления новые богомольцы, практически не изменилась за последние триста лет. Это – отсутствие образованных певчих, скудость музыкального материала, примитивно тонально гармонизованные знаменный распев и гла-совые попевки, лишённый индивидуальности, интерпретирующий стиль партеса в творчестве активно пишущих современных церковных композиторов-традиционалистов (А. Д. Гринченко, В. К. Ковальджи и другие), наконец, «римейки» – перефразированные в жанр молитвенных песнопений бытовые романсы, песни, фрагменты свет- ских сочинений, которые протоиерей Виталий Головатенко бескомпромиссно именует «музыкальными “оборотнями”» [4, с. 65]. Изучение и совершенствование церковно-славянского языка, воссоздание «золотого» интонационного фонда канонического песнотворчества Древней Руси и аранжировок древних распевов композиторами конца XIX века, постижение смысла и содержания богослужебных песнопений как выразителей догматов Церкви – всё это до нынешнего времени в большей мере остаётся уделом историков.
XXI век насыщен крупными, масштабными явлениями в области развития отечественной духовной музыкальной культуры. В декабре 2016 года в Москве прошёл Первый съезд певчих и регентов РПЦ, в работе которого приняли участие регенты и священнослужители из более чем 90 епархий и из 17 стран. Это событие указывает на количественный и качественный рост специалистов узкого профиля: уставщиков, регентов, высокообразованных церковных певчих. Актуальная проблема возвращения молитвенного духа церковным песнопениям была поднята митрополитом Иларионом Алфеевым, который является председателем диссертационного совета Общецерковной аспирантуры и докторантуры и церковным композитором. В своём выступлении на Первом регентском съезде митрополит, в частности, сказал: «... пение должно способствовать тому, чтобы понятными и доступными для ума и сердца верующего становились богослужебные тексты» [1, с. 51]. В итоге архипастырь призвал к включению в современную практику богослужения музыки современных авторов и назвал четыре имени, произведения которых уместно исполнить в богослужении. Это сочинения митрополита Ионафана Елецких, монахини Иулиании (Ирины Денисовой), Владимира
Файнера и Геннадия Лапаева [1, с. 53]. Однако обозначенные митрополитом Иларионом пути к приумножению традиций российской духовной композиторской школы открывают две проблемы. Во-первых, это вопрос о возможности объединения сочинений названных авторов в аудиопространстве одного богослужения. Во-вторых, это не менее сложный вопрос – о приоритете указанных стилей. По словам С. И. Хвато-вой, «приоткрывшийся “железный занавес” обнажил проблему самобытного развития или европейской интеграции» [15, с. 30].
С точки зрения популяризации автономного, самобытного творчества очевидна невозможность объединения сочинений вышеуказанных авторов в одном богослужении. Творчество первых трёх композиторов находится в русле развития западноевропейского духовного музыкального искусства. В частности, явным свидетельством отечественного «римейка» в новейших сочинениях церковных композиторов выступают баховские хоралы, подтекстованные церковно-славянскими текстами, или включённые в партитуру фрагменты инструментальной музыки известных композиторов-классиков. Особняком стоит фигура композитора Г. Н. Лапаева – регента Вознесенского кафедрального собора Твери. Концентрация в одном человеке глубокой веры, профессионализма дирижёра, педагога, издателя обусловила уникальный момент встречи древнего церковного пес-нотворчества и современного представления о норме церковного музыкального творчества . В результате произошло согласование творческого начала с основополагающими принципами канонического церковного пения. Тесная генетическая связь мелодики Г. Н. Лапаева с образцами самогласных напевов отвечает так называемым принципам условного осмогласия. «Трисвятое», «Свете
Тихий», аранжировки знаменных распевов и другие сочинения Г. Н. Лапаева пользуются огромной популярностью во множестве приходов и зачастую распространяются в рукописном виде ввиду малой публикации. Широкий культурный кругозор, колоссальная инициативность, постоянное внутреннее «горение», наполненное творческими исканиями, стали той избыточной творческой силой, которая породила столь значимые артефакты.
Показательно, что процесс «осовреме- нивания» затрагивает и нынешние сочинения канонического направления. В качестве яркого примера можно привести двухголосную «Милость мира» диакона Сергия Трубачева. Факты биографии композитора свидетельствуют о его щепетильном отношении как регента и аранжировщика к авторской партитуре [13, с. 8]. «Благолепное украшательство» хоральной фактурой и тональной гармонией было чуждо натуре художника. Тем не менее стремление современных «новаторов» «заковать в ризу» пар-теса творчество диакона Сергия, при всех негативных сторонах этого явления, обнаруживает оценку сочинений С. З. Трубачева как определённого феномена. Это – каноническое направление, которого чуждается эстетика постмодернизма и стремится «осовременить».
Панорама православной музыки на сегодняшний день огромна. Популярной лёгкой музыкой для отдыха или туристической поездки в автомобиле или автобусе становятся песни так называемого духовного содержания. Именно на них в первую очередь ориентируется музыкальная жизнь воскресных школ, гимназий и других внехрамовых учреждений. Всё большее количество популярных песен подтексто-вывается духовными текстами. В частности, “Jingle Bells...”, перефразированный в «Рож- дество...», становится своеобразным символом отрицания духовности национального характера и утверждением духовности «интернационалистического Тарзана» [6, с. 517], о которой И. А. Ильин писал как о свойственной современной западноевропейской культуре. И как следствие этого – балансирование православной музыки во внешней деятельности Церкви на грани забвения духовных ценностей национальной православной музыкальной культуры. И этот фактор неизбежен, так как «религия не распространяет монополию на опыт невыразимого» [17, с. 25], – справедливо замечает исследователь современной духовной музыки Питер Баутенефф. Тем не менее, анализируя феномен «осовременивания» в области православной музыкальной культуры, прогрессивные деятели российской культуры говорят о его опасности как во внутри-церковной, так и во внецерковной сфере. В частности, профессор Московской консерватории В. В. Медушевский задаётся вопросом: «... что будет препятствием для подмены классической основы музыки храма рок-обработками того же Чеснокова и даже знаменного пения? Пока число рок-батю-шек в нашей стране ничтожно мало... Когда их станут сотни, “добрый” пиар апостасий-ных СМИ почувствует, что на них со стопроцентной гарантией можно делать ставку. Тогда “прогрессивных” священников, “любящих” молодёжь и язык музыкального рока он противопоставит “отсталым” “догматикам-консерваторам”» [8].
Современная церковная музыка и иконография: в поисках канона
Возможно, одной из причин распространения «римейка» в православной музыке является мнимое отсутствие определённого канона, потворствующее поверхностному отношению к сущностно-смысловым основам бытия православного музыкального искусства. Несомненно, что наиболее зримо православный канон представлен в иконописи. «Собственно икона, как идеал знакового текста, есть великолепный пример объекта анализа для культурологии» [14, с. 138], – пишет современный учёный А. А. Трошин. Но если в области современной иконографии канон очевиден и исследован, то в области современной церковно-певческой культуры он несколько размыт (за исключением, возможно, двух внешних факторов: исполнения а капелла и наличия богослужебного текста). Этот факт подтверждают и слова выдающегося регента современности Е. С. Кустовского, данные нам в интервью: «... потому, что касается канонов по части текстов, – они есть, а вот канонов по части музыки, то есть напевов, – здесь чётких границ нет. То есть они были, наверное...» [5, с. 35]. В то же время современный взгляд на икону простирается гораздо дальше, чем, говоря аналогичным образом, исполнение её на деревянной доске и надписи на церковно-славянском языке. Создание иконы предполагает определённый порядок наложения материалов, соответствие выверенным многовековой практикой архетипам, использование символических знаков и условности изображения. Канонические принципы работы с музыкальным материалом, основанные на системе осмогласия, позволяют произведению музыкального искусства, подобно святым иконам, отобразить важнейшие сущностно-смысловые категории православного искусства: тождество Слова и Образа, всепро-странственность, вневременность, свето-носность. В этом ключе «осовременивание» сочинений Сергия Трубачева, о котором шла речь выше, несомненно, указывает на иконозначимость как интенцию его музыкального творчества. Каноническое направ- ление обнаруживает значимую и действенную силу, оппонирующую «римейку», нивелирующему Смысл артефакта.
Вместе с тем проблему современного прочтения ни в коей мере нельзя оценивать однозначно в негативном ключе. Принцип «осовременивания» глубоко отличен от современного осознания вечных ценностей, которые открывают нам символы православного музыкального искусства. «Современность – принцип взаимопонимания между людьми. Для достижения такого взаимопонимания необходимо осовременить, “освоить” исторический и культурный контекст мира. Определённость такого контекста представляет действительную современность», – пишет культуролог З. Л. Черние-ва [16, с. 118]. В рамках настоящей статьи мы не можем широко осветить эту проблему. Возможно, для современного исследователя определённый интерес представит разработка темы памятования и постоянного возвращения к православным символам, запечатлённым в образцах и жанрах церковно-певческой культуры, в частности, через обращение к православному гимну «Свете Тихий». Эта тонкая нить незримо связывает следующие шедевры: завершает один из «Стихов к Блоку» Марины Цветаевой (1919) [12, с. 8–9], проходит на фонетическом уровне в стихотворении «Тишины!» Андрея Вознесенского (1963) [3, с. 549– 550], возрождается в финальном романсе из цикла «Бессонница» лауреата премии ленинского комсомола, саратовского композитора Елены Гохман, который и получил название «Свете тихий» (1988). Эсхатологическое переживание времени, характерное для лирики М. И. Цветаевой, в вокальном цикле Е. В. Гохман (16 романсов для сопрано и фортепиано) усиливается через личностную сторону христианского сопереживания. Эти выдающиеся художники прошлого века удивительно бережно пронесли ощу- всей экстраординарности стилистики, мож- щение вечности, покоя и величия православного символа через светские литературные и музыкальные жанры. Говоря о вечности современным языком, они не нарушили, не расплескали этот благодатный огонь символической значимости православного гимна, делающий их произведения сопричастными Жизни Вечной, свидетелями явления в современный мир того Света Невечернего, о котором поётся в православном песнопении.
***
Объективно оценивая процессы «осовременивания» в области православной музыкальной культуры, можно утверждать, что пути авторского прочтения имеют две магистральные тенденции. В первом случае – это истинное, сокровенное, личностное обобщение трансцендентного опыта общения с нематериальными ценностями православной культуры. Во втором – навязывание ложных ценностей под прикрытием мнимой свободы современного взгляда на православное искусство. И каждый случай индивидуален, неповторим. При но упомянуть те шедевры, которые создали современные авангардисты, существенно обогатив сферу православной музыки: А. Г. Шнитке «Молитва Господня» (1984), А. А. Пярт «Богородице Дево, радуйся» (1990), В. И. Мартынов «Блажены» (2012). Наряду с «Духовными песнопениями» Г. В. Свиридова (1988), их начинают исполнять не только академические, но и церковные коллективы. В них явственно ощутимо то национальное своеобразие, которое отличает российскую православную композиторскую школу. Феномен «римейка», по сути, противоположен новизне авторской мысли, свидетельствует об отсутствии творческого потенциала, тем не менее и он указывает на всевозрастающую потребность авторов в диалоге с художественной культурой прошлого, которая, по мнению Т. И. Ку-расовой, «... вызвана попыткой восполнить дефицит духовности современной жизни» [7, с. 5]. И через этот диалог вновь отстаиваются вечные ценности российской православной духовной культуры, вечные ценности Истины, Красоты и Добра.
Список литературы Феномен отечественного "римейка" в контексте современной православной музыкальной культуры
- Алфеев И. (митрополит Иларион Алфеев) Вернуть церковному пению молитвенный дух: Из выступления митрополита Волоколамского Илариона на пленарном заседании съезда // Журнал Московской Патриархии. 2017. № 1. С. 51-53.
- Артемьев А. И. Феномен «Нового искусства» в концепции кризиса культуры X. Ортеги-и-Гассета: дис.. на соиск. учён. степ. кандидата культурологии: 24.00.01 / Артемьев Алексей Иванович; Академия переподготовки работников культуры, искусства и туризма. Москва, 2012. 129 с.
- Вознесенский А. А. Аксиома самоиска. Санкт-Петербург: ИКПА, 1990. 562 с.
- Головатенко В. Богослужебное пение и светская религиозная музыка // Церковь и искусство: IX Всероссийские научно-образовательные Знаменские чтения «Традиционные ценности в условиях глобализации», Курск, 3-4 апреля 2013 года / Курская епархия Русской Православной Церкви Московского Патриархата, Курский государственный университет; [гл. ред. М. Л. Космовская]. Курск: КГУ, 2013. С. 59-68.
- Двинина-Мирошниченко Н. Е. Границы и грани духовной музыки // Даниловский благовестник. № 33. Москва: Издательство Данилова ставропигиального мужского монастыря, 2017. С. 33-36.