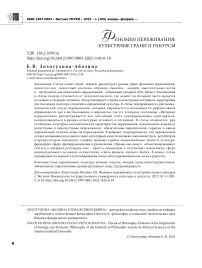Феномен переживания: культурные грани и ракурсы
Автор: Золотухина-аболина Е.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философия и теория культуры
Статья в выпуске: 1 (105), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья ставит своей задачей рассмотреть разные грани феномена переживания, понятого как целостный комплекс образов, смыслов, эмоций, мыслительных актов и настроений, как качественно определенный жизненный интервал (В.Б. Мелас). Реализуемый в статье подход отличается от психологического, где акцент по большей части делается на эмоции и текущую ситуацию. Автор апеллирует к идеям и культурным ситуациям, характерным для последних полутора столетий в европейской культуре. В статье подчеркивается собственно- человеческий статус переживания, который выражается в возможности рефлексивной обращенности как к воспоминанию о пережитом, так и к текущему состоянию. «Интервал переживания» рассматривается как способный стать типизированным, повторяться, воспроизводиться в разных культурных условиях и ситуациях. В статье отмечается ряд устойчивых культурно-психологических характеристик переживания, позволяющих выделить: допустимые и недопустимые переживания; обязательные переживания; скрытые и явные переживания; наличие моды на переживания. В выводах подчеркивается, что переживания служат основанием для оценки социо-культурных качеств человека, выполняют роль регуляторов и организаторов поведения, создают мощные идейно-эмоциональные линии в культуре, формируют сферу врепяпровождения и развлечения. Однако вне своего объективированного статуса и внешней регуляции они просто самоценны и составляют важнейшую сферу индивидуального сознания, осуществляя «связь времен» личного бытия. В конце статьи подчеркивается важность культивирования такого типа переживания как «воля к радости».
Переживание, культура, человек, смыслы, эмоции, допустимое/недопустимое, обязательное, скрытое/явное (демонстративное), мода, страдание/радость
Короткий адрес: https://sciup.org/144162553
IDR: 144162553 | УДК: 130.2:1(091)д | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-1105-6-18
Текст научной статьи Феномен переживания: культурные грани и ракурсы
УДК 130.2:1(091)д
Тема этой статьи – феномен переживания и его разные грани в культуре. Слово «переживание» широко встречается как в психологических, так и в философских работах, но применяется оно нередко без определений, поскольку присутствует в обыденной речи. Тем не менее, ряд исследователей предлагают свое видение этого понятия, и, опираясь на одно из них, мы намереваемся разобраться в том, как переживание представлено в контексте культуры, вписано в социо-культурные практики. И хотя, конечно, нельзя пройти мимо психологических характеристик переживания, данных Л.С.Выготским[2], и С.Л.Рубинштейном[14], речь в статье все же пойдет о философском видении переживания, которое в своих истоках восходит к работам В.Дильтея [6], Г.Зиммеля [7], О.Шпенглера[20], а также было рассмотрено в исследовании Г.-Г.Гадамера «Истина и метод» [3].
Понятие «переживание» в психологической литературе употребляется, прежде всего, для характеристики текущих эмоций, для описания ситуативной душевной жизни. Несколько иное понимание переживания принадлежит Ф.Е.Василюку [1], рассмотревшему его как работу по преодолению кризисных психологических состояний. Мы же избираем в качестве методологической опоры, скорее, феноменологический подход, изложенный в работах В.Б.Меласа [12]. Этот автор видит в переживании целостный комплекс образов, смыслов, эмоций, мыслительных актов, настроений, который впоследствии, post factum может быть описан. Такой комплекс всегда несет в себе как душевную работу, так и моменты созерцания, чувство и смысл в нем едины, мысль, ощущение, оценка глубоко связаны и переплетены. Синкретичность переживания находит выражение в воспоминании и пошаговом описании, стремящемся к интеграции впечатлений. Переживание, таким образом, составляет некий континуальный «интервал» внутренней жизни, где составные и фазы можно выделять с определенной степенью условности. Переживание, понятое как качественная целостность, лишь отчасти дано в режиме актуального времени, сливаясь с течением настоящего, оно является становящимся. Присутствующая при этом рефлексия не бывает полной, однако она сопровождает, дополнительно мотивирует, всесторонне обогащает мировосприятие, придает действию особый экзистенциальный тон. Переживание-интервал способно многократно повторяться, хотя и с вариациями, а также может охватывать длительные периоды времени. Именно это делает его важным фактором культурной жизни, придает ему целый ряд социо-культурных функций.
Понимая, что поднимаемая тема «культурной сути» и «культурной роли» переживания огромна и богата по направлениям исследования, мы лишь ставим в данной статье задачу прочертить некоторые возможные векторы анализа избранного сюжета.
Переживание – чисто человеческое явление
Переживание, понятое в качестве «интервала душевной жизни», выступает как исклю- чительно человеческое свойство. Подчеркнем еще раз, что оно не равно понятию чувства или эмоции, и даже комплекса эмоций. Здесь нельзя не сослаться на психологическую литературу, тем более, что грань между философией и психологией в вопросах сознания достаточно проницаема. В интегративном исследовании Е.П. Ильина сказано: «Современных ученых, рассматривающих соотношение чувств и эмоций, можно разделить на четыре группы. Первая группа отождествляет чувства и эмоции или дает чувствам такое же определение, какое другие психологи дают эмоциям; вторая считает чувства одним из видов эмоций (эмоциональных явлений); третья группа определяет чувства как родовое понятие, объединяющее различные виды эмоций как формы переживания чувств (эмоции, аффекты, настроения, страсти и собственно чувства); четвертая — разделяет чувства и эмоции» [9 С.283.].
Чаще всего человеческие чувства (не ощущения) рассматриваются как сложные устойчивые образования, имеющие определенный предмет [10] (например, «социальные чувства» - ответственность, гражданственность, любовь и т.д.), в то время как эмоции видятся в качестве ситуативных проявлений, реакций на значимые для субъекта моменты. В то же время термин «чувства» нередко связан с модальностями (зрение, слух, осязание), а также с субъективной данностью мира как проявлением потребностей ( чувство голода, жажды и т.д. ). Эмоции и чувства, понятые как проявление потребностей, присутствуют и у животных. Странно было бы видеть в других живых существах лишь машины, как это происходило в Новое время. Об эмоциональных проявлениях животных написано достаточно много, в данном случае можно упомянуть хотя бы работы знаменитого этолога
К.Лоренца [11], а также работы отечественного автора Д.А.Жукова [8]. Однако даже домашние животные, которые эмоционально общаются с людьми и не лишены определенных моментов памяти, не обладают переживаниями в указанном нами выше смысле слова . Нельзя не согласиться с Максом Шелером, который, сравнивая человека и животное, пишет: «Только человек – поскольку он личность – может возвыситься над собой как живым существом и, исходя из одного центра как бы по ту сторону пространственно-временного мира, сделать предметом своего познания все , в том числе и себя самого»[18, С.60]. Переживание – это и есть способность, во-первых, подняться над текущим моментом, выйти, обернувшись назад, из наличных обстоятельств, чтобы вновь пройти в своей душевной жизни уже пройденный путь, давая ему оценку и интерпретацию. Во-вторых, это умение в ходе поведения и деятельности, не полностью сливаться с ними, а одновременно отстоять на некотором внутреннем расстоянии – одновременно действовать, чувствовать, созерцать и рефлексировать, то есть, переживать текущий момент во всей его полноте. Хотя в этом последнем случае, как мы уже отметили, переживание имеет лишь тенденцию к целостности и обретет эту целостность по окончании того, что мы называем «настоящим временем»1.
Являясь чисто человеческим качеством, всегда принадлежащее конкретному субъекту, переживание возможно лишь в рамках культуры, которая предполагает повторяемость и типизацию . Не лишне вспомнить А.Шюца, который пишет: «Во всех …формах социальных взаимодействий (даже в отношениях между т оварищами в т ой мере, в какой это касается
-
1 Автор придерживается представления, что настоящее время – не мгновение, а длящийся период, который может занимать разное количество темпоральных мер ( минут, часов, дней, лет).
нераскрытых сторон личности Другого) сущность другого человека может быть схвачена, используя ранее цитированное выражение Уайтхеда, с помощью «вклада в воображение гипотетически представляемого значения», т.е. формирования конструктов типичного поведения, типичных мотивов, лежащих в его основании, типичного отношения к персональному идеальному типу, примером которого является поведение Другого, как в пределах, так и вне поля моей досягаемости»[21 С.19]. Соглашаясь с позицией феноменологической социологии, можно сказать, что и переживание, актуально всегда принадлежащее уникальному человеку и его неповторимой истории, в контексте общественной жизни обретает множество типизированных форм , становится и способом времяпровождения, и способом мотивации, и необходимым предшественником деятельности. В культуре возникает целый спектр моделей переживания , которые играют разные роли, выполняют многообразные функции, регулируя и направляя человеческую жизнь, организуя ее.
Разумеется, «модели переживания», представленные разными способами- от прямого подражания до письменных наставлений -и предлагающие «мыслить и чувствовать также», всегда интерпретируются индивидами и приобретают вид личного опыта . Они нередко протекают во внутреннем мире, вообще не проявляя себя очевидным образом, скрываясь в глубине души или под покровом ночи. И, тем не менее, они в массовом масштабе являются « вариацией на тему » - тему, заданную временем и культурой. Не претендуя на полноту охвата, обратимся к некоторым способам функционирования переживания в контексте культуры. Каждый из таких способов может стать объектом развернутого исследования.
Допустимые и недопустимые переживания
Переживания могут быть допустимыми и недопустимыми. Даже если не соглашаться с З.Фрейдом[17] в том, что культура – это система запретов, приводящая к неврозам и лишающая человека естественных удовольствий и радостей, то все равно нельзя не признать ее регулятивно-нормативную роль. А регуляция и нормирование (та же, уже упомянутая типизация) предполагает, что какие-то проявления и поведения, и душевной жизни, утверждаются и одобряются, а какие-то рассматриваются в качестве нежелательных и недопустимых. Собственно, именно З.Фрейду и принадлежит явное указание на то, что целый ряд видов переживания, реально захватывающих человека, спонтанно повторяющихся и сохраняющихся в памяти, выступают для наличной культуры недопустимыми, запретными и позорными , даже если о них никто не знает. В рамках фрейдовской теории Эдипова комплекса это, в первую очередь, не одобряемые общество сексуально-эротические влечения, которые, конечно же, выступают именно как переживания во всей полноте развертывающихся перед воображением картин. Как показывает в своих работах Фрейд, множество внешне благополучных и благообразных людей предаются переживаниям, которые выступают как тайные и стыдные, именно потому, что социум сурово осуждает их – не только возможное действие, но и его нереализованный внутренний образ . Оттого эти переживания скрыты и нередко проявляют себя в инвертированных формах, вызывают неврозы.
Обратим внимание на то, что задолго до Фрейда в христианской культуре, придающей большое значение внутреннему миру, многие переживания, охватывающие чело- веческую душу, рассматривались как крайне нежелательные и осуждаемые. Собственно, любое моральное воспитание связано с привитием представления о тех переживаниях, которых порядочному человеку следует избегать: например, состояний зависти, злобы, уныния, вожделения по отношению к людям, связанным узами брака. Зависть или уныние – не отдельная эмоция, не просто минутная вспышка, это целостный комплекс чувств, мыслей и интенций, имеющий порой, не только наблюдаемый извне прототип, но и некую фазу личного опыта. Любые отвергаемые и осуждаемые культурой переживания способны повторяться, занимая разные темпоральные периоды в жизни человека: иногда, например, ревность бывает относительно ситуативной, а порой охватывает годы и десятилетия жизни.
В то же время, культура предлагает ряд внутренних состояний как образцовых, достойных подражания. Важно, что это не просто морализаторские поучения, холодные, эмоционально-нейтральные или же рациональные аргументы в пользу того или иного поведения. Речь идет именно о переживаниях, о могучем эмоционально-смысловом комплексе, захватывающем человека. В европейской культуре, как, впрочем, и у других конфессий, образцами одобряемого переживания нередко выступают высокие переживания героев и святых. Герои, защищающие родину, испытывают праведный гнев к врагам, высокое сострадание к страждущим, они охвачены стремлением к справедливости. Святые, хотя и претерпевают муки, в первую очередь переживают любовь к Богу, жалость к заблудшим душам, ощущают на себе благодать высшего начала и миссию вести человечество к лучшему. Если же не останавливаться на сакральных образцах, то одобряемыми переживаниями в том же христианстве полагаются смирение – как умение бестрепетно переживать удары судьбы и способность находить в них глубокий смысл, благожелательство к ближнему, надежда на лучшее и вера в бесконечную доброту Бога.
В советский период в качестве вменяемых и одобряемых переживаний выступало переживание коммунистического энтузиазма , который вел индивидов к практической борьбе за дело мирового пролетариата, чувство верности делу партии, товарищеская честность, мужество, сознательная устремленность к преобразованию жизни на основе принципов марксистско-ленинского учения. И, поскольку, именно энтузиазм был прокламируемым переживанием №1, постольку переживания сомнения, уныния, пассивности, страдания, эскапистские тенденции рассматривались как осуждаемые и недопустимые. В силу этого все «эталонные персонажи» популярных фильмов, в особенности, 30-х-50-х годов ХХ века, это персонажи простые и бодрые: их внутренний мир целостен, и позволены им, в крайнем случае, любовные страдания, но не сомнения в деле социального строительства.
Примечательно, что одни и те же комплексы переживаний в разные периоды социальной жизни, также как в разных культурах, могут приобретать то статус одобряемых, то осуждаемых. Так, во время войны резко сужается позитивная роль жалости и опасливости, но одобряется гнев и прославляется переживание храбрости и бесстрашия, даже жертвенности, отходящие в мирное время на второй план. Существуют и гендерные различия: сугубо «женские переживания» считаются не подходящими для мужчин, призванных к более суровой душевной жизни.
Обязательные переживания
Исторически и государства, и церкви, и политические партии, не говоря уже о разного рода военных и мистических сообществах, культивируют у своих членов и граждан определенный тип переживаний, выступающих и как элемент повседневной жизни, но, прежде всего, как часть сакрального ритуала. Пение гимна, поднятие флага, торжественное собрание, коллективное богослужение – все эти обрядно-ритуальные процедуры, призванные создать единство сообщества и укрепить его ценностные ориентиры, непременно должны сопровождаться достаточно сильными переживаниями торжественности, единения, солидарности, вызывать возвышенные чувства и образы, символизирующие нерушимость конкретного человеческого союза.
Ярким примером такого обязательного переживания, без которого проводимая процедура теряет всякую значимость, выступает один из столпов ислама мусульманский намаз, осуществляемая пять раз в день молитва Аллаху. Об этом следующим образом пишет руководитель Российского Духовного управления мусульман Р.Гайнутдин: «Сердце молящегося должно быть бодрым, а разум ясным, в молитве мусульманин глубоко чувствует величие всего, что сотворено Аллахом и верит в то, что именно Господь направляет ход всех событий, ощущает Его безграничное могущество в любой вещи и любом событии. В молитве мусульманин уповает на Аллаха, на Его милость, обращается к Нему за помощью и верным руководством» [4 С.483]. То есть, всякий раз при совершении намаза, мусульманин – в далеком ли прошлом или в современную эпоху - не просто стоит на коленях и бьет поклоны. Механическое исполнение ритуала не имеет никакого смысла, верующий должен в полной мере переживать свое обращение к Аллаху, собственную покорность ему, готовность принять любую волю и любое повеление Всевышнего, он должен всякий раз возвращаться к чувствам священного страха, восхищения, умиления и надежды.
Собственно, то же самое касается христианской молитвы или даже просто пребывания близ храма, исполненного возвышенного переживания. О нем Рудольф Отто пишет: «…лишь одно наименование близко подходит к выражению существа дела: чувство mysterium tremendum, заставляющее таинство трепетать. Это чувство может пронизывать душу мягким потоком, в форме успокаивающе парящей погруженности в молитву. Оно может своей непрестанной данностью потрясать душу, а затем трепет ее оставляет и она вновь возвращается в профанное. Неожиданными вспышками, порывами оно может вырываться из души. Оно способно приводить к странному волнению, упоению, восторгу и экстазу. У него бывают дикие и демонические формы. Оно может повергать в какой-то почти призрачный ужас и дрожь. Ему могут предшествовать грубые и варварские ступени и проявления, переходящие в тонкий перезвон и просветленность. Оно может стать тихим, смиренным содроганием и онемением твари перед… — да, перед чем? Перед тем, что в несказанной тайне возвышается над всяким творением»[13 С.22].
Если у верующего нет подобных переживаний, он как бы и не совсем верующий. Точно также военный, равнодушный к полковому знамени, политик, не испытывающий пиететных переживаний в отношении лидера – не вполне полноценные члены сообщества. Переживание в данном случае – маркер реальной причастности к вере, группе, доктрине. Вот почему в социуме и культуре всегда стоит вопрос об искренности членов сообщества, о том, в самом ли деле люди испытывают чувства братства и верности или же являются лишь холодными прагматиками, которые имитируют преданность идее, вере, организации. Поскольку переживание – это состояние субъективное и, как мы уже отметили, может происходить без внешних демонстраций, о нем нередко можно судить лишь по косвенным признакам – мимике, пантомиме. А искренность даже демонстрируемого чувства, проверяется лишь в практике жизни – в ситуациях реального выбора поведенческой линии. Но в любом случае, начиная от Платона, многие идеологи, занятые состоянием общественного сознания, настоятельно рекомендуют политикам организовывать у граждан с помощью искусства необходимый властям «поток переживаний», обязательный для консолидации социального организма.
Скрытые и явные (демонстративные) переживания
Животные, у которых нет переживаний в человеческом смысле, но есть эмоции, хотя и проявляют порой хитрость, в большинстве случаев не скрывают своих реакций на происходящее. В этом отношении они всегда открыты и достаточно непосредственны. Однако развитие культуры, в рамках которой становится и укрепляется человеческая личность, уже в архаических обществах требует подавления демонстрации своих переживаний, воспитания сдержанности в одних случаях и яркой демонстрации состояний внутреннего мира – в других. И, если в ритуальной ситуации можно и нужно обнаруживать переживания скорби или любви, то в ситуации угрозы мужчине запрещено демонстрировать страх, вспоминать о пугающем, лелеять свою боязнь, идущую из прошлого, в то время как женщина обязана скрывать, например, свой накопленный гнев по отношению к мужу, отцу семейства и должна прятать его за показной покорностью.
Конечно, в разных культурных регионах в зависимости, в том числе, от темперамента населения, принято большее или меньшее обнародование своих настроений и душевных треволнений, воспоминаний и актуальных состояний ума и чувства. Согласно суждению обыденного сознания, северяне более сдержаны и погружены в свои переживания, в том числе в воспоминания, более замкнуты во внутреннем мире, в то время как горячие южане легко проявляют свои глубинные переживания, активно их объективируют в словах, пантомиме, во всех формах телесной выразительности, стремясь сделать внутреннее – внешним, заставить другим сопереживать им. Трудно сказать, так ли это, видимо, выражаясь языком К.-Г.Юнга [22], моменты интроверсии и экстраверсии есть у представителей любых народов. Однако, несомненно, что на разных этапах отечественной и западной культуры меняется представление о том, насколько переживание, в том числе интимно-личное воспоминание, должно стать достоянием общественности . Так, еще девятнадцатый век, достаточно сдержан в повседневных установках на проявление переживаний с учетом различий в обеспеченной и образованной среде, где строго соблюдается этикет, и в среде народной, неграмотной и полуграмотной, где нравы гораздо более грубы.
Замкнутость и сдержанность рассматриваются в культурных кругах как момент хорошей воспитанности, утонченности, сложности внутреннего мира, который не выворачивается наизнанку перед каждым встречным. Люди четко ранжируются по степени душев- ной близости и доверительности. Область интимно-личных душевных признаний это, скорее, область художественной литературы, искусства, потому такое потрясающее впечатление производят романы того же Ф.М.До-стоевского, который делает зримыми самые тайные уголки человеческой психики, в том числе заводя разговор о стыдных, глубоко личных переживаниях. Это в некотором роде шокирует. Впоследствии читающую публику впечатлят художественные воспоминания М.Пруста, который шаг за шагом повествует о малейших движениях души, приближая читателя к развертыванию своих любовных увлечений почти в реальном времени.
В современной телевизионной и сетевой реальности, напротив, предъявление своих переживаний самому широкому кругу слушателей стало считаться нормой. Возник обширный круг личностей, по совместительству, нередко называемых актерами, певцами, танцорами, деятельность которых состоит по преимуществу, в обнародовании подробностей своей личной жизни и собственных многообразных переживаний по поводу происходившего или происходящего ныне. Хотя подобную роль могут играть и обычные граждане, но они менее интересны зрителю, и им надо припоминать какие-нибудь уж совсем чудовищные свои личные истории, а при этом желательно рыдать и биться. Это участники разнообразных «шоу с душевным раздеванием» «люди для обсуждения» или «люди для сплетен». Они не просто посвящают публику в фактологию собственных отношений с другими, но повествуют в подробностях о своем первом шоке и первой слезе, а потом о второй и третьей. Ведущий умело задает вопросы, добираясь до самых потаенных уголков памяти, рассказчики нагнетают градус, предаваясь деталям собственных эмоций, раскрывая подробности душевных метаний, и все это является развлечением для многомиллионной аудитории. То есть, факт переживания нещадно эксплуатируется, демонстративность приносит организаторам и участникам доходы. Переживание-воспоминание деинтимизиру-ется, теряет самоценность, становится спектаклем, искусственной формой самоподачи с целью заработка.
Несколько иную форму демонстрация переживаний получает в социальных сетях. Здесь в большинстве случаев речь не идет о заработке, но удовлетворяется потребность многих, в особенности, одиноких жителей мегаполисов в отреагировании эмоций. Люди размещают фотографии, рассказывают подробности как своих страстей, так и болезней, пишут исповеди, направленные не к близким, а «ко всему миру», оказываются «наедине со всеми». Правда, в ответ на эту обнаженность переживаний можно получить в ответ «от мира» насмешки и оскорбления, но тогда обидчика исключают из круга читателей и продолжают свой душевный стриптиз в более благорасположенном виртуальном окружении.
Хорошо все это или плохо? Прежде всего, это просто культурный факт, который, видимо, отвечает на назревшую в современном обществе потребность в массовой объективации переживаний и потреблении чужих эмоционально-заряженных воспоминаний, пусть даже в вульгарной форме телевизионных шоу.
Мода на переживания и ностальгия по ним
Как всякое явление культуры, тем более, культуры духовной, переживания могут становиться массово востребованными, модными, или же уходить в тень и делаться неактуальными и даже подлежащими осуждению. Разумеется, в разных социо-культурных группах «мода на переживания» может не совпадать, но бывают и общесоциальные модные переживания, диктуемые «духом времени», эпохой. Так в предревлюционной России в кругу интеллигенции была явная мода на декаданс – безысходную печаль, упадочнические, усложненные, изломанные переживания и сильные иррациональные страсти, о чем нам говорят творческие имена Иннокентия Анненского, Константина Бальмонта, Федора Сологуба, Дмитрия Мережковского, Зинаиду Гиппиус, Валерия Брюсова. Конечно, можно искать и находить социальные и исторические основания доминирования, в том числе, в творческой среде того или иного типа мрачных переживаний: война, социальные противоречия и конфликты, общая тревожность обстановки. Однако, рождаясь как реакция на обстоятельства, переживание, начав циркулировать в авторитетных культурных кругах, становится модой: ему начинают подражать, его начинают разделять, ему следуют, даже если к тому нет прямых причин. Так, произведение И.-В.Гете[5] «Страдания юного Вертера» породило в свое время серию самоубийств на почве неразделенной любви, потому что «самоубийственные страдания» стали модой.
В сущности, такой же модой во второй половине ХХ века становится переживание «чувства абсурда», вызванное не только военными событиями, но и экзистенциальной философией, создавшей вокруг этого переживания ореол изысканного интеллектуализма. Этот абсурд уже в наше время хорошо описывает Ч.Тейлор, связывая его с процессом секуляризации: «Мы можем почувствовать, что сфера нашей повседневности стала сухой, плоской, холодной, безответной, что окру- жающие нас вещи мертвы, уродливы, пусты, а те способы, какими мы пытаемся их упорядочить, организовать, оформить, чтобы жить среди них, лишены всякого смысла, красоты, глубины и значения. И пред лицом этого обессмысленного мира мы можем испытать своего рода «тошноту»»[16 С.393]. Здесь очевидна отсылка к «Тошноте» Ж.-П.Сартра [15]. Мода на «тошнотворное мировосприятие» успешно пережила и 40-е и 50-е годы, триумфально шествуя по западному миру и прокладывая путь к иррациональности постмодернизма.
В то же время можно сослаться на мажорную тональность переживаний. характерных для многих российских людей в период после гражданской и отечественной войны, когда страна вновь отстраивалась, восстанавливала силы, укрепляла свои идеалы и утверждала свое единство. Этот бодрый настрой на позитивные переживания не могли подорвать даже сталинские репрессии, которые, конечно, пронизывали все слои социальной жизни и вносили момент трагизма в атмосферу победы и строительства. Впоследствии освоение целины, полет в космос, хрущевская оттепель тоже делали доминирующим и принятым, в этом смысле модным , переживание мира как открытого для победы справедливости, как располагающего к новым начинаниям, науке и поэзии. Разумеется, тон для массового сознания в немалой степени задавало искусство – этот великий организатор общественных настроений.
Современная тоска старшего поколения по советскому прошлому, это своеобразная ностальгия не только по политической и экономической стабильности, но именно по бодрым настроениям, позитивным переживаниям, всегда свойственным молодости, но вместе с тем - и по той атмосфере, которая сопровождала детство и юность нынешних пожилых: образы светлого будущего и энтузиазм в его достижении.
К сожалению, многим современным людям мало знакомо переживание радости , не удовольствия, не злорадства, не наслаждения, не удовлетворенности, а именно радости – пребывания в состоянии глубокой осмысленности жизни и веселого душевного подъема. Даже если радость есть, она часто кратковременна, вспыхивает и тут же гаснет, а нередко и просто отсутствует. Между тем радость – важное человеческое переживание, хотя она есть и у животных, которые более непосредственны и не склонны себя огорчать поисками минусов, подозрительностью и застреванием на противоречиях. Конечно, у животных и радость – животная, хотя искренняя и яркая. Радость как переживание свойственна людям религиозно-мистического склада, способным чувствовать близость к божественному началу, являющему собой излияние чистой радости.
Интересная книга о переживании радости была ряд лет назад написана таким нетривиальным автором как Феликс Шмидель. В главке «Смысл и переживание» он пишет о том, что достижение в жизни любого осмысленного результата – «это достижение переживания желаемого чувства в собственном настоящем»[19 С.17]. И в следующей главке «Воля к радости»: «Человек находится в поисках смысла, потому что обретение смысла тождественно обретению радости. Можно сказать, что стремление к радости является основной личной потребностью человека, которую можно назвать волей к радости… Воля к радости – это и готовность к переживанию радости большей, чем непосредственно доступна в настоящем»[19 С.20]. Трудно не согласиться с автором, но драма в том, что большинство из нас чаще реализуют не менее сильную «волю к страданию», и негативные переживания, как на это указывал в свое время Э.Фромм, доставляют извращенное удовольствие и даже дают чувство покоя. Если человек отождествляет себя с «образом страдальца», то переживание радости грозит ему потерей идентичности. Возможно, современная психотерапия, уже широко распространенная в нашей стране, призвана не только лечить неврозы и помогать в унынии, но, не в меньшей степени – учить радоваться тех, кто, быть может, еще не впал в зависимость от тягостных переживаний, но уже потерял детскую способность к радости. Переживать радость, быть радостным, жить в радости – поистине есть подлинное «умение жить».
Вместо заключения
Проведенный нами беглый обзор разных ракурсов бытования переживания в культуре обнаруживает следующее:
-
1. Переживания, являясь значимыми состояниями, служат основанием для оценки социо-культурных качеств человека : «у хорошего человека переживания хорошие, воспоминания социально-одобряемые, у скверного – переживания, которые должны быть подвергнуты осуждению». Эта характеристика связана с тем, что переживания являются состояниями, предваряющими последующее поведение, мотиваторами поступков, они готовят деятельность и подводят ее итоги перед следующими актами социальной активности.
-
2. Объективированные в традициях и ритуалах переживания выполняют роль регуляторов, которые организуют человеческие массы, сообщают им цель, направляют и стимулируют. Повторяемость переживания, объективированного в ритуале, неизбежно провоцирует его имитативные формы.
-
3. Переживания, выраженные в произведениях искусства - в театральных постановках, разного рода сценических действиях и шоу -выступают как огромное поле развлечения, отдыха, структурируют время, служат предметом любопытства и интереса. Специализация переживания как сугубо развлекательного феномена вносит в него момент вульгаризации и отчуждения исполнителей от демонстрируемых чувств и прокламируемых идей.
-
4. Переживания, ставшие модными, организуют мощные идейно-эмоциональные линии в культуре, одушевляют мировоззренческие убеждения самого разного свойства. Это те модели, по которым строится душевная жизнь миллионов.
-
5. Однако, все сказанное не отменяет того, что субъективные, не обнародованные переживания , существующие как в форме непосредственной данности, так и в виде повторяющегося воспоминания, просто самоценны и составляют важнейшую сферу индивидуального сознания, осуществляя «связь времен» личного бытия. Поэтому обретение культуры интимно-личных переживаний, в том числе осуществление «воли к радости» - важная внутренняя задача любого человека.
Список литературы Феномен переживания: культурные грани и ракурсы
- Василюк Ф.Е. Психология переживания. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 200 с.
- Выготский Л. С. Учение об эмоциях. Историко-психологическое исследование Собрание сочинений в 6 т. Москва: Научное наследство. Т. 6— 1984. С. 91-318.
- Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Москва: Прогресс, 1988. - 704 с.
- Гайнутдин Р. Ислам: вероучение , поклонение , нравственность, закон. — Москва: ООО «Издательский дом „Медина"», 2019. — 728 с.
- Гете И.-В. Страдания юного Вертера. Москва: Художественная литература, 1981. - 293 с.
- Дильтей В. Наброски к критике исторического разума// Вопросы философии. -№4. -1988. -С. 135-152.
- Зиммель Г. Избранное. Созерцание жизни Т.2. — Москва: Юрист, 1996. — 607 с.
- Жуков Д.А. Стой, кто ведет? Т.2, Москва: АНФ, 2014. - 374 с.
- Ильин Е.П. Эмоции и чувства. Москва: Питер, 2001. - 752 с.
- Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции: Конспект лекций. Москва: МГУ, 1971. - 38 с.
- Лоренц К. Кольцо царя Соломона. Москва: Знание, 1970. - 224с.
- Мелас В.Б. Переживание и событие. Философские очерки. - Санкт-Петербург.: Изд-во ВВМ, 2009. - 237 с.
- Отто Р. Священное. Санкт-Петербург: Издательство С.-Петербургского университета, 2008. - 272 с.
- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии //С.Л. Рубинштейн. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 720 с.
- Сартр Ж.-П. Тошнота//Сартр Ж.-П. Стена . Избранные произведения. Москва: Издательство политической литературы, 1992. - С.15-176.
- Тейлор Ч. Секулярный век. Москва: ББИ, 2017. - 967 с.
- Фрейд З. Недовольство культурой // Фрейд З. Психоанализ, религия, культура Москва: Ренессанс 1992. - С. 66-134.
- Шелер М. Положение человека в космосе// Проблема человека в западной философии Москва: Прогресс, 1988, - С.31-95.
- Шмидель Ф. Воля к радости. Москва: Новое литературное обозрение, 2012. - 208 с.
- Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории Т.2. Москва: Мысль, 1998. - 606 с.
- Шюц А. Мир светящийся смыслом. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. — 1056 с.
- Юнг К. Психологические типы. Санкт-Петербург: Ювента, Прогресс-Универс, 1995. - 716 с.