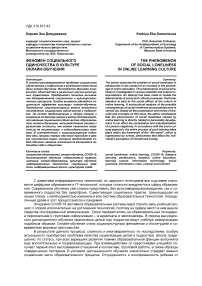Феномен социального одиночества в культуре онлайн-обучения
Автор: Коркия Эка Демуриевна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 3, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема социального одиночества у подростков в контексте увеличения доли онлайн-обучения. Исследуется феномен социального одиночества в различных научно-культурных трактовках. Предпринята попытка вычленения детерминантов социального и культурологического процессов. Особое внимание уделяется социальным эффектам культуры онлайн-обучения. Проводится социокультурный анализ возможных последствий социального одиночества у подростков. На основе представления и обзора теорий и концепций по данному вопросу автор подчеркивает, что явление социального одиночества, обусловленного онлайн-обучением, непосредственно связано с развитием личности, оно может негативно отразиться на социализации и индивидуализации человека. В соответствии с социокультурным подходом весь процесс такого обучения проходит в рамках «жизненного мира», который представляет собой события, явления, влияющие на восприятие индивидом себя и общества.
Социальное одиночество, онлайн-обучение, COVID-19, дистанционное обучение, подростковый возраст, изоляция, онлайн-образование, культура обучения, информационные технологии, социальные практики, информационный кризис, культурная среда
Короткий адрес: https://sciup.org/149134672
IDR: 149134672 | УДК: 316.613.43 | DOI: 10.24158/spp.2021.3.4
Текст научной статьи Феномен социального одиночества в культуре онлайн-обучения
С развитием информационных технологий, их широкого потенциала все ощутимее становится диффузия образования и IT-технологий, которые тотально внедряются в сферу образования. Современное обучение уже сложно представить без мультимедиасопровождения, как и современного подростка без смартфона. Сциентизация социальных практик, произошедшая на наших глазах, с необходимостью изменила и всю систему образовательных технологий. Определенный драйв в этот процесс внесла и пандемия.
Эпидемия COVID-19 заставила образовательные системы мира строить весь учебный процесс с опорой исключительно на достижения технологий, поэтому на первое место в нем вышли средства опосредованной коммуникации. Уроки переместились на образовательные площадки, а персональная и групповая коммуникация – в видеочаты и мессенджеры. В период вынужденного дистанционного обучения (фактически целый год) подростки ведут учебную коммуникацию подобным образом. Онлайн-обучение стало социокультурным феноменом и институцией в современном мировом пространстве.
В результате данного процесса, сложного и многовариантного по последствиям, особую актуальность приобретает проблема качества социализации детей и подростков. Школа традиционно, по статусу, при всех вариациях развития помимо образовательной функции выполняла еще воспитательную и социализирующую. При взаимодействии со сверстниками учащийся получает первый опыт выстраивания отношений в коллективе, групповой работы, а также образцы поведенческих паттернов. В условиях дистанционного обучения значительно страдает именно социальная часть образовательного процесса. Отчужденность и изолированность ребенка от коллектива и живого общения, что само по себе неестественно, создают опасность возникновения чувства одиночества. Хотя школьник находится в семье, продолжает живое общение с родителями и де-факто не остается один, отсутствие личного взаимодействия cо сверстниками может приводить к формированию особого ощущения – социального одиночества.
Проблема одиночества стала актуальной для человека с момента возникновения общества, с ходом развития социальной сферы эволюционировали и многообразные подходы к пониманию значения одиночества для индивида. На сегодняшний день существует широкий спектр концепций и методик анализа состояния социального одиночества. Следовательно, чтобы вести речь о противодействии формированию данного феномена, необходимо разобраться в трактовке понятия и причинах его появления [1].
Процесс активного становления теоретических концепций в социальной науке в конце второй половины XIX в. постулировал обновленный порядок интерпретации переживания ощущения одиночества, который зиждился на полипредметности теоретических изысканий и психологических исследований, а также определении доминант различного порядка в природе человеческого бытия [2, с. 304; 3]. В обозначенный период происходит явная дифференциация многообразных подходов к трактовке феномена одиночества. Наступившая эпоха господства модернизма в психологической науке опирается на тенденции объективизации знания в научной интерпретации. Зарубежное гуманитарное знание углубляется в индивидуальные экзистенциальные аспекты человеческой жизни. Так, популярные теории персонализма, тейярдизма, философии жизни и другие внесли весомый вклад в выработку европейской рефлексии по проблемам одиночества. В свою очередь, русская философская мысль выделялась глубинным психологизмом, субъективизмом и пронизывающим трагизмом. Одиночество интерпретируется в ней через призму поиска человеком пути к саморазвитию, самосовершенствованию, достижению истины. Здесь одиночество выступает как неотъемлемый атрибут развития и символ близости к истинности бытия [4].
Проблематика социального одиночества получила отражение в социальной научной мысли. Однако для предметного понимания и выработки операциональных теорий необходимо обратиться и к другим концепциям, в частности к психологическому пониманию феномена одиночества. Так, видный представитель психоаналитического направления Э. Фромм считал, что одиночество имманентно человеческому существованию, потому что является прямым следствием оторванности людей от единства с природным бытием. В силу этого человеку свойственно испытывать чувство одиночества в отношении не только к глобальным бытийным принципам мироздания, но и в том числе к ближайшему социальному окружению. Э. Фромм делает акцент на том, что личное переживание изолированности и отсутствия приобщенности к какой-либо социальной группе может приводить и зачастую приводит к серьезным психологическим отклонениям, а также к патологии и девиации дальнейшего психофизического развития [5]. Исследователь утверждает, что даже абсолютное удовлетворение базовых физиологических потребностей не может гарантировать индивиду продуктивное гармоничное саморазвитие, поскольку в подобном случае разворачивается процесс изоляции от окружающего социума. Э. Фромм выделил два пути постепенного принятия и преодоления всеобъемлющей изоляции. Первый характеризуется устремлением к обретению единства на духовном, сакральном, социальном или межличностном уровне. Второй путь выражается доминирующей позицией субъекта по отношению к окружающему его социуму, что должно создавать феномен консолидации окружающих личность людей, а самого индивида – выносить за границы создающего данное единое и целостное [6].
Позиция Э. Фромма представляет собой, по сути, гуманистическую эволюцию и проработку идей З. Фрейда. Классический психоанализ, опирающийся на идеи его основателя, определяет одиночество как абсолютно негативный феномен, который выражается в отсутствии гармонизации человеком инстинктивно- бессознательного и морально-этического. Некорректная реализация ли-бидозной энергии в описанном случае влияет на постепенное или радикальное усугубление изоляции личности от общества, что приводит к ряду психических и поведенческих девиаций [7].
Современники Э. Фромма – не менее известные исследователи В. Франкл и К. Роджерс – предложили иную трактовку феномена одиночества. Так, первый рассматривает данное состояние личности через призму отсутствия смысла жизни в целом, вместе с нереализованностью в профессиональной сфере и области близких межличностных контактов, что он определял базисным с точки зрения обретения смысла в любви и интенциональности человеческого бытия. Это приводит к толкованию одиночества как состояния потери смысла собственной реализации, зацикленности на самом себе, что не позволяет найти смысл в трансцендентном, выходящем за пределы понимания себя как индивида и общества и как совокупности индивидов [8].
В свою очередь, К. Роджерс выдвигает теорию социально желательного поведения, которое противопоставляется истинной самоактуализации. Индивид ставится перед выбором: качественно адаптироваться для того, чтобы достигать личных целей и в дальнейшем двигаться к самоактуализации, или развиваться в сторону противопоставления социальному и, теряя гибкость и общественную адаптивность, нивелировать любую возможность для реализации собственных социальных потребностей [9].
Р. Вейс разделяет ресурсность и подкрепление переживания одиночества, размышляя о парадоксальности внешней атрибутики благополучия и интеграции в какую-либо социальную общность. В переживании одиночества он определяет два направления. Первое характеризуется непосредственной эмоциональной изоляцией личности, что, в свою очередь, опосредовано неудовлетворенностью личной близостью и доверительностью собственных контактов с конкретным человеком. Второе направление отражает одиночество социальное, которому свойственно ощущение отсутствия необходимого круга социальных контактов [10].
На амбивалентность природы переживания одиночества указывает Дж. Фландерс, который помещает социальное одиночество в границы собственного теоретико-системного подхода. Со стороны реализации процесса общественных отношений переживание человеком хронического одиночества становится деструктивной интенцией на дороге к патологиям в ходе интеграции в социальную деятельность. При этом осознанный подход индивида к собственному переживанию одиночества должен стать рефлексивным инструментом для изменения стратегии самореализации, а также реализации своего потенциала в профессиональной деятельности и межличностном общении [11].
Д. Янг определяет понятие одиночества через различия в уровне развития когниций. Одиночество, по его мнению, есть следствие несоответствия желаемого уровня развития и глубины существующих социальных контактов с доступным уровнем: «Одиночество – отсутствие или воображаемое отсутствие удовлетворительных социальных отношений» [12, с. 552].
Сказанное приводит к трактовке одиночества как некой формы кратковременной или длительной социальной изолированности, разрыва социальных связей индивида, который ощущает потребность в неформальных контактах, а описанный разрыв порождает у него комплекс отрицательных эмоций. Под подростками мы понимаем детей в возрасте 12–14 лет, что соответствует периоду младшего подросткового возраста в возрастной периодизации Д.Б. Эльконина, а также детей в возрасте 15–17 лет, что отвечает старшему подростковому возрасту в той же периодизации. Важной особенностью социального одиночества у подростков является именно возраст, в котором оно возникает, что напрямую коррелирует с возможными последствиями [13, с. 23].
При прохождении кризисов взросления ребенок меняется как внешне, так и внутреннее. Изменения связаны с гормональной перестройкой организма, в силу чего возникает интерес к противоположному полу. Особое значение приобретает то, насколько твои внешность и поведение соответствуют принятым в группе, от чего зависит самооценка. Неравномерность внешнего развития и проблемы в установлении социального контакта в рефератной группе могут вести к попыткам дистанцироваться от общества. Как правило, именно в подростковом возрасте формируется возможность разделения понятий одиночества и уединения. Если младшие школьники и дошкольники одиночество чаще всего определяют как отсутствие людей вокруг, то подростки говорят о неудовлетворительности качеством общения в коллективе. Речь идет о ситуации, когда формально подросток включен в социум, но устоявшихся дружеских связей в нем не имеет.
В подростковом возрасте проблема одиночества приобретает настолько важное значение, что ее изучение и решение становится одной из приоритетных задач возрастной психологии, педагогики [14]. Подростковый возраст – время формирования самосознания, становления личности, когда она обязательно сталкивается с переживанием чувства одиночества [15]. По мнению отечественного ученого И.С. Кона, «чувство одиночества… это нормальное явление, следствие рождения внутренней жизни» [16, с. 59]. Подросток в этом возрасте стремится продемонстрировать окружающему миру, а также самому себе свои уникальность, ценность, неповторимость и значимость. В итоге он сталкивается с переживанием одиночества, откровенного «разговора с собой», в результате чего происходят индивидуализация, обособление и развитие личности [17].
На сегодняшний день феномен социального одиночества в культуре онлайн-обучения трансформируется, приобретая принципиально новые грани в цифровом обществе. Еще до перехода на дистанционные методы обучения социальное одиночество в среде подростков входило в список основных причин суицида наряду с другими личностным девиациям с такими социально опасными последствиями, как депрессия, алкоголизм, игромания [18]. По данным официальной статистики, в современном мире 1 млн человек каждый год кончает жизнь самоубийством, в силу чего важно уделить внимание специфике формирования социального одиночества, особенно механизмам социализации подростка в условиях изолированности от прямого контакта с учебным коллективом. В условиях дистанционного обучения коммуникация как с учащимися, так и с педагогами осуществляется через «посредника», а именно видео- и аудиоконференции, а также социальные сети. Если в случае с видеосвязью задача в большей степени сводится к передаче и контролю усвоения учебного материала, то в случае социальных сетей речь идет о формировании специфического социума – виртуального коллектива учащихся.
Рассмотрение вопроса интернет-коммуникации на сегодняшний день не имеет аксиологической оптики о пользе или вреде такого общения. Однако мы склонны полагать, что общение в социальных сетях сейчас является повсеместно распространенным и неотъемлемым феноменом социальной жизни не только подростка, но и взрослых. В силу этого наблюдается необходимость изучения социальных сетей исключительно как способа опосредованной социализации подростка.
Существует ряд исследований, представляющих порой противоположные взгляды на пользу интернет-коммуникации в среде подростков. Отечественные авторы А.И. Войскунский и В.Д. Менделевич пришли к негативным выводам. В частности, быстрое и регулярное просматривание сайтов и контента социальных сетей приводит к тому, что мозг человека начинает утрачивать способность к аналитическому мышлению. Это превращает постоянных пользователей в импульсивных и не способных к интеллектуальной работе людей [19]. Ученые считают, что созданные как дополнительные средства коммуникации социальные сети при длительном обращении к ним формируют социальную проблему: у пользователей-подростков появляются сложности в общении с новыми людьми, а попадание в незнакомую компанию становится стрессовой ситуацией. Со временем молодой человек замыкается в себе, что неизбежно влияет на учебу, возникают проблемы с приемом пищи и сном, справиться с которым без помощи специалиста становится затруднительно. Кроме того, по мнению данных авторов, помимо мыслительных и психических отклонений могут наблюдаться физиологические заболевания. В итоге уход в виртуальное общение ведет к редукции навыков взаимодействия с другими людьми, нарушениям в эмоциональной сфере, поскольку виртуальная реальность не дает истинного представления об окружающем мире, формируется ощущение реальности виртуального мира и абсолютной ненужности естественного, повседневного. При этом у подростков фиксируется искаженное восприятие собственной личности, объективной реальности, что приводит к трудностям при становлении дифференцированных и адекватных представлений о себе. Перенос коммуникации из реальных условий социума в сеть обусловливает аутизацию подростка, который начинает хуже распознавать реальные человеческие эмоции [20, с. 31].
Однако существует противоположное мнение. Так, М.В. Шматко и Е.А. Савченко реализовали исследование, в результате которого пришли к выводу, что тренировка коммуникативных навыков в социальных интернет-сетях позволила ее участникам накопить положительный опыт и применить его при установлении личных контактов [21]. Авторы отметили, что погружение подростков в опосредованный мир социальных сетей может привести к формированию различного рода страхов, связанных с личным общением только при отсутствии коммуникативных навыков как таковых, т. е. опыта удачного общения в референтной группе до использования возможностей социальных сетей. Кроме того, проведенный учеными эксперимент наглядно показал, что независимо от коммуникативного потенциала, врожденных способностей человека можно научить эффективной коммуникации с другими людьми, а также добиться целей через информационное воздействие.
В заключение стоит отметить, что проблема социального одиночества существовала в течении всей истории человечества. Осознанное уединение может вести к социокультурному личностному прогрессу, способствовать развитию навыка саморефлексии и самоанализа. Однако вынужденная изоляции способна обеспечить ускоренное формирование деструктивных личностных кризисов у подростка, поскольку ввиду изолированности от сверстников он обладает меньшими возможностями наблюдения подобных кризисов, а значит, имеет в арсенале меньше стратегий совладения с ними.
В контексте онлайн-обучения следует уделить значительное внимание использованию социальных сетей как средства для создания виртуальной культурно-коммуникативной среды, где подросток будет иметь возможность общения как с группой сверстников, так и индивидуально с каждым из них. Как правило, этому способствует создание виртуальных классов, где учащиеся объединяются в команды для достижения учебных или социальных целей. Проблема профилактики социального одиночества имеет огромное значение для успешной социализации личности, социально-экономического и культурного развития общества. Однако не менее важна параллельная работа по формированию у подростка чувства социальной ответственности за свои действия, воспитанию стремления иметь благополучную семью, укреплению уважения к представителям противоположного пола, развитию умения учитывать интересы окружающих и способности к самоорганизации, что в целом свидетельствует о необходимости исследования проблематики социокультурного воспитания и становления личности в условиях культуры онлайн-среды. Современный этап культуры онлайн-обучения отражает не только общий тренд на цифровизацию образовательных практик, но и широкий спектр социальных процессов: атомизацию общества, дискретность культурного поля и вынужденную изоляцию.
Ссылки:
Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна
Список литературы Феномен социального одиночества в культуре онлайн-обучения
- Коркия Э.Д. Одиночество как предмет социокультурологического исследования // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 12. С. 38-41. https://doi.org/10.23672/l1142-1217-9355-q.
- Мамардашвили М. Психологическая топология пути // Мир человека : хрестоматия для учащихся полной средней школы (X-XI кл.) / под ред. А.Ф. Малышевского. М., 1993. С. 297-306.
- Moustakas C.E. Loneliness. Englewood Cliffs, 1961. 128 p.
- Фромм Э. Бегство от свободы. М.; Мн., 2005. 383 с.
- Фромм Э. Здоровое общество / пер. с англ. Т. Банкетовой. М., 2006. 539 с.
- Чурилова Е.Е., Каминская М.А. Феномен одиночества в философии и психологии // Вестник Вятского государственного университета. 2020. № 1. С. 114-129. https://doi.org/10.25730/VSU.7606.20.013.
- Фрейд 3. Тотем и табу. М., 1997. 446 с.
- Франкл В.Э. Человек в поисках смысла : сборник : пер. с англ. и нем. М., 1990. 367 с.
- Роджерс К.: 1) К науке о личности // История зарубежной психологии : тексты. М., 1986. С. 14-40 ; 2) Эллен Вест и одиночество // Московский психотерапевтический журнал. 1993. № 3. С. 30-45.
- Вейс Р.С. Вопросы изучения одиночества // Лабиринты одиночества : пер. с англ. / сост., общ. ред. и предисл. Н.Е. Покровского. М., 1989. С. 114-128.
- Flanders J.P. A General Systems Approach to Loneliness // Loneliness. A Sourcebook of Current Theory, Research and Therapy / ed. by L.A. Peplau, D. Perlman. N. Y., 1982. P. 166-179.
- Янг Дж.И. Одиночество, депрессия и когнитивная терапия: теория и ее применение // Лабиринты одиночества. С. 552-593.
- Платонова Н.М. Основы социальной педагогики : учебное пособие. СПб., 1997. 118 с.
- Дольто Ф. На стороне подростка / пер. с фр. А.К. Борисовой. СПб., 1997. 278 с.
- Старшенбаум Г.В. Любовь против одиночества. М., 1991. 64 с.
- Кон И.С. Открытие «я». М., 1978. 367 с.
- Там же.
- Самоубийцы среди нас - официальная статистика [Электронный ресурс] // Статистика. ru : портал статистических данных. 2007. 15 нояб. URL: http://statistika.ru/naselen/2007/11/15/naselen_9298.html?curPos=10 (дата обращения: 22.03.2021).
- Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е., Смыслова О.В. Интернет: воздействие на личность // Гуманитарные исследования в Интернете / под ред. А.Е. Войскунского. М., 2010. С. 11-39.
- Там же. С. 31.
- Шматко М.В., Савченко Е.А. Оценка лидерского и коммуникативного потенциала абитуриентов и студентов омских вузов // Омские социально-гуманитарные чтения - 2016 : материалы IX Международной научно-практической конференции. Омск, 2016. С. 220-224.